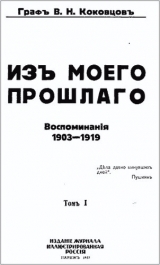
Текст книги "Из моего прошлого 1903-1919 г.г."
Автор книги: Владимир Коковцов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 77 страниц) [доступный отрывок для чтения: 28 страниц]
Государь смотрел на этот вопрос проще. Он видел, что дело так дальше идти не может. Ему говорили об этом со всех сторон, не исключая и членов самого правительства. Он читал большинство возмутительных речей, произнесенных в целом ряде заседаний, а когда они дошли до настоящего апогея в вечернем заседании 17-го апреля и затронули честь и достоинство того, что было всего ближе Его сердцу – нашу армию, по адресу которой депутат Зурабов произнес совершенно недопустимые суждения, – у Него не могло быть иного отношения, как недоумение, куда же идти дальше и чего же еще ждать.
Это Он и высказал открыто Столыпину, как говорил не раз и мне не встретивши со стороны Столыпина какого-либо возражения по существу. Государь не входил вовсе в рассмотрение детального вопроса о необходимости соблюсти какую-то особенную осторожность при роспуске. Его взгляд был до известной степени примитивен, но ему нельзя по справедливости, отказать в большой логичности. Я хорошо помню, как на одном из моих всеподданнейших докладов в промежутке между 17-м апреля и 10-м мая, Государь прямо спросил меня, чем объясняю я, что Совет Министров все еще медлить предоставить Ему на утверждение указы о роспуске Думы и о пересмотре избирательного закона, и когда я стал разъяснять Ему точку зрения Совета о необходимости соблюсти всю допустимую осторожность и принять эту решительную меру только в том случае, если Дума не порвет своей солидарности с социал-демократическою фракциею и откажется дать разрешение на предание ее суду, – Государь сказал мне совершено просто: «неужели же думает Совет Министров, что Дума такая, какою мы ее знаем, найдет большинство голосов для принятия такого решения», и когда я ответил ему, что Совет, конечно, уверен в том, что этого не удастся достигнуть, но нужно сделать так, чтобы отказ последовал со стороны Думы, и тогда каждому станет ясно, что правительству не оставалось ничего иного, как допустить крайнюю меру во имя спасения не только своего достоинства, но и устранения государственной катастрофы, – Государь сказал мне на это:
«все это прекрасно, но нужно принять необходимую меру раньше, чем она окажется последним средством, и, во всяком случае, избегнуть нареканий нам никогда не удастся, и следует идти не за теми, кто больше кричит о незаконности, а сам готовит совершить быть может самую большую, а за теми, кто пока молчит и недоумевает, почему бездействует правительство и Я сам».
Я передал в тот же день слова Государя Столыпину. П. А. имел вслед затем разговор с Государем и уверил его, что никаких колебаний ни с его стороны, ни со стороны Совета Министров нет и не будет, что после инцидентов в заседаниях 7-го и 10-го мая, сношения его с Думою о выдачи соц. демократической фракции ведутся самым усиленным темпом, что новый избирательный закон готов в том виде, как он уже известен Государю, и он просит, поэтому, оказать ему доверие и не обвинять его в слабости, а тем более в попустительстве Думе. Государь казался совершенно успокоившимся и ни разу более не заговаривал со мною после этого дня до самого моего последнего перед роспуском Думы доклада, который пришелся на 1-ое июня, то есть, как раз накануне того исторического заседания Совета Министров поздно вечером в субботу 2-го июня на Елагином острове, когда был получен и указ о роспуске Думы и указ о новом избирательном законе. Об этом заседании я скажу в своем месте.
Повторяю, что лично я считаю, что роспуск второй Думы был окончательно и бесповоротно решен еще 18-го апреля после закрытого заседания Думы накануне по законопроекту о контингенте новобранцев набора 1907 года. Все то, что произошло затем 7-го мая, и в ряде последующих заседаний, было только лишними каплями окончательно переполнившими накопившейся сосуд долготерпения как правительства, так и самого Государя.
Вот что произошло на закрытом заседании 17-го апреля.
Министерство Внутренних Дел внесло в Государственную Думу законопроект об определении контингента новобранцев, подлежащих призыву осенью того же года, на пополнение армии и флота. В заседание Думы прибыли представители всех трех ведомств – Военного, Морского, Внутренних Дел, с многочисленным составом своих сотрудников, на случай каких-либо справок и разъяснений. Столыпин не поехал лично в заседание, чтобы не давать повода говорить, что правительство придает делу особое значение, хотя из доходивших до сведения Совета Министров, из так называемых кулуарных источников, слухов нужно было думать, что заседание не пройдет гладко, и ожидаются многочисленные оппозиционные выступления. Столыпин говорил на это совершенно естественно, что иного ничего нельзя и ожидать, но если ему и всему правительству в предвидении всяких выступлений нужно являться в Думу в полном своем составе, то ему предстоит. просто не выходить вовсе из Думы и прекратить всякую деятельность по управлению и отдаться исключительно одной Думской, совершенно бесплодной работе.
Председательствовал лично Председатель Думы Головин. Прения сразу приняли приподнятый и страстный характер. Застрельщиками явились кадетские депутаты, развивая в их речах обычные общие места о тяжести воинской повинности для населения, об устарелости самых оснований отбывания ее, о наступлении для России поры мирного строительства, допускающего полную возможность пересмотреть эти основания и начать сокращение состава армии, а пока этого не сделано, нельзя говорить о контингенте и продолжать привлекать население к этой повинности. После них стали говорить трудовики, постепенно повышая тон своих речей и обостряя аргументы о тяжести воинской повинности, которая просто разоряет страну, отвлекая от производительного труда цвет населения и развращая его в казармах в угоду неизвестно каким именно государственным потребностям, но, во всяком случае, не отвечающим интересам русского народа и т. д.
Представители правительства, по очереди, просили слова, разъясняя в самой сдержанной форме неправильность выслушанных возражений и невозможность построить на них какую-либо организацию обороны страны. Они приводили какие предположения имеются вообще в виду для облегчения населения, а главное представляли совершенно убедительные доводы о том, насколько население России менее затрагивается воинскою повинностью нежели население большинства стран, знающих институт общей воинской повинности.
Сдержанность тона этих объяснений вызывала совершенно приличные одобрительные замечания с места депутатов правой фракции, поддерживавших всегда правительство, но слева и из центра стали все более и более резко раздаваться голоса иного характера, которые постепенно переходили в перебранку и прямые оскорбления представителей власти. Председатель никого не останавливал, несмотря на то, что справа его просили не допускать выходок неприличного свойства. Очередь дошла до кавказского депутата Зурабова, уже и ранее составившего себе прочную известность его демагогическими выступлениями по целому ряду запросов и даже однажды, после объяснений Столыпина, дававшего разъяснение по одному из них и собиравшегося, после своего объяснения, покинуть собрание, как часто делали все мы, исполнивши свою обязанность, выкрикнувшего по адресу Столыпина знаменитую фразу, произнесенную со свойственным ему резким восточным акцентом: «Гаспадин Министр, пажалуйства, пагади, не уходи, я тебя еще ругать буду».
Зурабов сразу придал своей речи небывалый даже для второй Думы тон и построил ее на сплошных оскорблениях армии, уснащая свою речь чуть что не площадною руганью и возводя на правительство не поддающиеся повторению обвинения в развращении армии, в приготовлении ее исключительно к истреблению мирного населения и закончил прямым призывом к вооруженному восстанию, в котором понявшие, наконец, гнусную роль правительства войска сольются с разоренным населением и свергнут ненавистное правительство, в своем слепом заблуждении не видящее, что войска давно только ждут минуты свести свои счеты не с внешним, а с внутренним врагом.
Зурабов закончил под гром рукоплесканий призывом к отклонению законопроекта и к отказу доверия правительству, ведущему политику ненависти к населению. Говорить о том, что происходило во время этой речи в самой Думе, как крики негодования раздавались с немногочисленных правых скамей, чем отвечали на эти крики единомышленники Зурабова, а их было подавляющее большинство, каким возмущением охвачены были присутствующие за безразличие Председателя, не остановившего оратора и даже после требования об этом с правых скамей, сделавшего это как-то нехотя в самой деликатной по отношению к Зурабову форме, несмотря на то, что в его речи были прямые оскорбления по адресу Государя, – повторять все это теперь бесцельно. Военный Министр Генерал Редигер вышел на Трибуну и в короткой, но самой резкой реплике отметил всю недопустимость этого выступления и заявивши о том, что он считает ниже достоинства правительства отвечать на подобную речь, – покинул заседание.
Весть о происшедшем разнеслась немедленно по городу, хотя заседание было закрытое и публики в нем не было. В широких кругах стало громко раздаваться убеждение в том, что роспуск стал неизбежен. Того же мнения держался и Совет Министров, когда на другой день мы все были собраны Столыпиным в экстренное заседание. Такое же мнение высказал и сам Столыпин, но находил только невозможным произвести роспуск Думы без того, чтобы одновременно был назначен созыв новой и были опубликованы утвержденные в порядке Верховного управления, указом Государя, новые правила о производстве выборов. Разработка этих правил, однако, еще не была окончена, и у самого Государя оставались некоторые сомнения по отдельным частностям, требовавшие еще работы нескольких недель. Каковы были объяснения Государя с Столыпиным, – происходившие на другой день, – я не знаю, но помню только, что в следующем заседании Совета Министров, – а собирались мы в ту пору очень часто, не менее двух раз в неделю, – Столыпин сказал нам, что Государь разделил его точку зрения и настаивает лишь на том, чтобы избирательный закон был представлен Ему на рассмотрение в окончательном виде как можно скорее, потому, что необходимость роспуска Думы не допускает в Нем больше никаких сомнений.
Мой доклад у Государя пришелся на пятницу 17-го апреля, в день закрытого заседания Думы, и Государь сказал мне только, что он с большим нетерпением ждет известий, как оно кончится, хотя Он не допускает мысли о том, что Дума рискнет отказать в утверждении контингента новобранцев. Таким образом, я не видел Государя после этого исторического заседания целую неделю. В четверг, 23-го, в день именин Императрицы, выход во дворце был немноголюдный и никаких особых разговоров на эту тему вообще не было, но зато на другой день, 24-го, на моем очередном докладе, Государь прямо встретил меня словами: «Я до сих пор не могу опомниться от всего того, что мне передано о заседании Думы прошлой пятницы. Куда же дальше идти и чего еще ждать, если недостаточно того, чтобы открыто призывалось население к бунту, позорилась армия, смешивалось с грязью имя Моих предков, – и нужны ли еще какие-либо доказательства того, что никакая власть не смеет молчаливо сносить подобные безобразия, если она не желает, чтобы ее самое смыл вихрь революции. Я понимаю Столыпина, который настаивает на том, чтобы одновременно с роспуском был обнародован новый выборный закон, и готов еще выждать несколько дней, но Я сказал Председателю Совета Министров, что считаю вопрос о роспуске окончательно решенным, более к нему возвращаться не буду и очень надеюсь на то, что Меня не заставят ждать дольше того, что необходимо для окончания разработки закона, который, по Моему мнению, тянется слишком долго».
Я ответил на это только, что Совет не имеет в своей среде никаких колебаний, но пытался оправдать кажущуюся медленность разработки выборного закона его техническою трудностью и необходимостью предусмотреть все, чтобы не допустить повторения неудачных опытов избирательного закона 11-го декабря 1905 года.
Прошло однако еще целых пять недель прежде, чем роспуск Думы стал фактом, я тем временем произошло еще одно заседание Думы, которое усугубило необходимость роспуска, хотя мне лично казалось, что правительству было выгоднее распустить Думу на почве недопустимых ее действий 17-го апреля, нежели ждать еще осложнения, которое произошло на почве инцидента, разыгравшегося в заседании 7-го мая. Я говорил в этом смысле в Совете Министров тотчас после заседания 17-го апреля, многие члены Совета были одного со мною мнения, – но окончательная отделка избирательного закона все еще тянулась, несмотря на величайшую энергию и искусство, проявленные Крыжановским, и приходилось поневоле ждать, укрепляя тем самым убеждение Думы в том, что ее не распустят, и она и дальше может безнаказанно продолжать ее разрушительную работу.
Подошло 7-ое мая. Накануне, 6-го мая, в день рождения Государя, был выход в Царском Селе, к которому был приглашен и председатель Думы Головин, державшийся совершенно обособленно от всех и не разговаривавший ни с кем из Министров, несмотря на то, что многих из нас он уже знал по нашим посещениям Думы. Среди Министров и придворных было, однако, немало разговоров по поводу завтрашнего заседания Думы, так как газеты оповестили, что в нем будет предъявлен запрос правительству по поводу обнаруженных будто бы покушений на жизнь Государя, и нас спрашивали даже, правда ли, что этот запрос был так сказать спровоцирован самим правительством и чем это вызвано? Меня спросил об этом между прочим Обер-Гофмаршал гр. Бенкендорф, которому я совершенно добросовестно ответил, что не допускаю и мысли о том, чтобы запрос был вызван самим правительством, которое в нем и не нуждается, но что мы знаем, что такой запрос будет сделан, что он даст место патриотическим выступлениям со стороны некоторых членов Думы, что председатель Совета Министров, в качестве Министра Внутренних Дел, решил быть лично на заседании, чтобы немедленно дать объяснение и снять настроение тревоги, естественно господствующее среди определенной части Думы, но остальные Министры, вероятно, кроме одного, Министра Юстиции, не будут присутствовать на заседании. Гр. Бенкендорф спросил меня, может ли он передать Государю содержание его беседы со мною, на что я, конечно, ответил, что предоставляю ему полную свободу располагать моим сообщением тем более, что оно повторяет лишь то, что было недавно решено в Совете Министров.
И действительно, когда но городу стали, как всегда, с большим опозданием, ходить слухи о том, что раскрыт новый революционный очаг, готовящий ряд террористических действий, Совет Министров разъяснил, что правительству это было известно еще в половине апреля, и что слухи эти относятся еще к событиям, ставшим известным и Министерству Внутренних Дел и прокуратуре в самом начале года и ликвидированным уже в конце марта арестом всех обнаруженных участников.
Столыпин сообщил нам все существенные подробности и не имел вовсе в виду делать их предметом широкой гласности, но, как водится, они просочились в публику, дошли и до Думы, и от имени правой ее фракции покойный Гр. Бобринский посетил Столыпина и предупредил его, что фракция готовит сделать ему запрос, имея, между прочим, в виду сделать из него затем предмет патриотического выступления в Думе. У Столыпина не было ни права, ни желания мешать им в этом и за несколько дней до 7-го мая ему, всем нам стало известно, что такой запрос будет заявлен именно в понедельник, 7-го мая, и, вероятно, будет тут же заслушан Думою, если только правительство не воспользуется предоставленным ему по закону месячным сроком для дачи своего разъяснения. Столыпин обещал не требовать месячного срока, но предварил Бобринского, что оговорит в своих объяснениях, что поднятый ими вопрос не принадлежит к числу тех, по которым Дума может делать запросы Правительству, и он даст свое объяснение только потому, что понимает напряженное состояние членов Думы, желающих знать открыто, насколько их тревога справедлива.
Так, оно и вышло, и даже газеты за день или за два до 7-го мая открыто заявили, что такой запрос будет оглашен именно 7-го числа и послужит вероятно предметом объяснения правительства в тот же день.
Хоры Думы в этот день были полны до отказа. Депутаты собрались в большом количестве, но когда открылось заседание, всеобщее внимание было привлечено тем, что не только крайние левые скамьи были совершенно пусты, но и во всем левом секторе было очень много пустых мест, а с началом заседания и еще многие депутаты из трудовиков как будто незаметно вышли. Демонстративно отсутствовала приблизительно четвертая часть Думы.
Заседание началось буквально так, как сообщили газеты очевидно получившие информацию из официальных думских источников. Головин огласил поступившее за подписью 30-ти членов правой фракции заявление с просьбою обратиться к Председателю Совета Министров за разъяснением степени справедливости дошедших до сведения подписавших запрос слухов о том, что на особу Государя Императора готовилось покушение преступною организациею, специально для того, образовавшеюся, причем преступление это могло быть предотвращено только благодаря вниманию органов полиции и уголовного розыска. Поддержать этот запрос подписавшие его уполномочили Гр. Бобринского, который и вышел на трибуну и в сдержанной форме, не допуская никакого преувеличения, кратко развил причину запроса, вызванного исключительно тревогою охватившею всех, кому дорога Россия и неразрывно связанная с ее благополучием священная особа Государя. Он просил признать запрос спешным и обратиться к Председателю Совета Министров, поделиться с Государственною Думою имеющимися в его распоряжении сведениями и не ставить своего ответа в зависимость от соблюдения формального срока, которому подчинено право Думы на получение разъяснений правительством по внесенному запросу.
Столыпин поступил именно так, как было обусловлено в совете. Оговорившись, что внесенный запрос не принадлежит к числу тех, которые Дума уполномочена делать правительству, и как он не предусматривает какого-либо злоупотребления власти или совершенного последнею нарушения закона, – он заявил, что правительство вполне понимает то настроение тревоги, которое должно было охватить русских людей при известии о готовившемся покушении на особу Государя, и готов поэтому дать ответ не в порядке запроса о незакономерности действий власти, а исключительно для успокоения общественного настроения в связи с проникшими слухами. По существу же обращенного к нему вопроса, он ответил кратко, что сведения, проникшие в печать относятся к обнаруженному еще в январе месяце сообществу, образовавшемуся с целью совершения целого ряда, преступных посягательств как на особу Государя Императора, так на Великого Князя Николая Николаевича и других высших должностных лиц. Преступные намерения сообщества были, однако, своевременно предупреждены, и почти весь состав участников арестован.
Объяснения Столыпина встретили громкое одобрение членов Думы правых скамей, оппозиция молчала, так как главные ее силы отсутствовали, и с тех же правых скамей тут же были предложены формулы перехода к очередным делам, осуждавшие готовившиеся посягательства, и одна из них была принята без возражений. Как только баллотировка, перехода была окончена, немедленно все отсутствовавшие из заседания члены оппозиции гурьбою демонстративно вернулись в залу и, по словам очевидцев, посматривая с вызывающим задором на правые скамьи, заняли свои места.
Не прошло и получаса после этого, как в числе оглашенных в качестве вновь поступивших запросов правительству оказалось то дело, которое и послужило официальным поводом к роспуску Думы второго созыва через три недели, а именно 3-го июня 1907 года.
За подписью 31-го члена Государственной Думы поступили одновременно два запроса, относящееся к одному и тому же эпизоду, – известному делу так называемой социал-демократической фракции Думы и заключающемуся в том, что за два дня перед тем, именно 3-го мая, на Невском проспекте, в квартире депутата Озола произведен был обыск чинами охранного отделения и полиции, а затем и следственною властью, в связи с дошедшими до полиции сведениями, что на этой квартире собираются участники особой организации, имевшей характер специально военно-революционной организации, поставившей себе целью пропаганду в войсках и подготовку военного бунта. В квартире оказалось несколько членов Думы, которые были задержаны до окончания обыска, им было предложено выдать имевшиеся при них документы, что некоторые из них и исполнили, другие же отказались исполнить. Никто из депутатов задержан не был, как только было установлено их депутатское звание, но посторонние лица были арестованы и заключены под стражу.
Подписавшие запрос правительству, в лице Министра Юстиции, члены Думы считали действия полиции незаконными, назвали самое проникновение в квартиру депутата «преступным вторжением в помещение, имевшее свойства неприкосновенности» и требовали спешного рассмотрения по существу, без передачи его в комиссию и без соблюдения законного срока для слушания запросов.
Присутствовавший в заседании Столыпин попросил немедленно слова и оговорившись, что он не будет давать ответа по существу, так как для этого не наступило еще время, поднял, однако, брошенную перчатку и, в качестве предварительного своего разъяснения, заявил, что берет под свою защиту действия полиции, считает их совершенно законными уже потому одному, что Петербург находится в положении усиленной охраны, которое дает ей права обыска, при наличии имеющихся указаний на готовящееся преступление, а в данном случае имеются неопровержимые сведения о существовании военно-революционной организации, и не его вина, что в ней участвуют члены Государственной Думы, – решительно и с большим мужеством заявил, что и вперед будет отстаивать законность таких действий полиции, потому что для него выше необходимости охраны депутатской неприкосновенности – охрана государственной безопасности.
Этим своим заявлением Столыпин бесповоротно стал на путь неизбежности роспуска Думы и этим днем официально предрешился самый роспуск. Все, что произошло далее, было только агонией Думы и формальною затяжкой акта роспуска, для исполнения еще одной, конечно, совершению неисполнимой формальности – получения согласия Думы на снятие депутатской неприкосновенности с членов Думы, входивших в состав социал-демократической фракции. На эту мучительную операцию ушло почти три недели и только вечером, или точнее ночью, с субботы на воскресенье 3-го июня последовал официальный отказ Думы, а за ним – роспуск Думы, издание в исключительном порядке нового избирательного закона, арест большинства членов Думы этой фракции, побег остальных, в том числе и самого Озола, бесспорного главы фракции в этом деле, а через 10 лет, уже в конце 1917 года появление весьма многих из этих лиц уже в качестве видных большевиков на разных поприщах их славной деятельности на пользу гибели России.
Я те пишу подробной истории этого процесса, для чего у меня и нет под рукою достаточных материалов. К тому же он и не входит в состав того, чему посвящаются мои записки: – моей личной деятельности и тому участию в событиях моего времени, которое принадлежало мне.
Уже много лет спустя мне пришлось принять некоторое участие в ликвидации одного из эпизодов этого дела, а именно, в бытность мою председателем Совета Министров, в 1913 году, о чем я и расскажу в своем месте.
Пока же скажу только, что после заседания 7-го мая всем стало до очевидности ясно, что вопрос роспуска есть только вопрос немногих дней, и вся деятельность Думы свелась для нее к двум задачам – наговорить как можно больше неприятностей правительству и проявить наибольшую демагогию, зная заранее, что дни Думы сочтены и, с другой стороны, тянуть переговоры с правительством по вопросу о снятии и неприкосновенности с 50-ти депутатов социал-демократической фракции как можно дольше, чтобы возбудить страну и, дороже сдать Думу при ее роспуске.
После 7-го мая Столыпин еще только один раз появился в Думе в связи с ее дебатами по внесенному ее собственному проекту земельной реформы, построенному на принципе принудительного отчуждения земель. Пытаясь образумить Думу и склонить ее встать на сторону правительственного проекта, осуществленного по закону 7-го ноября 1906 года, сам он и все мы отлично сознавали, что такая попытка обречена, на несомненный провал, Столыпину удалось только произнести очень красивую речь в этом последнем, с его участием, заседании второй Думы и в этой речи сказать исторические слова: «Вам нужны великие потрясения. Нам же нужна великая Россия».
Эти слова перешли на его памятник, открытый при моем и всего состава Совета Министров участии 1-го сентября 1912 года в Киеве, спустя год после, его смертельного ранения, но он уничтожен в 1917 году большевиками в Киеве, и забылись эти слова так же, как забылось многое из того, что потеряли мы с того времени.
После 7-го мая вся наша деятельность просто отошла от Думы и перешла в Совет Министров, который к тому времени закончил избирательный закон и представил это Государю на рассмотрение. На всех нас надвинулась иная, столь же острая, забота, которой нам пришлось отдать много времени, забота о подготовке дела о предании суду всей преступной организации, обнаруженной после обыска в квартире депутата Озола, 5-го мая.
Придавая этому делу значение того окончательного основания, которым должно было определиться либо продолжение существования второй Думы, либо ее роспуск в случае отказа снять депутатскую неприкосновенность с участников обнаруженной организации, – Столыпин вел всю разработку обвинения, с целью предъявления его Думе, при самом близком участии всего Совета. По несколько раз на неделе собирались мы сначала в Зимнем дворце в помещении, занимаемом Столыпиным, а затем по переезде его на дачу, в Елагином дворце, и в частности обнаруженного дознанием и следствием материала по обвинению в связи с делом Озола, каждый раз докладывались Совету лично прокурором петербургской судебной Палаты Камышанским, представлявшим, по наиболее интересным частям следствия необходимые подтвердительные документы. Таким образом, дело это было в полном смысле слова делом всего Совета Министров, а вовсе не личным делом Столыпина и Щегловитова, как думали и говорили в то время многие, и ответственность за принятие решения о предании суду обнаруженных участников преступной группы лежит на всем составе Совета Министров того времени.
Я хорошо помню, что все главные основания к обвинению были сведены к 21-му пункту, а вовсе не к тому единственному пункту – составления наказа военной организации – который был отобран на квартире Озола 5-го мая у секретаря организации Марии Шорниковой, оказавшейся, как стало известным Совету уже потом, шесть лет спустя, агентом Департамента Полиции. – Это доказывала впоследствии вся революционная печать для того, чтобы пустить в ход утверждение, что все дело было просто спровоцировано правительством с целью найти повод к предъявлению Думе требования снять депутатскую неприкосновенность с ее членов, не совершивших никакого преступления. Требование это, разумеется, не могло быть выполнено Думою и, таким образом, роспуск Думы состоялся, по ее словам, не потому, что Дума отнеслась покровительственно к своим членам, участвовавшим в составлении преступного сообщества, а потому только, что все дело было выдумано правительством, для оправдания ничем не вызванного роспуска.
На самом деле, в ту пору никто из нас не имел никакого понятия о том, что секретарь военно-революционной организации, – Шорникова, – была агентом Департамента Полиции» – и уверен, что и Столыпин не знал этого. Департамент. Полиции тщательно скрыл и от него это обстоятельство. Во всяком случае, – повторяю – этот эпизод не имел решающего значения в деле, и преступный характер организации и преследуемые ею цели, также как и участие в ней членов Думы устанавливались целым рядом других доказательств более чем достаточных для того, чтобы направить дело в суд и предъявить Думе требование о снятии депутатской неприкосновенности. Шесть лет спустя все это подтвердилось с. полною наглядностью. Но об этом речь впереди.
Среди приготовительных мер к возбуждению дела выяснилось между прочим, что как Министерство Внутренних. Дел по Департаменту Полиции, так и Министерство Юстиции. встретились с большим затруднением, каким путем можно было бы напечатать весь следственный материал, в форме готового обвинительного акта, подлежащего предъявлению Государственной Думе, с таким расчетом, чтобы до минуты предъявления его Думе, или даже до внесения дела в уголовный суд, решение правительства оставалось бы неизвестным, и заинтересованные лица не могли скрыться от следствия и суда. Министр Юстиции Щегловитов открыто заявил Совету, что не имеет права доверять Сенатской типографии, состав наборщиков которой недостаточно надежен. То же самое сказал и Столыпин по отношение к типографии Правительственного Вестника. Такое же мнение выразил Государственный Секретарь, по отношению к Государственной типографии, откуда незадолго перед тем проникли в оппозиционные круги Думы печатные материалы, не подлежавшие разглашению.
Я предложил тогда отложить решение вопроса, до следующего дня и дать мне возможность переговорить с Командиром Корпуса Пограничной Стражи, в управлении которого имелась хорошо оборудованная типография, не раз исполнявшая для меня разные печатные работы, не допускавшие огласки, и всегда достигавшая этой цели. Мое предложение было принято. На другой же день, я получил заверение, что обязательство выполнить заказ с соблюдением полной секретности может быть принято, и на самом деле оно было выполнено самым безукоризненным образом; следственный материал и проект обвинительного акта был отпечатан замечательно быстро и никакие сыскные силы революционных организаций так не дознались и потом, где и кем было совершено напечатание, и не раз выражали свое недоумение, каким образом такой важный для всего революционного движения документ не попал в их руки, когда к их услугам всегда были печатные материалы, в каких бы правительственных типографиях они ни печатались.
Параллельно с разработкою следственного материала шли переговоры Столыпина с Председателем Думы, а этого последнего с советом старшин и главами партий, кроме социал-демократической, – о снятии неприкосновенности с членов этой партии. Совет был постоянно осведомлен о ходе переговоров, и всем нам было ясно, что ничего из них не выйдет и только напрасно тратится время на то, чтобы добиться толка, когда сочувствовала стремлению правительства в сущности одна правая фракция, не имевшая никакою значения в Думе, а председатель Думы не имел в ней никакого влияния и, если бы и имел его, то никогда, не употребил бы его на пользу исполнения желания правительства, принадлежа всеми своими симпатиями к левому кадетскому крылу и всегда угождая одним левым требованиям.








