Избранное
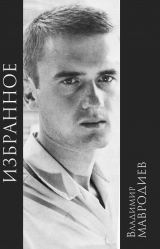
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Владимир Мавродиев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Взгляд земли
Земля смотрела незаметно
из-под травы.
Июль сиял!
Напившись свежести рассвета,
заволжское шумело лето,
а я у озера стоял.
И вдруг –
как будто бы рука
легла мне властно на плечо!
Остановились облака
и лодка, что плыла, легка.
И сердцу стало горячо…
Я оглянулся, замирая,
ещё не чувствуя, не зная,
и, отступив на шаг назад, –
земли я ощутил вдруг взгляд.
Оторопел, и стало страшно:
день изо дня,
день изо дня
песчинкой и травинкой каждой
земля смотрела на меня!
Она всегда за мной следила,
глядела в жизнь мою, в дела.
Она, как мать, меня судила,
когда в том надобность была…
Нам от её не скрыться взгляда,
нам навсегда запомнить надо,
что, отдыха почти не зная,
дыша тревожно,
нелегко,
земля глядит,
благословляя.
И не прощая ничего.
1965
Счастье
О нём задумываясь часто,
его не видим мы подчас.
И ждём несбыточного счастья,
что где-то там горит, лучась…
Не ценим радости свободы,
пытаясь разгадать секрет.
А счастье – это просто годы,
нам не оставившие бед.
А счастье – выйти рано утром
и синеву вдохнуть легко,
всем сердцем ощутив минуту,
минуту счастья своего.
1965
«Ну вот и снег. Грузовикам…»
Ну вот и снег. Грузовикам
он за ночь наполняет кузов.
Лежит везде желанным грузом,
послушный лыжам и рукам.
Ну вот и снег. Летят легко
снежинки, радостны и ярки.
Над улицей и над рекой
они играют в догонялки!
Ну вот и снег. Он всё прикрыл –
листвы опавшей грусть и горечь.
И обнимает целый город,
как пара белых лёгких крыл.
И очень хмурый человек,
как будто сбросил груз никчёмный,
стоит, вздыхая облегчённо:
«Ну вот и снег… ну вот и снег…»
1965
Чёрные берёзы
Среди привычной тишины
над берегом, у кручи
стоят они, почти черны,
корявы, но могучи.
Была пора: белы, легки,
вплывали в воздух синий!..
У их подруги – у реки
о той поре спросите…
Ах, белизна!.. Зелёный вихрь!..
…Кора бугристая и чёрствая…
Они почти черны. Но чёрными
никто не называет их.
1965
«Четвёртый день смотрю на море…»
Четвёртый день смотрю на море.
Штормит. Четвёртый день подряд.
– И что шумит? Ну просто горе, –
вздохнув,
рыбачки говорят.
Четвёртый день трёт тело ветер
и волны оголтело прут.
А рыбаки иль чинят сети,
или за чаркою поют…
Приезжий я и незнакомый,
а приглашают в каждый дом.
Такие здешние законы,
я постигаю их с трудом.
Постукивают ставни, двери.
А морю, видно, всё равно:
штормит.
И я уже не верю,
что успокоится оно,
что наконец устанет ветер,
придёт заря – чиста, сильна.
Но как-то утром,
на рассвете,
меня разбудит… тишина.
Я удивлюсь, я спрыгну с койки,
я к морю сразу побегу.
Пустынно будет и спокойно
на непривычном берегу.
И, взглядом провожая чайку, –
как здесь глядят, из-под руки, –
увижу я:
забыв про чарки,
давно уж в море рыбаки.
1965. Арабатская стрелка
«…И снова я пришёл к тебе…»
…И снова я пришёл к тебе.
Прости, что снова ненадолго.
Азовье, ты в моей судьбе
соединилось кровно с Волгой.
На Арабатской загораю,
кидаю по ветру камку[1]1
Камка́ – сухие водоросли на берегах Азовского моря.
[Закрыть].
И море в душу так вбираю,
что спать ночами не могу.
Усядусь на бывалой лодке,
«Памир» рыбацкий покурю.
И с ветерком солёным, ловким,
будто с дружком, поговорю.
Луна закидывает сети,
с отливом спорят якоря.
Живые брызги, словно серьги,
покачиваются на камнях…
Тёмно-зелёно волны катят,
огни далёко гнёзда вьют.
И под баян в пансионате
девчата про любовь поют…
…Азовье, память всколыхни
через года.
Пусть в землях строгих
помогут мне твои дороги
и эти поведут огни.
И, будто парус, сердце мне
в бессильный штиль
собой наполни!
В сухой и душной тишине
о ветерке-дружке
напомни…
1965. Геническ
В общежитии
Николаю Артамонову
Чванливым не чета
(навек хоть обяжи́те),
люблю стихи читать
в рабочих общежитьях.
Придёшь, и не беда,
что все ещё не в сборе.
На кухне суета,
коляски в коридоре.
Здесь в красном уголке,
где столики простые,
сижу накоротке
с парнями заводскими.
Неполный зал притих –
блестят глаза? Померкли? –
И лучше не найти
своим стихам проверки.
1965
«Любите невезучих…»
Любите невезучих
побольше, чем иных.
Мрачных, будто туча,
от невезенья злых.
Мечта наговорила!
Но жезл судьбы тяжёл…
Тесны у них квартиры,
невесел взгляд у жён.
Не лезу с панибратством,
но люб мне тот народ.
Ещё бы разобраться –
с чего им не везёт…
Весёлые в получку,
в поношенных пальто…
Любите невезучих!
Их любит мало кто.
1965
Старые вагоны
Поизносились старые,
отжили:
дороги выдавались нелегки.
На магистралях главных
отслужили,
теперь ушли в глухие тупики.
По малым полустанкам,
по разъездам
их развезли. Но вовсе не ломать.
Ещё крепки – найдётся труд полезный,
вагонам непривычно пустовать.
Служенье людям их судьбою было,
и люди,
от иного далеки,
их переоборудовали быстро
под склады, общежития, ларьки.
Они теперь,
уж их удел таков,
не на парней похожи натрудившихся,
а на пенсионеров-стариков,
общественной работой нагрузившихся…
Лишь иногда,
лишь только иногда,
однажды ночью
вдруг
вагон проснётся,
почуяв: на подходе поезда.
И гул в колёсах ржавых отдаётся…
И прогрохочет мимо товарняк!..
И до утра,
в томящем содроганье,
вагонам старым
не заснуть никак:
у каждого
свои воспоминанья…
1965
«…Я у окна стою подолгу…»
…Я у окна стою подолгу,
тянусь в заснеженную тишь…
Но ты звонишь,
зовёшь из дома.
«Весною пахнет…» – говоришь.
Я выхожу. Белеет вечер.
И колкий снег летит навстречу.
Ты на углу у автомата
стоишь с улыбкой виноватой.
И где ж весну ты разглядела
на этой улочке зальделой?
Но, мне не дав сказать и слова,
ты уверяешь в этом снова:
«Смотри, деревья посвежели…
Не видишь разве?
Неужели…
А я-то думала: весна…
Нет?..»
…Волга льдами стеснена.
Бредём в молчанье по аллее.
Застыли вязы. Иль олени?..
Пусть тёплые им снятся сны.
Далёко, Галя, до весны…
1965
«Январские наивные деньки…»
Январские наивные деньки.
Блеск глаз людских и ёлочных игрушек.
Слепи снежок, до тополька докинь.
Заметь, как он подрос за год минувший.
Снижаются снежиночки легчайше,
огни и окна семенят, рябя…
И очень рядом ходит-бродит счастье
и ищет не кого-нибудь – тебя.
1965
«Увозят пристани…»
Увозят пристани.
Против теченья тянут
большие деревянные дома.
Холодный день.
Снег реденький не тает.
Увозят пристани.
Теперь уж всё.
Зима.
Листвою правый берег замело,
листвою красной, жёлтой и зелёной.
Без лампочки фонарь,
чуть-чуть склонённый,
да лодки с пооблезшею смолой.
Мы каблуками вразнобой стучим,
идём с тобою –
как тогда, в апреле…
Холодный день.
И завтра не теплее.
Глядим на Волгу.
Пара слов. Молчим.
Ларёк забит.
Луж серая слюда.
И вдруг гудок
внезапный,
хриплый,
долгий –
увозят пристани.
Как будто навсегда.
Не надо уходить сейчас от Волги.
1966
«Стернёй вокруг ершится поле…»
Стернёй вокруг ершится поле,
дымком окутано село.
В который раз мне стало больно,
что лето красное прошло.
Уже делянки перерыли
и от картошки нет следов.
И пруд, где рыбу мы ловили,
умолк в преддверье холодов.
Не дрогнет жёлтая дорога,
не зачернеет тучей даль.
Какая тихая тревога,
какая светлая печаль!
Вдыхая пряный запах дола,
как терпкий папиросный дым,
поверишь ты, что долго-долго
ещё ты будешь молодым.
И августа уже не жалко…
Лишь в серости ноябрьских дней
поймёшь, что лето провожал ты,
прощаясь с юностью своей…
1966
«Сухие пятна на заборе…»
Сухие пятна на заборе,
зимы ослабли удила,
и серости холодной море
синица звенью подожгла.
И удивлённая трава
все мрачные сминает тени.
Гори, лежалая листва,
дыши, апрельское цветенье!
И в этой чистой тишине
невольно расправляешь плечи
и вновь идёшь, лицом к весне,
своей судьбе земной навстречу.
1966
«То серый, то сиреневый…»
То серый,
то сиреневый,
не плачь, ледок,
не плачь.
Под струнными деревьями
шагает
мокрый грач.
Сугроб к обрыву
пятится,
открыв зелёный клад.
К апрелю
солнце
катится,
и нет ему преград.
Парной земли истома.
Травинка, как игла.
И после
ледолома
на Волге
синь и гладь.
Сквозь талый запах ели,
смешинками полна,
коляской детской
едет
по улицам весна.
И снова
верит город,
стряхнув
зимы кору,
что время –
не к раздору,
а к ладу и добру.
1966
«Ветра от зорь красны…»
Ветра от зорь красны
на майском рубеже.
И музыка весны
колеблется в душе –
как воздух над травой,
как над землёю пар,
как лист над головой
и как в степи тюльпан.
Она во все концы
летит, беря в полон.
Доверчиво скворцы
садятся на балкон.
И тополёк дрожит,
похожий на весло.
И всю печаль с души,
как льдину, унесло.
1966
«Апрель, он сыплет птичью звень…»
Апрель, он сыплет птичью звень,
дитя помолодевшей зорьки.
Нетерпеливая сирень
торопится открыть глазёнки.
И разве нужно горевать
в такую пору, разве можно?
Возьми-ка новую тетрадь,
потрогай синюю обложку.
Весна, она всегда сильна,
она всегда права, не так ли?
Так урони в тетрадь слова,
как будто солнечные капли.
Забудь сомнения свои,
услышь, простившись с тишиною, –
щебечут в парке воробьи
про счастье вечное, земное…
Из дома выйди, удивись:
земля, оттаяв, пахнет хлебом!..
И это молодое небо
носи в глазах своих
всю жизнь.
1966
«Завидую стрижу…»
Завидую стрижу,
который – в облака!
Завидую дождю,
упавшему в луга.
И взлётной полосе,
когда взлетает Ту!
И простенькой красе
домишек на плоту…
Завидую тебе,
к реке тропа лесная.
И собственной судьбе,
которой я не знаю…
1967
«…А мне хотелось одного…»
…А мне хотелось одного:
чтоб ночь такая – не кончалась.
А всё, наверно, оттого,
что лодка на воде качалась,
что фиолетовой волной
река махала вслед закату,
что пахло спелою весной:
разливом, деревом, загадкой…
Тянуло тишью от озёр,
костер трещал, от воли весел.
И месяц бился, как осётр,
в оранжевых сетях созвездий!..
Я думал: утром будут птицы
и капель синий беспокой,
но ничему не повториться,
тем более – ночи́ такой.
Качались ветви, будто вёсла,
и травы набирали рост.
И падали на землю звёзды,
как будто бы птенцы из гнёзд.
1967
«И, тополей касаясь…»
И, тополей касаясь,
гонимая теплом,
луна скатилась за лес,
как будто снежный ком.
Вставай скорей, Галина:
охрипли петухи!
Заря спелей малины,
осинники тихи.
Над синею водою
растаяла звезда.
Такою молодою
останься навсегда!
Не то чтоб гору счастья
судьба дарила впредь,
а просто б нам почаще
у озера сидеть.
Чтоб облако – качалось!
Чтоб голубела высь.
Чтоб утро – не кончалось
в душе у нас
всю жизнь.
1967
Смена лет

«Снег молодой…»
Снег молодой.
Сугробы горячи.
Сосульки с крыш заботливо оббиты.
В январской целомудренной ночи
легко стряхну налипшие обиды.
У Волги неуютно:
сталь воды,
и к горлу Волги потянулись льды.
Туман морозный обступает мутно…
Другое дело –
солнечное утро!
Другое дело –
улицей идти,
встречать людей спешащих на пути.
– Привет, привет, –
товарищу кивну, –
что не звонишь?
Дела опять заели?
Два слова.
Руку другу протяну.
И вновь –
бульвар,
афиши,
рельсы,
ели…
Троллейбусы проносятся, лихи,
девчата улыбаются в кабинах.
Киоск. Газета.
В ней мои стихи
о январе,
о снеге,
о любимой.
1968
Лес
Таинственным он издали казался…
Таинственным казался и вблизи,
когда вошёл, стволов сырых касался,
когда промокли ноги от росы.
Но в синее молчание рассвета
врывались песни птиц, хруст сушняка.
Заговорили листья рядом где-то:
то ветерка нахальная рука
верхушки тополей затормошила.
А по дороге, незаметной мне,
промчалась с песней тряская машина,
через минуту стихнув в стороне.
Я в лес входил. Светлея, расступался
он предо мной, пугая и маня.
Он медленно, привычно просыпался,
дыханием окутывал меня.
Набив карманы синим спелым тёрном,
решив, что этот лес – ещё не лес,
я дальше шёл, сходя с тропинок торных,
через кусты боярышника лез!
…По-старому живут трава, деревья –
дождям доверясь, вешней тишине.
Прими, лес, навсегда мое доверье,
но хоть листком одним доверься мне.
Немыслима Земля без света листьев,
без ливней синевы, тиши полян…
Не знаю, как без межпланетных высей,
а без берёз – не выживет Земля.
Откуда, лес, в тебе такая сила?
Откуда эта ясная краса?
Леса, леса, леса – на пол-России!
Душа Земли – российские леса!..
1968
«Поднимись на Курган не с фасада…»
Поднимись на Курган не с фасада,
по тропинке с другой стороны.
В пору тёплой апрельской весны
поднимись. Торопиться не надо.
Ясен день. Ветерки говорливы,
незаметны воронки и рвы…
Не расти здесь траве – говорили,
только как же земля без травы?
Вырывается к свету тюльпан
из земли, обожжённой когда-то,
и глядит он глазами солдата,
что без весточки здесь вот пропал…
А зимой здесь снега, как бинты,
ветры мёрзлые дуют потише…
Свят покой на могиле погибших,
скупо светят стальные цветы.
Дни идут. Воду пьют корневища.
Снова дождь, снова снег или гром…
Только нам не забыть бы о том,
что Курган монументный
для тысяч
стал обычным могильным бугром…
И не надо – ни тризн, ни парадов…
Здесь ведь всё расцвело на крови…
…Поднимись на Курган – не с фасада.
И тюльпан тот смотри не сорви…
1968
Скульптор
Поэту Виктору Гончарову
Обыкновенный камень –
взгляни да и пройди.
А он его руками
прижал к груди.
Скалы, от зноя белой,
бесформенный кусок.
Другому – что за дело?
Какой, скажите, прок?
А он –
какой уж вечер –
стучит,
стучит,
стучит.
В окне звезда, как свечка,
пронзительно дрожит.
И тяжелеют веки,
и пот на грудь течёт.
Художника
вовеки
бесформенность гнетёт.
Он утром выйдет тихо
из тесной мастерской.
Весны неразбериха,
и рядом – гул морской.
Он к морю выйдет первым,
на берег поглядит:
как яростно и пенно
весной
волна
гудит!
Висят на ветках капли,
тяжёлые, дрожат,
и камни,
камни,
камни
вдоль берега лежат.
Отыщет камень новый,
здесь тыщи глыб таких.
А он один
виновен
в бесформенности их.
1968. Коктебель
«…Потеряла старушка покой…»
…Потеряла старушка покой,
позабыла заботы и сны.
Услыхала: солдат неизвестный
похоронен в Кремле у стены.
«Неизвестный… А может быть, мой?» –
эта дума все думы затмила.
Сын её пал в боях под Москвой,
неизвестна солдата могила…
Ей райцентр – и тот далеко…
Льгот на станциях не полагается…
А она потеряла покой.
На денёк хоть в Москву собирается…
1968
Пассажир
На перрон сойдёт неловко –
он бывал давненько тут.
В Волгограде остановка
ровно двадцать пять минут.
Из вагонов торопливо
через мартовский рассвет –
кто к киоску, кто за пивом,
кто за пачкой сигарет.
Ну а он через ступени,
задевая чьи-то локти,
выйдет в город нестепенно
постоять неподалёку.
Что припомнится ему?
То, что время не затмило:
и развалины в дыму,
и солдатские могилы…
Чёрных взрывов содроганье!..
Жаль, что не успеть в музей.
В Пантеоне на Кургане
имена его друзей…
Не задумываясь слишком
(этим мыслям разве рад?..),
он в киоске купит книжку
«Возрождённый Волгоград».
Заторопится обратно –
через пять минут отход –
рядовой сражений ратных
за Победу и народ.
И в купе, под звон гитары
(едут в отпуск моряки),
он из старого футляра
вынет старые очки.
Книжку медленно листая,
пальцем по листу скользя,
воскрешать он снова станет
то, чего забыть нельзя.
Вспоминая день тот каждый,
город, выжженный дотла,
«Надо бы приехать, – скажет, –
да дела, дела, дела…»
1968
Дядя Коля
Дядя Коля лёгок на подъём.
Мы с ним пиво у киоска пьём,
не спеша, с достоинством, в молчании…
И за встречу пьём, и на прощание.
Мы с ним не друзья и не товарищи,
панибратства –
возраст не велит…
Дядя Коля – классный экскаваторщик,
но об этом мало говорит.
Был я как-то в комнатке его.
Там от пыли и от «Примы» душно.
Грамота на стенке. Раскладушка.
Стол, два стула. Больше ничего.
В комнатке частенько тишина:
всё командировки да отъезды.
Дядю Колю бросила жена,
не хозяин, мол, и не отец ты…
Мы о том сейчас не говорим.
Мне он по-отечески внушает:
– Дело знай, учись
и не хандри…
Жизнь большая, и страна большая…
Люди есть, конечно, – дело дрянь…
Я б иному сам по морде съездил…
Только мало их, студент, на свете,
жизнь, она честней день ото дня.
Поезжай со мною. Там – раздолье…
Вот тебе на случай адресок…
Полстраны объехал дядя Коля –
и опять куда-то «на годок».
Что ж, до встречи, а теперь – «Пока!»
И спасибо, молча, за науку.
Расстаёмся. Руку жму слегка.
Вовсе и не сильную-то руку…
1968
«Последние листья на землю осели…»
Последние листья на землю осели,
и пусто, и голо,
и грустно до слёз.
Уйти б от тяжелых печалей осенних
в молочные ливни опавших берёз!
Но нету берёз.
Лишь рогастые клёны,
морщинный асфальт
вместо тёплой земли.
Весь город заполнен
шуршаньем и стоном,
грохочут дожди от зари до зари.
Я кепку надвину надёжно, поглубже
и ворот плаща подниму.
Я выйду из дома,
пойду через лужи,
мне так захотелось,
с чего – не пойму.
Зажгут фонари.
Я чуть-чуть пожалею,
что некого ждать
на знакомом углу.
Грохочут дожди.
И сверкают деревья!..
Трамвай,
как сазан,
уплывает во мглу.
1968
«Какие мне сказать тебе слова?..»
Какие мне сказать тебе слова?
Снежинки на твои слетают щёки.
Прошли давно
загаданные сроки.
Какие мне сказать тебе слова…
В глазах твоих – то нежность,
то печаль.
А мне никак не одолеть молчанья.
И бой часов вокзальных. И мельканье
машин, бегущих в ледяную даль.
Да, отошли сентябрьские дни.
Снегами занарядилась Россия…
Мы в декабре стоим совсем одни.
И вольно нам, и чисто, и красиво…
А вдруг растает снег, упав едва,
и серость в души к нам привычно
ввалится?
Очнёшься ты.
Смешные снимешь варежки.
Какие же тогда сказать слова? –
Когда пойму, что сладкою ошибкой
был тот порыв, что сникли паруса…
Что на щеке – не талая снежинка,
а первая прощальная слеза…
1968
«Очень тихая река…»
Очень тихая река,
некрутые берега.
Рядом тихая дорога
и осина-недотрога.
Блеск росы в траве потух,
пёс бежит, орёт петух.
Скрип колодца иль ворот.
Человек к реке идёт.
Всё – как сотню лет назад:
синий день и белый сад…
Но над речкой ясной – Ту
режет рёвом красоту…
1969
«Как у всех, могила у поэта…»
Памяти Василия Дьяченко
Как у всех, могила у поэта.
Куст цветов, неброских и нечинных.
Средь других похожих неприметна,
от других почти неотличима.
Но когда дождём заморосило
и когда снега идут, тихи,
на его обычную могилу
густо-густо падают
стихи.
1969
«В снегу глубокие следы…»
В снегу глубокие следы
куда-то тянутся, чернея…
Но хочется зари скорее,
а не холодной темноты.
Белее утром белый снег
и город дышит полной грудью.
Мне дорог встречный человек,
а темнота, она к безлюдью.
1969
«На могиле отца – два тополя…»
На могиле отца – два тополя.
Не сидеть бы мне в их тени…
Но стволы почему-то тёплые
даже в злые осенние дни.
Тополей этих сущность – добрая.
И легки они, и туги.
На могиле отца
два тополя.
Две руки.
1969
Ботинки
Улыбка поневоле,
коль вспомню вновь про то.
Мне их купили к школе,
блестящие, с рантом.
На толстой коже – сила!
Не страшен и мороз.
Я их из магазина
двумя руками
нёс!
Их примеряя, робко
ходил. Смеялась мать.
Запихивал в коробку
и прятал под кровать.
Товарищам по дому
бежал о них сказать.
Меня под вечер долго
укладывали спать.
Я просыпался часто,
но всё же засыпал.
И, что такое счастье,
тогда
я точно знал.
1969
Проводы лета
…И запахло летом – запалённым…
Я давно такого не видал,
чтоб над пожелтевшим за ночь клёном
август богатейски хохотал…
А сентябрь пришел – не разозлённый,
на него ходил я поглядеть:
за обыкновенный лист зелёный
щедро платит золото и медь.
Но деревьям не в новинку это,
от такой награды тяжело,
и молчат с рассвета до рассвета,
кутаясь в последнее тепло.
Скоро дни в унынии потонут:
пьяный ветер, холод, сер и зол.
А пока – лишь дождичек протопал
да туман на цыпочках прошёл.
Но у Волги, в сквере вдоль дорожек,
огоньками странной красоты,
холодея от рассветной дрожи,
не погаснуть силятся цветы.
Стоит только лучше приглядеться,
и увидишь, хоть не без труда,
как в дупло луны ползет погреться
муравьем серебряным звезда.
Не гадаю – что там будет после…
День пройдёт быстрей другого дня,
и уедет, как зелёный поезд,
не простившись, лето от меня…
1969
«Ушли давно златые полдни…»
Ушли давно златые полдни,
уж первый иней впереди.
А по дубравам красным поймы,
шепча своё, бредут дожди.
Не те, июньские,
парные,
что наливали травостой,
а эти тихие, грибные,
в разливе свежести густой.
…В грибном ряду на рынке плотно –
лесной недолгий уголок.
К весам расчётливо-холодным
прилип осокоря листок…
Вот дядя, безнадёжно грузен,
трёт о прилавок свой портфель.
Он сам бы в лес пошёл по грузди,
да уж куда ему теперь…
Вот две девчонки в модных джинсах,
две птахи городской судьбы,
с вопросом к бабушке:
«Скажите,
а где у нас растут грибы?»
Не только для засолки средство
и блюдо доброе к столу,
грибы кому-то –
память детства
иль вздох по милому селу…
Причина, может, и иная,
здесь все догадки хороши.
Желанный вдох – пора грибная,
глоток отрады для души.
1969
«…Упасть в тени на травушку в июле…»
…Упасть в тени на травушку в июле,
о грусти
наконец-то помолчать…
Пусть в стороне лучи стригут, как пули,
клок ковыля иль горький молочай.
Местечко это названо Тумак.
Здесь край малины,
помидоров,
яблок.
И дачников,
застенчивых иль ярых,
и тех, кто порыбачить просто так.
А ночью тут
костры,
костры,
костры
у ериков,
в дубах,
у тёмной Волги…
И всплеск весла,
и крик, без эха долгий…
И сходней сонных
потаённый скрип…
…На самоходке двинусь я отсюда.
Я по рассвету прямо поплыву!..
И в суете асфальтовой забуду
про лунный лес,
про рыбу,
про траву.
Уйду в проспекты,
в яркие дома…
Заморскую достану сигарету…
И вспомню вдруг,
как еле видно светит,
когда бредёшь,
петляя,
на рассвете,
фонарь на тихой пристани Тумак.
Как пахли ночи
сеном,
дымом,
тайнами…
Как ты делил с дружком
простой табак…
Потянет, как когтями,
в край недальний,
что странно называется –
Тумак.
1969
На просмотре кинофильма «Великая Отечественная»
Слепой пришёл в кино.
Не надо удивляться.
Задолго до сеанса
пришёл. Стоит давно.
Неприметный с виду.
Медаль за Сталинград.
Без очереди выдан
билет на первый ряд.
У входа люд бушует,
но гаснет в зале свет.
А он сидит – не чует:
свет гаснет или нет.
Но вдруг – той песни звуки,
где ярость, как волна!..
И сразу сжались руки,
и вот она, война…
Артподготовки грохот
с экрана в душу бьёт.
И самолётов рокот,
и тот проклятый дзот
все бьёт…
И он, парнишка, –
вперёд, а не назад!
И свет
от снега
брызжет!..
И клочья
глины рыжей!..
И вдруг темно в глазах…
Слепой в кино сидит,
кепчонку мнёт руками.
Лицо – будто из камня,
кипение в груди.
Когда из зала выйдет,
пойдёт – опять слепой.
Но этот фильм
он видит.
И лучше нас с тобой.
1969








