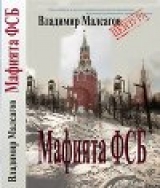
Текст книги "Русская мафия — ФСБ"
Автор книги: Владимир Мальсагов
Соавторы: Лариса Володимерова
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
Глава 4. Грязные игры. Хан: грабитель и сутенер
Спускаясь, Игорь рассказывал, что основная работа Хана с Русланом – «выставление на уши» сынков арабских шейхов, или «бомбежка», то есть грабеж на квартирах, которые сынки снимают нелегально, в обход советских законов. Кражи или грабежи проходили по наводке и под прикрытием КГБ.
Иностранцы, защищенные дипломатической неприкосновенностью и проживавшие в дипкорпусах или на съемных квартирах, всегда были под неусыпным надзором КГБ и вызывали их большой интерес. Но спецслужбы не могли произвести санкционированный обыск или досмотр: ни один прокурор на это не дал бы санкцию. А сколько любопытного должно было быть в их жилье! Именно для несанкционированного досмотра личного имущества иностранных граждан и обыска поначалу и существовала бригада Хана и Атлангериева – с широкими уголовными полномочиями.
Напомню, это было начало 70-х годов, и тогда я впервые узнал о сотрудничестве Хана и Руслана с КГБ СССР. О такого рода деятельности этой бригады затем слышал я очень много, причем от разных людей. А с середины 70-х эта группа завоевывает большой авторитет и широкую известность в криминальных кругах Москвы. И как не завоевать? Криминальные бригады того времени, как и отдельные элементы, сторонились работать «по фирме», – кроме фарцовщиков-валютчиков, но и те, как правило, работали под крышей КГБ – и на него. А вот чтобы идти на разбой, да еще вооруженный, – это мог либо человек, у которого напрочь съехала крыша, либо в такой связке с КГБ, что – «близнецы– братья».
Все знают, что уголовный розыск – МУР или другой – работает от преступления, распутывая его и выходя на личность. А КГБ же, как и нынешняя ФСБ, работал «от личности». То есть был бы человек нужный, а преступление, если надо, они устроят и сами – так навесят, что ни один Басманный суд не оправдает. О делах этого плана, и как правило связанных с изъятием валюты и других ценностей у иностранцев, Хан немало поведал мне в личных разговорах. И особенно в тюремном заключении, когда времени для бесед у нас было в избытке.
Так, он доказательно утверждал, что именно они с Русланом первыми применили «куклы» и «ломку» денег при закупке валюты у иностранных лохов прямо в здании МГУ имени Ломоносова. Делали они это чаще всего в лифте, поднимаясь на какой-нибудь из верхних этажей, или спускаясь вниз.
Происходило все так. Хан, к примеру, отсчитывает на предложенную иностранцем тысячу долларов три тысячи рублей и передает их, но при пересчете иностранец вдруг замечает, что не хватает сотни. Как так?! Не может быть, – удивляется Хан, забирая рубли обратно для сверки. А пересчитав и удостоверившись, что, действительно, не хватает стольника, он достает из кармана недостающую сумму, приобщая ее к остальным купюрам.
Причем часто для этой операции использовался обиходный тогда пластиковый чехольчик для шариковых ручек, который идеально подходил по размеру и форме для банковской упаковки: через прозрачную клеенку хорошо видна была лицевая сторона денег, а в то же время было трудно достать обратно купюры для повторной проверки, тем более в экстремальной ситуации.
Вот тут-то и происходит «развод». Руслан говорит: «Уходим: менты!». И Хан с иностранцем, быстро обмениваясь суммами в нервозной обстановке, удаляются в разные стороны.
Но лишь спустя некоторое время, а то и придя к себе, лох обнаруживает, что вместо денег у него «кукла», то есть пресс-бумага, нарезанная под формат денег, а сверху и снизу лежит по настоящей купюре. Или лох с недоумением замечает, что денег у него вдвое или втрое меньше той суммы, что он лично пересчитывал первоначально, держа в руках. И ему невдомек, что Хан при возвращении денег после пересчета «сломал» их, то есть подломил через пальцы, отогнув вниз часть «пресса» и так держа, что «терпила» из-за тыльной стороны ладони ничего не заметил, а выхватил лишь те деньги, которые видел зажатыми между большим и указательным пальцами.
В общем, диапазон деятельности Хана с Русланом был весьма широк и мог распространяться на все, что сулило хорошую прибыль – от сутенерства, контроля с осуществлением безопасности валютных путан, «ломки» и всякого рода мошенничества – до вооруженного разбоя и убийств.
…О сутенерстве может свидетельствовать один интересный случай. В Московском Мясомолочном институте учились в советское время в основном дети «хищников», то есть директоров мясокомбинатов, заготскотконтор и так далее. Это сулило большие деньги и было престижным. Взятки за поступление были весьма высоки, где-то 25 000 рублей, и дети простого инженера, врача или ученого туда вряд ли могли пролезть, да и едва ли мечтали об этом сомнительном ВУЗе.
Холл института представлял собой своего рода подиум высокой моды того времени, где дитяти Остапов Бендеров дефилировали «прибарабаненными по фирме» – по последнему писку моды. Чем дороже была одежда, тем авторитетней носитель. Избалованные детки в большинстве своем употребляли наркотики, играли в карты и развлекались с девицами. В середине семидесятых там учились компанейский грозненский парень Леха Татаров, отец которого имел одно из самых больших частных домовладений в городе и занимался дорогим меховым бизнесом, и друг Лехи – Фима из Могилева, отец которого был популярнейшим закройщиком и одним из самых богатых модельеров на Украине.
Фима любил играть в карты, часто проигрывал, и папа приезжал выплачивать за него по 20–30 тысяч, как будто бы это было 200–300 рублей. Азарт, наркотики, девушки, хорошие рестораны требуют больших денег, и как бы папы богаты не были, но семейный бюджет даже подпольных миллионеров типа Корейко затрещал бы, как шуба, по швам. Поэтому детям приходилось крутиться самостоятельно в поисках добавочной прибыли.
Как-то раз Леха с Фимой в «крутом» ресторане познакомились с двумя девицами приятной наружности, одетыми «как следует». Они вели себя высокомерно, так как деньги придавали уверенность. Клюнув на то, что видные молодые люди также были одеты соответственно понятиям их круга, они пошли на сближение и вели откровенный разговор. Не стесняясь, рассказали о роде своей деятельности, и какие деньги она приносит. Мол, у них на квартире – чуть ли не «Березка», спецмагазин валютторга тех времен, где могли отовариваться только предъявившие при входе сертификаты или чеки серии «Д», которые приравнивались к свободно конвертируемым деньгам.
Леха с Фимой, воспользовавшись наивностью, болтливостью, но главным образом аморальностью путан, решили их обокрасть. Для этого пригласили их опять в ресторан, всячески ублажали выпивкой и остальным, а затем поехали в специально снятую для своих планов квартиру, где в промежутках между занятиями сексом вытащили из сумочки ключи и сделали отпечатки, по которым позже заказали вторые ключи от жилища путан.
В очередной раз, якобы закрутив едва ли не любовь со своими подругами, позвали их в элитный «Метрополь», и пока там развлекались, то их напарники «Пеха», «Корова», Артур подъехали на такси к проституткам и «выставили» квартиру.
Увезя большой куш из новых дубленок, сапог, модных в то время часов «Ориент», «Сейка», «Секура», нескольких бриллиантовых с изумрудом наборов «Маркиза», джинсовых костюмов и шмоток, большое количество долларов и фирменную аудио-аппаратуру, они переправили это в Грозный, где лучшие магнитофоны под угрозой уголовной расправы себе присвоил начальник отдела по борьбе с наркоманией Ленинского РОВД, всем известный в то время Мамед Муталибов, – а часть реализовали в Москве.
Девицы обратились к своей защите и сутенерам, которые, прекрасно зная систему краж и проанализировав обстановку, тут же вычислили Фиму и Леху. Сутенерами оказались… Хан и Руслан.
Они подъехали к институту, забросили Леху с Фимой в машину, отвезли на квартиру, где в присутствии девиц расспросили с пристрастием. Фима, как робкий, раскололся сразу, обещал все отдать, и ребятам были поставлены жесткие условия срока возврата, а сумма увеличилась вдвое, к тому же по спекулятивным ценам. Если краденого было на 10–12 тысяч долларов, то с них затребовали 25. Что и выплатил Фимин папа, русскими деньгами 75 000. А подельники решили правильно: раз Фима раскололся – то он один виноват, ему и платить, – тем более, что, оправдываясь перед сообщниками, выдал такую сентенцию про Хожу (Хана) с Русланом: «Они же чечены, они убить могут».
…Итак, криминальный интерес Хана с Русланом был очень широк, от сутенерства и мошенничества (за что и осудили Хана в 1977 году, приговорив к «химии», то есть принудительным работам на стройках народного хозяйства, и где на суде потерпевшими выступили 11 «негативов», как называл Хан чернокожих иностранцев), – до краж в дипломатических корпусах и вооруженного грабежа иностранных подданных.
О краже в дипкорпусе и свидетельствовал второй срок в 6,5 лет, полученный в 1984 году Ханом, с которым он пришел в зону 36/1 поселка Алды ЧИАССР, и куда буквально ежемесячно наведывались сотрудники главного аппарата КГБ СССР, прямо с Лубянки. Но по его словам – они приезжали упрашивать вернуть кейс, – дипломат, похищенный при краже, и обещали, что в этом случае Хан сразу выйдет на свободу.
Что, неправдоподобно? Да кто и в зоне не сидел – вряд ли поверит, что люди с самой Лубянки станут летать ежемесячно за 2000 километров, при этом подготавливая и оформляя кучу документов, писать до и после приезда рапорты, и всё это – лишь для того, чтобы, слетав в командировку и повидав Хана, спросить: «Ну что, может, отдашь, а? Или еще не надумал?» – и так на протяжении более года! В то время как они одним «требованием» могли запросить его для этапирования в Лефортово – тюрьму КГБ СССР, или прямо на Лубянку. А там – хоть сутками беседовать, гоняя чаи.
Нет, они летали к нему на свидания, как стало позже ясно, по работе, проводимой ими в зоне совместно. Хочу напомнить, что в СССР наступило время андроповщины, с приходом КГБ к власти, ужесточением тоталитаризма и преследованием инакомыслия. А во власти шло противостояние и открытая вражда между КГБ и МВД, вылившиеся во многие уголовные дела в отношении сотрудников МВД в основном за взяточничество и мздоимство, и увенчавшиеся самоубийством министра внутренних дел СССР Щелокова с его супругой.
В рамках борьбы со взяточничеством в рядах МВД, и решено было, как видно, на Лубянке провести «показательные выступления» в зоне Алды ЧИАССР, так как последняя славилась на всю страну хищениями, взятками, коррупцией среди администрации, а заключенные свободно приобретали за деньги все, начиная от спиртных напитков, наркотиков – от марихуаны до героина, нелегальных свиданий с девушками древнейшей профессии, до оружия, если кому оно вдруг понадобится, и получения через «актирование по здоровью» или условно-досрочное освобождение – свободы.
Глава 5. Антисоветчик: по стопам отца. Современный ГУЛАГ
Чтобы не прерывать хронологию, вернусь к нашей встрече в МГУ с Ханом и к тому, как потом мы еще часто виделись в Москве и Грозном… А в начале 80-х – меня арестовывают и осуждают за преступление, совершенное в 77-м году, и к которому, впрочем, я не имел отношения, – на 10 лет лишения свободы.
На суде не было никаких свидетелей, а тот, которого подставили, сам заявил, что ему мол следователь указал на меня, говоря, что он «должен был меня запомнить и опознать». Как выяснилось потом, когда я уже почти отсидел весь срок по статье 108 ч. 2 УК РСФСР («Умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения»), свидетель вообще на момент преступления находился за несколько сотен километров от места события, пася скот в Ставропольском крае.
В конце концов, когда десятилетний срок практически подходил к концу, началась уже перестройка, меня оправдали, освободили и предложили явиться за компенсацией в 13-й кабинет Прокуратуры ДагАССР г. Махачкалы.
…Что нахожусь под негласным надзором КГБ и попал в зону их интересов, я предполагал и ощущал давно, к тому же наш отец, напомню, был репрессирован как диссидент, осужден по статье УК РСФСР за «Антисоветскую агитацию и пропаганду», и хотя его впоследствии реабилитировали, КГБ, что называется, глаз с нашей семьи не спускал. Вот почему мои дружеские посиделки в общежитии с иностранцами вызывали у КГБ особый интерес.
Потому-то и судья Коробова на моем процессе, находясь в полной растерянности из-за отсутствия какого-либо обвинительного материала и улик, сначала прервала судебное заседание на два часа. – Но в суд меня доставили вновь, только уже через три дня, когда Коробова, буквально с порога, и объявила полученный ею от КГБ приказ: мой приговор – 10 лет лишения свободы.
Мое здоровье было подорвано под следствием, в тюрьмах, где мне довелось пройти не один бунт, а затем – в лагерях Дагестана, где шла «андроповская ломка». Как о наиболее точно характеризующем обстановку во всем большом лагере СССР, я расскажу о бунте заключенных в маленькой тюрьме Хасав-Юрта.
Бунт в Хасав-Юртовской тюрьме.
Лето на Северном Кавказе бывает жарким из года в год. А в Дагестане и вообще – зной, духота, и не спасает близость ни Кавказских гор, ни Каспийского моря. Особенно – в районе Хасав-Юрта, Кизил-Юрта, Шамхала, где как бы специально расположены островки зон дагестанского ГУЛАГА. А зимой здесь – наоборот, пронизывающий насквозь и леденящий ветер с моря, такой, что и укрыться от него негде, и холод мучает находящихся в карцерах и штрафных изоляторах.
…В 1983 году казалось, что весь прикаспийский зной с неимоверной духотой накинулись именно на тюрьму города Хасав-Юрта, которая представляла из себя два спаренных корпуса, как говорят, когда-то служивших конюшней – наверное, еще в Порт-Петровские времена. Здание старинной постройки, сложенное из тесаного камня песчаной породы, которой одаривает Каспий, временами отступая, землю, разбито внутри уже в современный период на маленькие камеры. К тому же начальник Амирханов, не справляясь с наплывом массы арестованных в андроповское время, приказал наварить третий ярус железных шконок, которые теперь заканчивались сантиметров за сорок до потолка. И не каждый молодой, ловкий заключенный мог проворно туда забраться. А расположиться там, поместившись – было дополнительной проблемой, так как это могли сделать только худощавые, да и то почти постоянно бились головой о потолок.
Камеры были очень узкими, заставлены с двух сторон трехъярусными шконками, которые тянулись до конца камеры, где находилось небольшое зарешеченное окно, а с левой же стороны камеры шконки упирались в дальняк, или парашу, – туалет, отгороженный от кровати кирпичной перегородкой высотой по грудь человека.
Шконки, стоявшие по-над стенами, как и «дубок» (стол с лавочками, стоящими впритык к шконкам так, что к дальняку можно было протиснуться только боком, – и принимавшие еду сидели на нижних шконках, ибо на лавочках это делать, да и просто сидеть, было невозможно), – все было глубоко забетонировано в полу. Воду для питья и умывания подавали рано – с шести до семи часов утра, и где-то с семи до восьми вечера.
Вот и пыталась вся «хата» осуществить личную гигиену за эти короткие периоды, а впрок же вода набиралась в цинковые бачки, где, постояв часок, давала осадок: на дне можно было отчетливо видеть слой песчаной мути сантиметра три-четыре, да и вообще такого молочно-буроватого цвета воду мало кто бы отважился выпить на воле. Мы же пили ее галлонами, так как из-за жары просто немыслимо было не употреблять эту теплую, солоноватую, скрипящую на зубах воду, которая тут же выступала на теле с потом в еще большем, наверное, количестве, чем ее выпивали.
Что настораживало – это тяжесть в пояснице, в районе почек даже у тех, кто болезнями их не страдал. А у болеющих вообще начинались страшные болевые приступы. Так что мы старались пить воду либо в виде чифиря, либо просто крепкого чая, что в советское время в тюрьме было запрещено, и за это могли лишить свидания, передачи или посадить на десять суток в карцер, по усмотрению администрации.
Чай же продавали сами «дубаки» – постовые менты, по пяти рублей за 50– граммовую пачку. А плитка прессованного чая стоила 25 рублей. Они же проносили и продавали водку, анашу (то есть марихуану), «черняшку» (опиум), но делали это только через тех зэков, кому доверяли, или кого знали еще с воли. Поэтому в той системе очень ценится и славится умение «приболтать ноги», то есть войти в доверие, убедить в своей надежности мента для связи с волей и заноса нужного «грева» – чая, водки, наркотиков, которые всегда в ходу на тюрьме, и с их помощью «увязывают» многие проблемы от бытовых (прачка, баня, столовая) до «духовных», когда, «уделяя внимание на общак», «грея крест» (больничку), «подвал» (ШИЗО, ПКТ), получают широкую известность и подзавоевывают авторитет в зоне «правильным движением».
Проблемы, всегда существующие в тюрьмах, увеличились с жарой лета 1983 года – в 40 с лишним градусов в тени и немыслимой духотой в камерах из-за перенасыщенности заключенными вдвое, а то и втрое больше положенного. Из-за отсутствия вентиляции, когда зажженная спичка гасла, не дав успеть прикурить, потому что в большой духоте и влажности почти не было кислорода, многие, кто постарше годами или слабее здоровьем, часто теряли сознание. Их приходилось откачивать самим нам, заключенным, так как до санчасти, хотя она и находилась на противоположной стороне коридора, было не дозваться. Врач, капитан медслужбы, передавал какое-либо лекарство через постового, и хорошо, если это был валидол или подходящее для ситуации средство.
Все это накаляло обстановку до предела, и большим праздником было, когда старший лейтенант медслужбы, замначальника санчасти, очень отзывчивая и душевная женщина, что само собой чрезвычайно редко для тюремной системы, лично делала обход, подходя с дежурным дубаком к камерам. Удостоверившись визуально, она могла выдать необходимое лекарство на несколько дней. Вообще-то в тюрьмах это строго запрещено, и зэк-пациент обязан проглотить пилюлю прямо на глазах медперсонала.
Об этой женщине стоит сказать отдельно. Вопреки системе, и в тюрьмах попадаются хорошие люди, сохраняются те же человеческие отношения, что и на воле, а проявления доброты и тепла чувствительны и особенно ценны. Человек – существо удивительное и выживает даже там, где дохнут вши и тараканы, коих в тюрьмах великое множество, как крыс и мышей, ставших атрибутами мест заключения. Многие зэки лепят из хлебного мякиша всевозможные поделки, некоторые – на удивление талантливо, а кое-кто распускает носки, свитера и из ниток мастерит брелки, украшения для ручек, «фенечки»: любым способом отвлекаются от реальности, заменяют ее фантазией.
У меня же как-то сама собой появилась своя тема. Редко кому удается в полной опасности, в неволе, пережить любовную интригу, подарившую дивные минуты счастья и радости в этом аду. За что я благодарен судьбе – и той чудесной женщине, источавшей тепло, доброту, женственность, подобно лучам нежного света. Они выступали полным контрастом – диаметральной противоположностью всему тому, что ассоциируется со словом «тюрьма».
Как правило, в администрации тюрем и лагерей работает не много женщин. А те, что там служат, редко попадаются на глаза заключенным, так как работают либо в бухгалтерии, либо в спецчасти, куда зэки попасть не могут. Библиотекарь или медсестра, которых иногда удается видеть, вроде специально подбираются начальством так, что, появляясь, напрочь рассеивают представление не то что о женской красоте, но и о женственности.
Этот же случай был из ряда вон выходящим: то на удивление теплое, красивое и чистое, что касается выпавших нам мгновений, – по имени Людмила, а по званию – старший лейтенант внутренней службы. Впервые я увидел ее на плановом медосмотре, на обычной для всех заключенных процедуре, по прибытии в тюрьму. До этого были медсестры в тюрьмах Грозного, Махачкалы, были врачи-женщины, традиционные опросы и процедуры, штампы одинаковых фраз, – обычный тюремный конвейер, лишенный какого-либо сострадания и участия, – души человеческой.
Тут же в груди что-то колыхнулось, щелкнуло то непонятное, что иногда происходит с нами на подсознательном уровне. Что-то интуитивное, но пока еще не поддающееся осознанию и анализу, – это было не во взгляде (она смотрела и беседовала с другим заключенным), а в ее красивых карих глазах, внимательных и горячих; в движениях рук, головы для меня что-то стало вдруг необъяснимо притягательным и интересным. Может быть, та еле уловимая поволока с дымкой печали в глазах. Но это «что– то» подталкивало меня на большее, чем сухие однозначные ответы на врачебные вопросы: чем болен, когда болел?
Видимо, это «что-то» проблеснуло и в ее подсознании, потому как вопросы вышли из служебных рамок, и она заинтересовалась моей дотюремной жизнью – образованием, местом жительства и даже родителями. Происходило все очень быстро – две-три минуты, – не вызвав подозрения у ожидавших своей очереди заключенных и у надзирателей, которые находились тут же, в процедурной, на расстоянии трех-четырех метров, и отделяла нас ото всех лишь матерчатая ширма.
Вот этому «чему-то» и суждено было зажить, развиваясь самостоятельно, постепенно занимая собой все мои мысли и время, порождая светлые красивые мечты и надежды. Что для заключенного, наверное, дороже, чем жизнь.
Сначала я писал записки, «малявки», и незаметно вкладывал в руку в те дни, когда она делала обход сама, приближаясь к камерам, выслушивая жалобы заключенных и иногда лично выдавая лекарство (обычно же их разносил фельдшер, обходя камеры с лотком перед «кормушками»).
Делая вид, что рассказываю о своем здоровье, беру лекарство, я через отверстие в кованной двери камеры, именуемое «кормушкой», протягивал руку, незаметно оставляя записку: иногда мне удавалось задержать свою руку на ее – чуть дольше, ощущая прекрасное тепло и чудесное волнение, излучаемое ее руками. Тогда-то я понял, что руки могут сами говорить, и о многом.
Потом, скрывая радость и волнение от окружающих, я падал на свою шконку, брал книгу и делал вид, что читаю; наслаждался теплом и всем, сказанным ее руками, стараясь сохранить ее присутствие на своей ладони как можно дольше. Все это было нашей большой тайной, и в случае огласки ждали – особенно ее – серьезные неприятности, так как все сотрудники, поступая на службу, дают расписку, и в случае установления связи с арестованным их ждет немедленное увольнение, и даже суд, со статьей в биографии и трудовой книжке.
Можно представить, какому риску она себя подвергала. А я, получалось, подталкивал ее к этому. Но прервать нараставшее было выше моих сил: ведь именно им я жил тогда, и это было все, что дарило неимоверно дорогую радость, придавая смысл тюремному быту.
Иногда так, чтобы не привлекать внимания, я записывался к врачу в день ее дежурства. И когда ей удавалось отослать конвойного под каким-либо предлогом, или – зайдя из кабинета дальше в процедурную, я держал ее руки в своих, и говорили мы обо всем. Она рассказала, что ее муж – известный на весь Дагестан теневой бизнесмен-цеховик, очень состоятельный человек по тамошним меркам и, как понял я, самодур.
Возвращаясь из санчасти, я приносил кучу разных лекарств, что заказывали мне в камере. В основном это был теофедрин, который использовали заключенные вместо запрещенного тогда чая, и всевозможные снотворные средства, которых можно было обглотаться и, балдея, проспать два-три дня. А значит – в тех условиях на два-три дня быть ближе к свободе.
Все эти лекарства в тюрьме – на строгом контроле. И для моего тамошнего круга были большим «гревом», праздником. К тому же мы могли не только делиться ими с теми, кому положено, но и отложить что– то на тюремный общак, зарядив тем самым кого-либо на дальнюю этапную дорогу в лагерь.
Для всех существовала легенда, что у меня нездоровый желудок, и требуются частые процедуры. Так и шло время, и жил я в ожидании тех коротких встреч – и воспоминаниями о прошедших. А затем на пару недель меня увезли на суд в город Кизляр (в то время этап осуществляли «столыпинскими» вагонами через Гудермес, в десять дней один раз).
Вернулся назад уже с приговором – с десятью годами лагерей. Написав кассационную жалобу в Верховный суд, я все равно готовился к этапу в лагерь, так как понимал, что заинтересованность КГБ и его давление велики, поэтому вряд ли что-то может измениться в лучшую для меня сторону.
Когда меня уже забирали на этап, и в санчасти подготавливали медицинское дело, Людмила вызвала меня и довольно решительно отправила прочь конвойного. Со слезами, с драгоценным интимом в выхваченное нами и скомканное короткое время, прощались мы навсегда: впереди меня ждал большой кусок жизни в зоне; и на близость, вероятно, ее подталкивало сострадание. Благодарность к этой женской сердечности я храню и сейчас.
К власти пришел Андропов, что привело к ужесточению коммунистического режима, и в первую очередь лагерного. Ввели новую статью – 181 прим. 2, по которой на зоне могли держать бесконечно.
Ко всему этому, в Хасав-Юртовской тюрьме было отвратительное питание, часто давали в эту жару вонючую кислую капусту, ржавые кильки или зеленовато-синие сельди, после которых от жажды начиналась настоящая пытка, и знающие остерегались есть подобное. Но что самое страшное – был практически несъедобным хлеб, то есть так называемая зэками «святая пайка», которая многим узникам ГУЛАГа спасла жизнь.
В этой тюрьме из-за серо-черного мокрого, кислого хлеба тюремной спецвыпечки, в буханках которого мы чего только не находили (гайки, каменный уголь, гвозди, веревки, и пару раз даже дохлых мышей), тюрьма «упала» – то есть объявила голодовку, выдвинув свои законные требования и вызывая прокурора по надзору.
Весь красный от бешенства, с глазами, вылезшими из орбит и с пеной у рта, хозяин тюрьмы Амирханов в окружении оперов и режимников бегал по камерам, орал, пугая и увещевая, лишь бы тюрьма сняла голодовку. Шел второй ее день. На третий же, если баланда возвращалась обратно нетронутой, ставилось в известность МВД, вызывался прокурор по надзору и назначалась комиссия из МВД, что могло кончиться снятием начальника с должности, тем более, если требования были законными и убедительными.
Но после этого всегда наказывали и зачинщиков зэковских возмущений: когда уходила комиссия и все затихало, осуждали к «крытой», то есть к тюремному режиму, или меняли режим на более строгий, и всегда «лепили на дело полосу». То есть на конверте с запечатанным «личным делом» осужденного, где была наклеена фотография и написаны дата рождения, имя, фамилия, отчество, статья, срок, начало срока, конец срока, наискось из угла в угол красовалась синяя или красная полоса, что обозначало: склонен к побегу – или к нападению на конвой. А это значит, что каждый новый конвой в автозэке, «столыпине», на пересылках будет встречать и провожать вас дубинками и пинками сапог под издевательское: «Что, спортсмен? Ничего, сейчас здоровье отрихтуем – и ползать не сможешь!». К тому же и по прибытию в зону надо будет через каждые три часа ходить на вахту отмечаться, а если вдруг ночью приспичит в туалет, и тут проверка некстати, то утром можно собираться на 15 суток ШИЗО.
Так вот, Амирханов, забежав в камеру, стал кричать: «Что, хлеб несъедобный? Где? Покажите!». Как клоун, запрыгнув на стол – так как в камере не было места стоять – и со словами «Наши отцы в войну и не такой ели!», попытался сжевать и проглотить хлебный мякиш. Но это ему никак не удавалось, так как хлеб представлял собой сырое кислое тесто и не глотался, к тому же таким куском, что он сунул себе в рот.
В конце концов он выплюнул мякиш в руку и заявил, что идут переговоры о поставках хлеба с другого завода. А из-за духоты он разрешил попеременно открывать «кормушки», так, чтобы две камеры, расположенные друг против друга, не оказались с открытыми кормушками одновременно – во избежание переговоров и контактов среди заключенных. Что в принципе – большая глупость, так как контакты всегда налажены, и на то существует множество путей: от переговоров через дольняки, то есть туалетное очко, соединенное трубой с соседним; через «кабуры» – специально пробитые дырки в стенах; веревочных коней, гоняющих «малявы» из хаты в хату и с этажа на этаж; и сотня других.
Но, через несколько дней после снятия голодовки, взрыв эмоций доведенных до отчаяния заключенных все-таки произошел, вылившись в бунт. Как всегда, «жестокий и бестолковый».
В соседней 18-й камере молодой парень, по национальности лакец, неоднократно пытался вызвать врача, жалуясь на боли в сердце и затрудненность дыхания. Начальник санчасти не соизволил подойти а, как всегда, передал через постового горсть каких-то таблеток с обычными словами «Пусть пьет все, одна из них поможет». Но вечером, незадолго перед отбоем, о котором сирена извещает в 10 часов, и тогда же навешиваются контрольные собачки на двери, – больному стало плохо, и он умер в камере.
Сокамерники, выносившие тело покойного на матраце и положившие его в санчасти, на обратном пути сообщали другим заключенным, что произошло. Накалялась нервозная обстановка. Некто Саламу, запрыгнув на решетку окна, истошным голосом заорал, матерясь и призывая крушить камеры, – мол, «Смотрите, что с нами делают! Скоро тут все сдохнем».
Все произошло стихийно, в считанные, как мне показалось, секунды. В камере было человека двадцать четыре, ненависть буквально замкнула сознание, пробудив колоссальную силу: заключенные выдергивали железные столы из бетона пола, как будто фанерные, отрывали от шконок железные угольники, используя их подобно инструменту и помогая себе отдирать чугунные отопительные секции от стен, словно бумажные. Ржавая вода, оставшаяся в системе, вытекала, и пол был залит по щиколотку. Батареями начали бить, как тараном, в железные двери, раскачивая люфт в них, и в образовавшиеся щели просовывали угольники. В мгновение были выбиты двери вместе с железными косяками.
Потная, бушующая толпа вываливалась в коридор, где дежурный дубак по имени Осман, с бледно-землистым от страха лицом, стоял под колоколом сирены, которая протяжно выла, казалось, на весь Хасав-Юрт. Существовала реальная опасность того, что кто-то из толпы просто убьет его угольником: фактически все были вооружены.
Во избежание кровопролития и появления невинных жертв, я и два авторитета кроме меня – Юра «Даргинец» и Стас «Кумык» – останавливали восставших и удерживали их от необдуманных действий, так как стали слышны призывы открыть ментовскую камеру, «козлятник» (зэков, ранее сотрудничавших с администрацией), «петушатник» и женскую камеру. В этом случае зэки поубивали бы ненавидимых и презираемых ментов и «козлов», и тогда, как всегда после бунтов, расстреляли бы по 77-й статье УК не виновных, а тех, на ком висели недоказуемые дела, или тех, кого «приговорил» КГБ.






