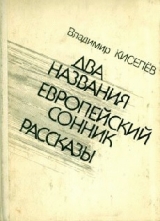
Текст книги "Два названия"
Автор книги: Владимир Киселев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Ровно в восемь часов утра капитан Павел Шевченко заступил на дежурство. Недавно он был назначен на ответственнейшую должность оперативного дежурного разведывательного управления.
В управление со всех концов мира стекались шифровки – тысячи донесений, многие из которых требовали немедленного решения. Оперативный дежурный в этих условиях был человеком, который представлял себе общую картину, который решал, куда и кому именно направить каждое донесение.
Павел Шевченко научился читать не по словам и не по абзацам, а сразу одним взглядом прочитывать целую страницу, мгновенно выбирать в ней главное, и это главное словно отпечатывалось у него в мозгу.
У него была своя система. Приступая к дежурству, он в течение нескольких минут просматривал последние донесения, затем то, что осталось нерешенным во время дежурства человека, которого он сменял, затем – все с той же скоростью – шифровки, которые поступили между этими двумя крайними точками. А тем временем поступали все новые и новые бумаги, и каждая из них требовала немедленного решения, и от каждой зависела жизнь многих людей.
Просматривая бумаги по своей системе, он вдруг остановился и дважды слово за словом перечитал шифровку из Берлина.
«Сегодня на двадцать два ноль-ноль подготовлена акция. Гитлер, Геринг, Геббельс, Борман. Просим добро».
Он побледнел и долго молча смотрел на шифровку. «Сегодня в двадцать два ноль-ноль…» Но ведь это было вчера в двадцать два ноль-ноль. В ворохе поступавших шифровок, в неразберихе, в результате которой донесение было расшифровано, как указывали цифры, только к часу ночи, предыдущий дежурный даже не видел этой шифровки.
Павел Шевченко позвонил в военную гостиницу, где жил в это время генерал Борисов. «Дело особой важности», – сказал он.
Генерал Борисов, не спавший всю ночь и лишь недавно уехавший из управления, появился через восемь минут – Павел Шевченко смотрел на часы и отсчитывал каждую минуту. Генерал прочел телеграмму и как-то весь обмяк. Он сел, достал из кармашка для часов крошечный флакончик с валидолом, вынул пробку и вылил содержимое флакончика в рот. В комнате сильно запахло мятными таблетками. Генерал Борисов недавно перенес инфаркт, и сейчас он тяжело астматически дышал и почему-то пытался правой рукой нащупать левую лопатку.
– Надо ехать, – сказал он наконец. – К Верховному. Передайте дежурство. Поедете со мной.
Черный «паккард», измазанный сверху для камуфляжа зеленой масляной краской, которая не держалась на черном лаке, отставала и морщилась, бесшумно мчался по Москве. Генерал Борисов сидел впереди рядом с шофером, и Павел Шевченко видел, как затылок у него, словно повинуясь какой-то невидимой пульсации, то краснеет, то бледнеет и покрывается каплями пота.
У въезда в Кремль машину дважды останавливали, дежурный проверял пропуск.
Павел Шевченко знал, что если бы даже у Сталина шло заседание Совета Обороны, то, по введенному Сталиным же положению, такое заседание могло прерываться докладами по так называемым «делам первой государственной важности», «делам второй государственной важности», а «дела разведуправления» – перебивали все.
– Дела разведуправления, – сказал генерал Борисов, еле державшийся на ногах, помощнику Сталина – Александру Николаевичу Поскребышеву.
– Подождите здесь, – ответил Поскребышев. – Сейчас доложу.
Он ушел, а генерал Борисов оперся спиной о стенку кабинета Поскребышева и еще больше обмяк. Спустя минуту Поскребышев вернулся и сказал:
– Пройдите. Товарищ Сталин вас ждет. Генерал Борисов направился к двери в кабинет
Сталина, и тогда Поскребышев предложил Павлу Шевченко:
– И вы пройдите, товарищ оперативный дежурный.
И Павел Шевченко пошел за генералом Борисовым, внезапно обожженный мыслью, что вот сейчас он увидит Сталина и что с ним произошел, может быть, единственный в истории, совершенно немыслимый случай: на поясе у него висел наган, который он не едал, потому что забыл об этом, и который у него по невероятному стечению обстоятельств не отобрали. Уставом караульной службы было предусмотрено, что всем дежурным в любой из частей Советской Армии полагается не пистолет, а наган, так как револьвер считался более надежным оружием: в важных случаях автоматике не доверяли.
Он невольно потянулся к кобуре, прикоснулся к крышке тыльной стороной ладони и, ступив за дверь, быстрым незаметным движением повернул замок крышки кобуры.
Сталин сидел за столом, уставленным телефонами, и Павел Шевченко сначала удивился и испугался, потому что ему на миг показалось, что это двойник Сталина, – он был совсем не похож на того вождя народов, которого Павел Шевченко столько раз видел на портретах и в кино: он был меньше, ниже ростом, и лицо у него было серое, рыхлое, в редких оспинах.
– Товарищ Верховный Главнокомандующий, – сказал генерал Борисов, и Павел Шевченко заметил, как поморщился Сталин при этом непривычном для него торжественном обращении, очевидно, обычно к нему обращались просто «товарищ Сталин». – Мы вчера получили шифровку о том, что на двадцать два часа вчерашнего дня в Берлине была подготовлена акция по уничтожению Гитлера, Геринга, Геббельса и Бормана…
При этих словах генерала Павел Шевченко заметил, как Сталин приподнял голову, как загорелись у него желтые, даже рыжие глаза, и, словно поправляя гимнастерку, потянулся к кобуре и отдернул уже прежде отстегнутую крышку.
– Но, – продолжал генерал Борисов все тем же тоном, – по нашей вине донесение не было своевременно расшифровано и прочитано, и мы не дали согласия на эту акцию.
Павел Шевченко замер. Он увидел, как у Сталина глаза потухли, как он снова медленно опустил голову и, глядя в стол, разговаривая не с ними, а будто сам с собой, медленно сказал:
– Это очень хорошо, что вы не успели своевременно расшифровать депешу. Это – большая удача. Гитлера нельзя убить. Он должен жить. Если бы вы поспешили и Гитлер был бы убит – они бы сговорились за нашей спиной. Немцы с американцами и англичанами. Нет, Гитлер, должен жить. До тех пор, пока мы не будем его судить, тут, в Москве…
Сталин посмотрел перед собой на Павла Шевченко и генерала Борисова и, словно опомнившись, вдруг улыбнулся ласково и хитро.
– А то, что вы не успели своевременно расшифровать донесение наших агентов, свидетельствует о том, что у вас в штабе еще недостаточно хорошо поставлена оперативная работа… Большое спасибо, товарищи.
Сталин вышел из-за стола и, полуобняв за талию генерала Борисова и Павла Шевченко, проводил их к двери.
– До свидания, товарищи.
Когда Павел Шевченко пришел через день, он узнал, что генерал Борисов и дежурный, который не прочел своевременно донесение из Берлина, отправлены рядовыми на фронт.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Каждому раненому полагалось прикалывать к одежде на видном месте картонную карточку, в которой указывались фамилия, имя, звание, характер ранения, где был ранен и ввели ли противостолбнячную сыворотку. Военфельдшер в полевом госпитале из-за спешки записал в карточку Шевченко Павла, что он был не только ранен, но и тяжело контужен, и не записал, что ему была сразу же введена противостолбнячная сыворотка. Оба эти пункта значительно усложнили положение Шевченко Павла.
Во всех последующих полевых и эвакогоспиталях ему вводили противостолбнячную сыворотку, и у него началась сывороточная болезнь – отекли ноги и лицо и заплыли глаза так, что их трудно было открыть. А в Уфе, куда они попали глубокой ночью, его поместили в палату для контуженых.
Это была огромная, чуть ли не на сто коек палата в большом двухсветном зале. До войны здесь помещалась психоневрологическая клиника, или иначе, как говорили местные люди, «сумасшедший дом», и Шевченко Павлу было совершенно непонятно, зачем сумасшедшим нужен был такой зал.
Утром он увидел, что на соседней с ним койке лежит какой-то обросший колючей бородой человек и странно посвистывает. На два длинных свистка соседи по палате принесли ему закурить, на один короткий – молоденький паренек в сером фланелевом халате со странной улыбкой на лице высек ударом напильника о кремень огонь и поднес соседу Шевченко Павла.
Шевченко Павел обратился к этому пареньку со словами: «А когда здесь кормят?» – но тот в ответ странно и громко замычал. Затем против койки Шевченко Павла остановился длинный и тощий старик в нижнем белье, халат у него был свернут жгутом, и им он, как шарфом, обмотал шею. Не сходя с места, он долго и пристально смотрел на Шевченко Павла, а тот ежился под этим взглядом, ворочался на койке и не решался спросить, чего же хочет этот странный человек. Затем он увидел, как четверо раненых, один из них на костылях, подхватили пятого, который отчаянно сопротивлялся, и с пением «Поднимайся, поднимайся, петушок пропел давно» куда-то его потащили.
Тут Шевченко Павел окончательно перепугался и стал кричать: «Сестра, сестра!»
Подошла пожилая санитарка в таком же халате, как на раненых.
– Чего тебе?
– Куда вы меня поместили? Я ведь… нормальный.
– Э, все так говорят, – махнула рукой санитарка и ушла.
Раненых покормили пшенной кашей, в которой ложками были сделаны небольшие углубления, заполненные каким-то коричневым маслом, похожим на машинное. Затем начался обход. Пришла молодая женщина-врач. Она долго расспрашивала Шевченко Павла, как и при каких обстоятельствах он был контужен, а потом подала ему положенный на толстую книгу лист бумаги и карандаш и предложила рисовать в ряд окошечки. Шевченко Павел рисовал одно за другим кривые окошечки, он волновался, рука его плохо слушалась, и чем больше он старался, тем более кривыми получались эти окошечки. Затем он нерешительно спросил:
– А для чего, простите пожалуйста, это нужно?
– Хватит рисовать, – сказала женщина. – Это у нас такой тест.
И вдруг ушла, а Шевченко Павел только собирался расспросить ее, почему же его сюда поместили и нельзя ли его перевести в другую палату. Лино у него еще больше распухло, поднялась температура, и ему все время хотелось спать. Он уже больше не обращал внимания на странные поступки окружающих его людей и лишь только раз испугался, когда человек, подававший сигналы свистками, вдруг в конвульсиях забился на своей койке в приступе эпилепсии. Прибежали санитары и унесли его.
Вечером к конке Шевченко Павла пробрался Васька Орлов.
– Здоров, – сказал он. – Скорей собирайся. Я договорился. Чтоб тебя в нашу палату. В командирскую. Пошли, пока не заметили, что я смотался.
– Да ведь у меня, – сказал Шевченко Павел, – нога…
– На одной допрыгаешь. Я тебя поддержу.
Шевченко Павел подумал, что не мешало бы поддержать самого Ваську Орлова – он еле стоял на ногах, но поднялся и запрыгал по палате.
– Браток, – обратился Васька Орлов к одному из раненых, – дай-ка костыли допрыгать человеку до шестой палаты, я их потом отдам.
Раненый показал пальцем на ухо и покачал головой.
– Ладно, – решил Шевченко Павел. – Я сам доберусь.
Для того, чтобы попасть в эту шестую палату, нужно было подняться на второй этаж. Трудней всего они преодолевали лестницу. Шевченко Павел цеплялся за перила, а левая нога казалась такой тяжелой, словно ее налили свинцом.
В шестой палате было всего пять коек. Шевченко Павел познакомился со своими соседями, и уже через неделю ему казалось, что знает он их давно, так словно прожил с ними многие годы. Ни разу он не разговаривал только с подполковником Мелькевичем – пожилым лысым человеком с мохнатыми, опущенными на глаза седыми бровями. Мелькевич постоянно лежал молча, лицом к стенке, и никогда нельзя было знать, то ли он спит, то ли просто мрачно смотрит в стенку.
Однажды они стояли с Васькой Орловым в коридоре у окна против двери своей палаты и курили махорку – в палате курить запрещалось. Какой-то молодой, белобрысый, с курносым веснушчатым лицом раненый неумело прыгал по коридору на костылях. Поравнявшись с ними, он спросил:
– Братцы, у вас тут иленских нет?
В госпитале все разыскивали земляков. Глаза у Васьки Орлова как-то странно загорелись.
– Иленских? – переспросил он. – Вон там в углу лежит смоленский.
Раненый заглянул в палату.
– Так он же спит, – сказал он нерешительно.
– Ничего, ты его разбуди, – предложил Васька Орлов. – Он обрадуется.
Раненый нерешительно запрыгал на костылях между коек, а Васька Орлов остался за дверью и удержал Шевченко Павла, который хотел войти в палату.
– Браток, – сказал раненый, тормоша подполковника Мелькевича за плечо. – Ты, говорят, иленский?
Мелькевич медленно повернулся и сел на койке.
– А ты – иленский? – спросил он странным высоким и хриплым голосом.
– Да, конечно же, смоленский, – обрадовался раненый.
Мелькевич вдруг выхватил у него костыль, размахнулся, чтобы ударить посетителя, но зацепил костылем за спинку стула, который стоял рядом с его койкой. Перепуганный раненый быстро-быстро на одном костыле запрыгал к двери. Мелькевич швырнул ему вслед костыль, снова лег и повернулся к стенке.
Раненый подхватил второй костыль и, испуганно оглядываясь на Ваську Орлова и Шевченко Павла, помчался по коридору.
Васька Орлов держался за живот от смеха.
– Что случилось с нашим подполковником? – спрашивал Шевченко Павел.
– Ничего, – помирал со смеху Васька Орлов, – это, понимаешь, военная тайна.
Васька в этот раз так и не рассказал Шевченко Павлу, в чем дело. «За такие разговорчики знаешь что бывает?» – отвечал он. И лишь впоследствии Шевченко Павел узнал подоплеку этого случая.
Мелькевич до ранения был полковником, командовал дивизией на Волховском фронте. Целый батальон перешел у него к власовцам. Батальон этот был новый, сформированный в Иленске. Мелькевича понизили в звании и послали командиром в штрафную роту, которая сражалась против бывшего его батальона. Там он был тяжело ранен, а уже после ранения в грудь у него начался гнойный плеврит. Слово «Иленск» он не мог и слышать.
Лишь в госпитале Шевченко Павел узнал: кроме того, что Васька Орлов был ранен в грудь, у него еще осколком была перебита кость на правой руке. Рука быстро срослась, но в санбате ее неправильно сложили и поэтому движения в плече были ограничены: он мог поднять руку только до лица, выше она не поднималась.
– Придется ломать и наново укладывать в гипс, – сказал хирург.
– Ломать не дам, – решительно ответил Васька Орлов.
– Как это – не дадите? – удивился хирург. – Ведь если мы вам не срастим правильно руку – вы на всю жизнь калекой останетесь.
– Ну и пусть. А ломать не дам.
Ваську Орлова посетил комиссар госпиталя – пожилой, со вставными зубами, батальонный комиссар Кузьменко, который объяснял Ваське Орлову, что если он не даст поломать и наново срастить руку, то он поступит как членовредитель, что его за это могут отдать под суд военного трибунала, потому что этим самым он принесет вред боевой мощи Красной Армии, что после госпиталя он не сможет попасть на фронт.
– Вы ведь хотите вернуться в свою боевую часть? – спрашивал комиссар.
– В свою – не очень, – подмигнул Васька Шевченко Павлу. – А на фронт – вернусь.
– Но ведь с такой рукой мы вас не сможем послать во фронтовую часть.
– Сможете, – сказал Васька Орлов. – Меня и без руки возьмут.
– Мы не имеем права.
– А не имеете права – так не направляйте. Ломать руку все равно не дам. И никакой трибунал меня не заставит.
Так ни с чем и ушел комиссар.
Через несколько дней в госпитале был обход главного хирурга округа генерала Васильева. О Васильеве в госпитале рассказывали легенды – он был военным хирургом и генералом еще до революции. И вот наконец Шевченко Павел увидел этого прославленного хирурга. В палату вошел крохотный худенький старичок в белом халате и белой шапочке на голове, лицо его так туго обтягивала желтая кожа, что, казалось, уже сейчас было видно, каким он будет после смерти, крохотные руки с тонкими узловатыми пальцами скрывали слишком длинные рукава халата, которые генерал все время подтягивал.
А за Васильевым двигалась свита – по меньшей мере человек тридцать – врачи из санитарного управления округа, начальник госпиталя, врачи из госпиталя. Они бы просто не поместились в маленькой шестой палате, и за генералом вошли лишь четыре человека, а остальные толпились за открытой дверью в коридоре.
У генерала Васильева была привычка, поправляя обеими руками сзади халат, так, как это делают женщины с платьем для того, чтобы оно не измялось, садиться на койку к раненому, которого он осматривал.
Он присел на койку к Шевченко Павлу, осмотрел его ногу и тихонько прикоснулся холодным пальцем к изуродовавшему ногу рубцу, ощупал ребра подполковника Мелькевича, а затем подошел к койке Васьки Орлова и сел на нее так же, как садился на остальные.
– А этот молодой человек ходит? – спросил он тихим, скрипучим голоском.
– Так точно, ходит, – отчеканил начальник госпиталя.
– Что же с ним? – снова спросил генерал Васильев, обращаясь не к Ваське Орлову, а к начальнику госпиталя.
– Неправильно сложили кость в медсанбате. Ограничены движения. Однако, несмотря на наше предложение, товарищ старший лейтенант Орлов отказался от операции по устранению дефекта.
Генерал Васильев взял в свою маленькую ручку здоровенную Васькину лапищу, поводил ею вверх и вниз и, полуобернувшись в сторону свиты, сказал своим скрипучим голоском:
– Ну для чего же это? У молодого человека так хорошо срослась кость. – При этом он пальцем прощупывал место перелома. – Уже и костная мозоль образовалась. А вы предлагаете все сначала. По-моему, это совершенно ни к чему…
И вдруг сильным, неуловимым движением генерал дернул вверх свою худую ногу и двумя руками ударил Васькину руку об острую, дернувшуюся навстречу коленку.
Васька Орлов слабо ахнул и откинулся на подушки. А вокруг него уже суетились врачи, накладывали гипс, и, когда он очнулся, в палате уже не было ни генерала Васильева, ни его свиты.
– Вот так генерал, – сказал Васька. – Вот это, сволочь, хирург. Посмотреть на него – так он и мухи не прихлопнет, сил не хватит. А сумел мне одним ударом руку поломать. Вот что значит настоящий хирург.
И Васька засмеялся от удовольствия.
Чего он ей только не рассказывал, этот Васька Орлов. Вечером во время дежурства молодой врач Елена Павловна заходила в палату, и все уже знали, что она пришла к Орлову. Она присаживалась на койку, и Васька едва уловимым шепотом говорил и говорил о фронте, о боях, о человеческом благородстве, о любви, и она то тихонько смеялась, то всхлипывала.
А результат получился совсем не такой, какого ждал Васька Орлов, а прямо противоположный. Чтобы оттенить собственное благородство и собственный героизм, он все рассказывал о благородстве и героизме Шевченко Павла, и Елена Павловна глядела на Шевченко Павла удивленно и восторженно и все заговаривала с ним, а потом ночью целовалась с ним в кабинете дежурного врача, и он ничего не умел, а ее это трогало и восхищало.
Васька Орлов только крутил головой: «Ну и ну!»
– Вот и вышло, – сказал он Шевченко Павлу, посмеиваясь чуть нервно, – это я для тебя старался. Сам бы ты никогда не свалил такую березку.
Шевченко Павел смущенно отмалчивался.
Неожиданно его вызвал комиссар госпиталя и, недовольно похмыкивая и не глядя ему в глаза, стал говорить о том, что люди на фронте кровь проливают, а он тут безобразиями занимается, что если он не возьмется за ум и будет компрометировать – он сказал «комплементировать» – военных врачей и этим самым подрывать оборонную мощь нашей армии, то его выпишут из госпиталя.
На следующий день Шевченко Павла вызвала встревоженная санитарка, и в вестибюле, в уголке, где стояла большая, уже много лет назад засохшая пальма в огромной деревянной кадке, он увидел заплаканную Елену Павловну, которая сказала, что уезжает с мужем в Москву.
Кто-то прошел по вестибюлю, и Елена Павловна отвернулась, выдохнула «я не могу» и убежала в коридор. Шевченко нерешительно пошел за ней, но она исчезла. Таким и было их прощание.
– Да ты не грусти, – сказал Васька Орлов. – Я еще кому-нибудь расскажу про тебя. Хочешь – Шурочке?
Шурочкой звали самую красивую медсестру госпиталя – татарку по фамилии Гибайдулина, с черной косой, толщиной в руку, с быстрыми, словно только что вымытыми черными глазами.
– Хочу, – неожиданно для себя ответил Шевченко Павел.
– Ну и агитатор, – удивился Васька Орлов. – Не понимаю, для чего ты доложил тогда про кабана?
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Павел Шевченко поежился. Бородка профессора Пушкарева щекотала ему грудь – профессор имел привычку выслушивать больных не стетоскопом, а просто ухом.
– Ну что ж, батенька, – сказал профессор. – Придется вам с недельку, а то и больше, полежать в госпитале. Просто отдохнуть. У вас совершенно истощена нервная система. И полный авитаминоз. Если не принять меры, вы расстанетесь с зубами.
– Сейчас – не до отдыха, – ответил Павел Шевченко.
– Эго все я, батенька мой, понимаю. Все для фронта, все для победы. Только пользы от вас слишком мало будет. Вы уже, наверное, и спать не можете… Ну сознайтесь – не спите ночами?
– Не сплю.
– Ну вот, видите. А человек, который не спит потому, что не может заснуть, опасен для любого дела. Особенно для такого, как ваше, – подчеркнул профессор, словно знал, чем именно занимается Павел Шевченко. – В общем, это не пожелание, а приказ. О своем решении я сообщу вашему начальству.
В последнее время Павел Шевченко стал замечать, что у него из десен выступает кровь – во рту постоянно солоно, а когда сплевывал – слюна была ярко-розовой. И по временам наступала такая слабость, что трудно было шевельнуть рукой, повернуть голову.
В госпитале его поместили в отдельную палату, которая почему-то называлась «боксом», и назначили усиленное питание – в эти голодные, трудные для Москвы дни ему приносили даже черную икру, свежие яйца, белый хлеб, портвейн.
Первые два дня он лежал, почти не двигаясь, ел очень мало, сам не знал, то ли спит, то ли бодрствует, а в голове лениво и непоследовательно ворочались мысли. Он думал о том, что нет такой цены, которая была бы слишком большой за победу, что в этой страшной и неминуемой войне между фашизмом и коммунизмом победу можно одержать только с именем Сталина, что все годы Советской власти, с первых дней Октябрьской революции, мы были в капиталистическом окружении, что это вызывало и не могло не вызвать всех жестокостей тридцать седьмого года, что Сталин уничтожил его отца, но, быть может, действительно у Сталина, а значит и у партии, не было другого выхода, что, может быть, правильно писал этот французский писатель, когда говорил, что Сталин – это Ленин сегодня, потому что и Ленин в этих обстоятельствах, возможно, поступал бы так же. Ленин так же знал, что такое революционная необходимость, он создал диктатуру пролетариата и призывал не щадить врагов Советской власти. А в наши дни всякий, кто против Сталина, – против Советской власти.
И как правильно, с какой гениальной прозорливостью, с какой уверенностью в победе сказал Сталин, что Гитлер должен жить, что он должен дожить до того времени, пока его будут судить в Москве. И как ужасно, как страшно, что его, Павла Шевченко, охрана пропустила к Сталину с револьвером – если пропустили его, значит, могут нечаянно, по глупости пропустить и другого, того, кто выстрелит из револьвера.
Он думал обо всем этом и еще о том, что сейчас нельзя болеть, что нужно превозмочь слабость, что нужно есть, и он заставлял себя есть и улыбаться.
Молодой врач по имени Елена Павловна, которой это имя совсем не подходило, ее так и хотелось назвать Леночкой, из-под докторской шапочки-колпака у нее выбивались мелкие пепельные кудряшки, а редкие брови она красила чем-то черным, сказала ему:
– Послушайте… как это ни удивительно, но я встречала человека, которого не только звали, как вас, Павлом Ивановичем, но и фамилия у него была Шевченко. Но он на вас был совсем непохож.
– Это у нас, на Украине, распространенная фамилия, – сказал Павел Шевченко. – Швець – по-украински «сапожник», а дети сапожника – уже Шевченки. Каким же он был, этот человек?
– Ну не знаю… Он был, по-моему, моложе вас, в очках… Он лежал в госпитале в Уфе. Я там служила, а потом мужа перевели в Москву и меня вместе с ним.
– Какое ранение у него было?
– В ногу. А кроме того, он был контужен. И я его заставила рисовать на бумаге окошечки.
– Для чего?
– Есть у нас такой тест. Если у человека при контузии повреждены лобные доли мозга, то он будет выполнять любое порученное ему дело механически, совершенно не интересуясь, для чего оно.
– И что же, – спросил Павел Шевченко, – у этого моего однофамильца были повреждены лобные доли?
– Нет. Он недолго рисовал окошечки. Потом мы с ним подружились. Он, понимаете, был поэтом, писал стихи.
«Мы с ним подружились, – подумал Павел Шевченко. – Она сказала это так, словно за этим что-то крылось. Словно между ними что-то было… Хотя, с другой стороны, она не забыла упомянуть, что была с мужем в Уфе и с ним же переведена сюда».
– Мы с вами тоже подружимся, – сказал он бодро, самоуверенно и многозначительно.
Ему хотелось побольше узнать о Шевченко Павле, но он не решился дальше расспрашивать ее, не хотел фиксировать на таком совпадении в именах и фамилиях внимание этой, может быть, и не такой уж легкомысленной, как ему показалось вначале, женщины.
– Где же вы кончали медицинский? – спросил он.
– В Москве.
– Совсем недавно?
– Нет, еще перед войной.
Она сказала об этом так, словно война уже продолжалась многие годы.
Он выздоравливал медленно и тяжело. Часто ночью о просыпался, думал о Шевченко Павле, о том, что этот человек, которого он так ни разу в жизни и не видел, связан с ним не только именем, а чем-то большим, и о том, что человек этот пишет стихи. Какие стихи? И для чего люди вообще пишут стихи?
И вдруг, к собственному его удивлению, у него в голове стали складываться строки, странные, будто тянувшиеся откуда-то из сердца, с тем же солоноватым привкусом крови, который теперь он всегда ощущал во рту.
За каждый шаг с нас взыщется,
Но скажем в оправдание,
Что наша жизнь – бессмыслица,
Как всякое страдание…
Он не знал, что это такое и почему у него вдруг с такой четкостью сложились эти строки и почему не складываются следующие. Он знал только, что дальше будет:
Как всякая бессмыслица,
Во всяком сновидении…
И рифму знал к слову «сновидение». Рифма была «мгновение». Но почему «мгновение» и как это «мгновение» будет связано со всем остальным, он не понимал и не представлял себе.
И еще ночами он вспоминал и перебирал в памяти народные украинские песни – прекрасные, удивительнейшие украинские песни, которые он учил в школе на уроках украинской литературы, и тогда они казались ему бессмысленными и неинтересными, и как громко и самозабвенно пела эти песни его молодая мачеха Маруся. Но сейчас в этих песнях он видел нечто большее, и у него подступал к горлу комок, когда он вспоминал о них.
Было такое украинское слово «цнотливість», которое и на русский-то трудно перевести – «целомудренность, чистота, скромность».
Посіяла огірочки
В лузі над водою,
Сама буду поливати
Дрібною сльозою.
Ростіть, ростіть, огірочки,
Чотири листочки.
Не бачила миленького
Чотири годочки.
Тільки тоді побачила,
Як череду гнала.
Не сказала: добрий вечір,
Бо мати стояла.
Четыре года не виделась какая-то девушка со своим милым, а потом вечером гнала домой коров, и улица сельская была пыльной, и в пыли этой тонули ноги коров, и пахло парным молоком и коровьим навозом, и огурцами с баштана, а у калитки перед плетнем стояла ее старенькая мать, а навстречу шел любимый, в сапогах, чернобровый, кареглазый, с шапкой в руках, но она не сказала «добрый вечер», потому что стыдилась матери.
И еще эта широкая, как степь, удивительная песня:
Ой на горі та й женці жнуть,
Ой на горі та й женці жнуть,
Ой на горі та й женці жнуть,
А попід горою
Яром, долиною
Козаки йдуть.
Он отрекся от себя. Отрекся от отца. Под чужим именем он служил в армии. Под чужим именем вступил в партию, и все это для того, чтобы честно, преданно, всем сердцем, всей кровью служить этой армии, этой партии, этой Родине. И вдруг ближе всего и дороже всего на свете стали для него украинские песни, которые он перебирал в памяти, как смотрел в детстве калейдоскоп: повернешь трубку – и перед глазами новые красочные несбыточные строения и орнаменты.
И ночью у него опять сложились стихи:
Я отомщу за все обиды…
И вдруг напомнят песню мне
На милом и полузабытом
На украинском языке.
И в комнате, где, как батоны,
Чужие лица без конца,
Взорвутся черные бутоны —
Окаменевшие сердца.
Я наклонюсь над краем бездны
И упаду, поняв в тоске,
Что все на свете – только песня
На украинском языке [1] [1] Стихи Леонида Киселева.
[Закрыть].
Но трезвым холодным утром, когда серый рассвет бродил по госпиталю и забирал с собой тех, чье сердце не годилось для того, чтобы прожить еще хоть день, он думал о том, что, быть может, все это совсем не так, что, быть может, переменив имя, больше всего он обманывал не других, а себя, что это он из трусости, из страха скрывает, кто он на самом деле, и стремится настолько залезть в шкуру другого человека, что даже сочиняет стихи.
Днем он спросил у своего врача Елены Павловны:
– Нельзя ли достать для меня книжку Тараса Шевченко «Кобзарь»?
– Не знаю, – сказала Елена Павловна. – Я постараюсь… А ведь знаете, странно, но с такой же просьбой достать ему «Кобзарь» Тараса Шевченко ко мне обратился когда-то ваш однофамилец. И я ему достала эту книгу.




