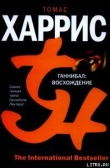Текст книги "Тайна Пушкина. «Диплом рогоносца» и другие мистификации"
Автор книги: Владимир Козаровецкий
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
XVIII
Казалось бы, все возможности исчерпаны, все кандидатуры перебраны – ан нет, уже и в этом веке находятся искатели: Л. Н. Васильева «посвятила этой теме» роман «Жена и муза», и, хотя последние строки пушкинской оды героине этого романа, императрице Елизавете ( «И неподкупный голос мой был эхо русского народа»), как любовная лирика вызывают, по меньшей мере, улыбку (про «ПОЛТАВУ»Васильева и не вспоминает!), она всерьез считает именно ее этой «утаенной любовью» Пушкина. А В. М. Есипов в книге «Пушкин в зеркале мифов» только на том основании, что «ПОЛТАВА»создавалась как раз тогда, когда Пушкин был увлечен Анной Олениной, предлагает «утаенной любовью» считать ее, хотя текст посвящения поэмы с Олениной никоим образом не вяжется (читатель и сам может пройтись по «контрольным точкам» посвящения, чтобы убедиться, что исследователь соответствием выдвинутой им версии и текста посвящения «ПОЛТАВЫ»не озаботился). Точно так же не отвечает он и на вопрос, какое отношение его кандидатура могла иметь к содержанию поэмы и зачем Пушкину было утаивать эту свою безответную любовь к Анне Олениной – не говоря уже о нарушении требования «утаенности» этого имени.
Но что побуждает исследователей творчества Пушкина снова и снова заниматься этими, похоже, бесперспективными поисками? Я вижу один ответ на этот вопрос: пушкинисты, занимавшиеся поиском этой « вечной, верной и неразделенной любви»были романтиками. Потому-то так легко разбиваются все эти версии при первом же сопоставлении с реальностью. И не надо упрекать меня, что я не верю в такую любовь: я верю. Я даже писал о такой любви в этой главе, когда говорил о Марии Волконской. И хотя ее фактическим мужем в Сибири и отцом ее детей стал другой декабрист – Александр Васильевичем Поджио, это сути ее поступка и моего отношения к ее любви не меняет. Но дело-то не в нашей вере в такую любовь, а в Пушкине; вопрос в том, могла ли быть такая любовь у него. А вот на этот вопрос осмелюсь ответить: нет, не могла.
Пушкин был влюбчив; Мария Волконская удивительно точно сформулировала эту его черту: «Как поэт, он считал долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми он встречался». Но его влюбленность никогда не продолжалась долго, его поэтическому восторгу была необходима новизна: «восторг с привычкою не уживется» (Шекспир). Да он и сам писал в 1828 году (в своем упорном желании обнаружить эту на всю жизнь «утаенную любовь» пушкинисты просто закрывали глаза на очевидное):
Каков я прежде был, таков и ныне я:
Беспечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья,
Могу ль на красоту взирать без умиленья,
Без робкой нежности и тайного волненья.
Уж мало ли любовь играла в жизни мной?
Уж мало ль бился я, как ястреб молодой,
В обманчивых сетях, раскинутых Кипридой:
А не исправленный стократною обидой,
Я новым идолам несу свои мольбы…
Его душа быстро освобождала место для новой любви, и, поскольку предметы любви были такими разными и, вследствие этого, развитие отношений с любимыми женщинами отличалось одно от другого, Пушкин написал столько стихов о любви, изобразив в них все оттенки очарованности и влюбленности, любви и любовной тоски, ревности и страсти. Он сохранял ко всем девушкам и женщинам, которых он любил, глубочайшее чувство благодарности за пережитое им чувство, и это дало ему возможность описать во всех оттенках и воспоминания о любви. Ничуть не желая умалить ни пушкинского эпиграмматического остроумия, ни его мудрости, я хочу только сказать, что Пушкин как лирический поэт был по преимуществу поэтом любви, и эта сторона его творчества, такая богатая и разнообразная, – для нас тоже бесценный дар.
XIX
Пора подводить предварительные итоги. Но, как я уже говорил, есть версии, которые рассматривают «утаенную любовь» и не как любовь к женщине. Справедливость требует рассмотрения и этих гипотез; мне известны две такие версии.
Александр Лацис обмолвился, что речь в посвящении «ПОЛТАВЫ»идет не об утаенной любви к какой-то женщине, а о любви к свободе. При всем моем восхищении Лацисом как пушкинистом, с ним трудно, невозможно согласиться, настолько постоянно и открыто, во всех нюансах поэт говорил о своей любви к свободе на протяжении всей жизни, тут ему нечего было утаивать. Кроме того, текст посвящения не позволяет подразумевать такой «адресат» без существенных натяжек – да и при чем тут «ПОЛТАВА»?
Виктор Листов, полагая, что «прекрасный женский образ есть лишь одно из возможных истолкований чернового наброска (посвящения „ПОЛТАВЫ“ – В. К.), оставляющее место и для других версий», выдвинул предположение, что под «утаенной любовью» Пушкин подразумевал Москву. Понимая, что предлагаемая им версия должна согласовываться со смыслом как всего стихотворения, так и каждой его строки, Листов, ссылаясь на словарь Даля, предлагает такую трактовку первой строки со словом «темной»:« Темноепо-русски имеет много значений, но здесь смысл очевиден: неясное, непонятное, слепое». Но словарь Даля для понимания этой строки со словом «муза» дает только два значения из трех, приведенных исследователем: « Темнота– неясность, непонятность чего. Темнота выражений, речи». и « Темное дело, темное место сочиненья,неясное, непонятное». Зачем же сюда притянуто значение «слепое», которое, очевидно, в этом стихотворении Пушкиным и не имелось в виду? А вот зачем:
«С редкой для своего времени смелостью Пушкин в начале поэмы представляет собственную музу как „темную“, т. е. непонятную и даже слепую(курсив мой. – В. К.). А завершает образом слепого (курсив мой. – В. К.)украинского певца, который, не видя своих слушательниц, рассказывает им неясную, таинственную историю судьбы героини».
Возникает неприятное подозрение: не видит ли исследователь в пушкинском тексте то, чего вовсе не было в творческом сознании автора? И его анализ следующей же строки это подозрение укрепляет: Листов объясняет, что антропоморфизм «Коснется ль уха твоего?»для Пушкина органичен и что обращение к Москве как к человеку не единожды имело место в его творчестве (например, «Но не пошла Москва моя К нему с повинной головою…») – что, на мой взгляд, в данном случае и объяснения не требует; но зато он никак не объясняет, почему у Пушкина есть сомнение в том, что Москва услышит (то есть прочтет) обращенное к ней посвящение поэта (и это через два года после триумфальной встречи Пушкина, приехавшего из ссылки по вызову царя, всей литературной и светской Москвой в 1826 году!).
Я готов согласиться, что строки «Поймешь ли ты душою скромной Стремленье сердца моего»могли бы относиться к Москве: так Листов видит душу Москвы и сердце Пушкина. Имеет право. Но почему «некогда его(Пушкина. – В. К.) любовь»к Москве прошла перед нею без ответа? «Узнай, по крайней мере, звуки, Бывало, милые тебе».Я полагаю, слово «звуки»здесь невозможно понять иначе, чем «стихи». Что же, по версии Листова, имеет в виду Пушкин? «Бывало»– это когда? В детских стихах? И почему в 1828 году, когда Пушкин чаще, чем когда-либо, бывает в Москве, он говорит о разлуке? ( «И думай, что во дни разлуки, В моей изменчивой судьбе».) Но верхом непонятности речи «темной музы» Листова является трактовка строк «Твоя печальная пустыня, Последний звук твоих речей – Одно сокровище, святыня, Одна любовь души моей».
Листов «полагает строку „Твоя печальная пустыня“обращением к Москве, сожженной пожаром 1812 года. Именно такой застает Пушкин древнюю столицу – разрушенной, но не утратившей достоинства „святыни“.»Я же полагаю, что это очередная натяжка. Разумеется, можно на мой счет поиронизировать: дескать, это ведь Скалозуб произносит слова у Грибоедова: «Пожар способствовал ей много к украшенью»; но и в самом деле, в 1828 году считать Москву «печальной пустыней»из-за пожара 1812 года, даже при большом количестве оставшихся пожарищ, – явный перебор. Но особенно меня мучает в версии Листова загадка строки « Последний звук твоих речей». Я никак не могу взять в толк, что за речи толкала Москва, когда и кому. За разгадку этой строки я готов простить Листову все остальные очевидные натяжки его версии.
Что же касается связи Москвы с «ПОЛТАВОЙ»,то нужно отдать должное изобретательности исследователя. Если он сможет ответить на все заданные мной вопросы по тексту посвящения, я, пожалуй, готов поверить, что в Полтавской битве решалась судьба Москвы (не только как олицетворения государства), и Пушкин задумал изобразить в поэме и это; жаль только, что в тексте поэмы он ни словом об этом не обмолвился. В таком случае у меня останется только один, последний вопрос: зачем Пушкину понадобилось утаивать свою любовь к Москве? И при этом в то же время писать: «Москва, как много в этом звуке…» ?
Таким образом, из всех версий пушкинской утаенной любви лишь одна, щеголевская, удовлетворяет нашим «начальным условиям»; кроме того, она соответствует содержанию посвящения «ПОЛТАВЫ»и самой поэмы. Нам осталось только ответить на вопрос, зачем Пушкину понадобилось утаивать свою давнюю любовь к 14-летней Марии Раевской.
XX
При том, что влюбленность в девочку-подростка была, несомненно, кратковременной и вполне в том духе, как об этом позже написала сама Мария Волконская, она могла иметь место: в угловатом подростке Пушкин мог разглядеть уже пробивавшееся женское обаяние с его зовущей и таинственной силой. Тем не менее озвучивать любовь к девочке для Пушкина было невозможно – выглядеть смешным в глазах друзей, в отношении к женщинам бывших преимущественно циниками, Пушкин не хотел. Но кратковременность, эфемерность этого чувства, да еще к подростку – отнюдь не единственная причина, по которой Пушкин утаил в посвящении «ПОЛТАВЫ»ту давнюю влюбленность.
С посвящением поэмы Марии Волконской Пушкин попал в трудную ситуацию. Он был любим практически всей семьей Раевских – все в ней к нему очень хорошо относились. С Николаем и Александром Раевскими он и вообще был дружен, в трех старших дочерей он был когда-то – в разной степени – влюблен; в письме к брату от 24 сентября 1820 года, рассказывая о путешествии с Раевскими по Кавказу и Крыму, он писал: «…Счастливейшие минуты жизни моей провел я посереди семейства почтенного Раевского», – а Пушкин был не только щепетилен в вопросах чести, но и никогда не забывал сделанного ему добра. Между тем отъезд Марии Волконской в Сибирь стал горем всей семьи. Ее отец и старший брат сделали все возможное, чтобы сначала уговорить, а потом и заставить ее отказаться от отъезда – вплоть до того, что шли на обман, скрывали от нее действительную информацию, – но сломить ее волю не смогли. Единственное, на что она вынуждена была пойти, это оставить своего сына, не брать его с собой – он вряд ли выдержал бы дорогу в Сибирь; впрочем, это его не спасло: известие о смерти сына догнало Марию Волконскую в дороге – и Пушкин на его смерть написал эпитафию:
В сиянье, в радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.
Ее решение, ее поведение, сила воли, которую она проявила, привели Пушкина в восхищение, но он не мог об этом сказать никому из Раевских и не мог об этом написать в посвящении открыто. Это и стало второй причиной, по которой он «темнил» в посвящении «ПОЛТАВЫ»,где, вдогонку обращаясь к Марии Волконской, писал: « …Твоя печальная пустыня, Последний звук твоих речей – Одно сокровище, святыня, Одна любовь души моей».Но была и еще одна причина, пожалуй, самая важная. Отъезд жен декабристов в Сибирь серьезно разозлил царя: им было запрещено возвращаться – то есть они уезжали навсегда, они и их дети лишались дворянского звания. Выразить открыто сочувствие одной из них, да еще не просто сочувствие, а восхищение, да еще не где-нибудь, а в посвящении поэмы о Петре, которую Николай I должен был прочесть непременно – и первым, – было опять-таки невозможно.
Таким образом, проблему «утаенной любви» Пушкина в посвящении «ПОЛТАВЫ»можно окончательно и бесповоротно считать решенной Щеголевым, а саму тему утаенной любви – закрытой, хотя для романтиков наш вывод будет отрезвляюще грустным: не было в жизни Пушкина «вечной, верной и неразделенной любви» – и даже просто « вечной и верной» . Если все же кто-то захочет вернуться к этой теме, придумав что-нибудь новенькое, я советую прежде всего соразмерить возникшую у него версию с заданными нами «начальными условиями» – или оспорить их и задаться какими-то другими, выполнять которые ему придется в любом случае.
XXI
– Но ведь еще не решен вопрос с N.N. «донжуанского списка», – справедливо заметят мне терпеливо читающие этот долгий разбор. – А вдруг там откроется нечто такое, что заставит нас совершенно иначе посмотреть на эту проблему. Ведь не зря же Пушкин зашифровал это имя?
Ну, что ж, мои терпеливые читатели, вы заслужили удовлетворение вашего любопытства. Получайте разгадку N.N. – хотя должен сразу сказать, что тайна здесь совсем простая, а ее неразгаданность до нашего времени – следствие недоразумения, элементарной невнимательности пушкинистов.
Поскольку «донжуанский список» составлен Пушкиным хронологически, эту «утаенную любовь» следует искать в промежутке между влюбленностями в Екатерину Карамзину и княгиню Авдотью Голицыну. «Роман» с Карамзиной начался и кончился в один день – 8 июня 1817 года, когда пушкинское признание в любви Екатерина Андреевна показала мужу, а тот вызвал на разговор Пушкина. 9 июня Пушкин заканчивает лицей, 11-го переезжает из Царского Села в Петербург, где принимает присягу на службе в Иностранной Коллегии и в течение трех недель живет в семье родителей, вместе с сестрой Ольгой, на Фонтанке, близ Калинкина моста. 3 июля Пушкин подает прошение о предоставлении ему отпуска «для приведения в порядок домашних <…>дел», 8-го получает паспорт на отъезд и 9-го июля уезжает с родителями и сестрой в Михайловское. На какое бы то ни было серьезное увлечение времени не было.
В конце августа Пушкин возвращается из Михайловского в Петербург, а предположительно в начале декабря у Карамзиных он знакомится с княгиней Авдотьей Голицыной. Уже 24 декабря 1817 года Карамзин пишет Вяземскому в Варшаву: «Пушкин… у нас в доме смертельно влюбился в Пифию Голицыну и теперь уже проводит у нее вечера: лжет от любви, сердится от любви, только еще не пишет от любви».
В промежутке «конец августа – ноябрь» 1817 года только и могло состояться увлечение, обозначенное как N.N. Об этом периоде жизни есть важное воспоминание в «Записках о Пушкине» И. И. Пущина; привожу его целиком:
«Между нами было и не без шалостей. Случалось, зайдет он ко мне. Вместо: „Здравствуй“, я его спрашиваю: „От нее ко мне или от меня к ней?“ Уж и это надо вам объяснить, если пустился болтать.
В моем соседстве, на Мойке, жила Анжелика – прелесть полька!
Возвратясь однажды с ученья (Пущин в это время проходил обучение в гвардейском конно-артиллерийском батальоне. – В. К.), я нахожу на письменном столе развернутый большой лист бумаги. На этом листе нарисована пером знакомая мне комната, трюмо, две кушетки. На одной из кушеток сидит развалившись претолстая женщина, почти портрет безобразной тетки нашей Анжелики. У ног ее – стрикс, маленькая несносная собачонка.
Подписано: „От нее ко мне или от меня к ней?“
Не нужно было спрашивать, кто приходил. Кроме того, я понял, что этот раз Пушкин и ее не застал.
Очень жаль, что этот смело набросанный очерк в разгроме 1825 года не уцелел, как некоторые другие мелочи. Он стоил того, чтобы его литографировать».
О чем идет речь в описанном случае? Пушкин зашел к Анжелике (это ее, знакомая Пущину, комната была изображена на рисунке), не застал ее, зашел к Пущину, не застал и его и пошутил, нарисовав толстую тетку Анжелики и приписав вопрос, который обычно задавал ему друг про саму Анжелику: «От нее ко мне или от меня к ней?»
Итак, N.N. «донжуанского списка» – полька Анжелика, поскольку других женщин в этот период у Пушкина не было. Спрашивается, почему никому не пришло в голову сопоставить хронологию списка и воспоминания Пущина? – Все дело в ошибке составителей «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина». Вот что записал М. А. Цявловский в «Летописи» под концом августа:
«Общение Пушкина с И. И. Пущиным… Раз, зайдя к Пущину и не застав его дома, Пушкин оставляет на столе лист бумаги со своим рисунком, изображающим их общую знакомую польку Анжелику, с надписью: „От нее ко мне или от меня к ней?“ Рисунок не сохранился».
Видимо, делая эту запись по памяти и не перепроверив себя, Цявловский, несмотря на приведенный Пущиным «стих Пушкина», перепутал Анжелику с ее теткой, а Пушкина с Пущиным: получалось, что роман если и был, то не с Анжеликой, а с ее теткой, и не у Пушкина, а у Пущина. Не исправила ошибку и Н. А. Тархова, составитель четырехтомной «Летописи», изданной в 1999–2002 годах, полностью доверившись авторитету Цявловского. Между тем «Летопись» всегда была настольным справочником для пушкинистов, и это пушкинское любовное увлечение на многие годы выпало из их поля зрения.
Однако сразу же возникает несколько вопросов: кто она такая? почему Пушкин зашифровал ее имя – да так, что вероятность расшифровки была ничтожно мала? Ведь в 1828–1829 гг., когда Пушкин вписывал в альбом Елизаветы Ушаковой свой «донжуанский список», вряд ли ему могло прийти в голову, что Пущин, единственный свидетель этого романа, когда-нибудь напишет воспоминания и расскажет о прелестной польке.
Полькой Анжеликой Дембинской заинтересовался Александр Лацис, правильно прочитавший пушкинскую стихотворную строчку, процитированную Пущиным: « На прочее завеса!»Из нее следовало, что было и « прочее»– то есть родился ребенок. В этом и содержится ответ на вопрос, почему Пушкин скрыл имя Анжелики: имя легко узнаваемое, можно было протянуть ниточку к незаконнорожденному ребенку, а Пушкин его засвечивать и не хотел, и не имел права. Лацису оставалось сделать даже не шаг – только повернуть голову, чтобы догадаться, что именно эта женщина скрыта под инициалами N.N., но он был увлечен тем, что обнаружил, глядя в другую сторону, и, как читатель увидит, его можно понять.
Но если адресат посвящения «Полтавы» не связан с N.N. «донжуанского списка», может быть, существует обратная связь? Справедливость требует проверить, не могло ли посвящение «Полтавы» быть адресованным польке Анжелике? В моей публикации «Утаенная любовь Пушкина» в «Русском Курьере» в 2004 г. я писал, что «адресатом стихотворения вполне можно было бы счесть и Анжелику Дембинскую: почему бы ее скромной душеи не вызвать у поэта такое сильное чувство – особенно если она любила самозабвенно?» Впоследствии я вынужден был в книге «Пушкинские тайны» (2009) отказаться от этого предположения – даже несмотря на то, что связь Пушкина и Анжелики оказалась не такой кратковременной, как это выглядит на первый взгляд. Чтобы оттрактовать посвящение в пользу этой кандидатуры, пришлось бы пойти на непозволительную натяжку: хотя во всем остальном Анжелика Дембинская удовлетворяет содержанию посвящения, отношения с ней Пушкина никак нельзя назвать безответной любовью. Было бы натяжкой считать и ее связь с «ПОЛТАВОЙ»обусловленной местом, рядом с которым жил ее сын (к тому же маловероятно, что она вообще знала, куда его отправили).
Но, может быть, в таком случае посвящение «ПОЛТАВЫ»адресовано… сыну Пушкина? Предположение странное, но не невозможное и не хуже иных предположений, высказанных теми, кто считал, что адресат – не женщина. А мы обязаны проверять все варианты. Так вот, даже если считать, что посвящение было связано с Полтавой местонахождением сына (что снимает необходимость соотнесенности с этой кандидатурой содержания поэмы), и большинство строк стихотворения можно как-то непротиворечиво объяснить, этот вариант противоречит строчкам «Узнай, по крайней мере, звуки, Бывало милые тебе…»и особенно – строке «Последний звук твоих речей…».
Таким образом, «тайная любовь» донжуанского списка Пушкина, как и ожидалось в результате исследования Щеголева, оказалась никак не связанной с «утаенной любовью» посвящения «ПОЛТАВЫ».Вместе с тем, сам факт «размещения» ее в донжуанском списке Пушкина не дает никаких оснований считать ее «вечной, неразделенной» любовью, прошедшей через всю жизнь поэта.
XXII
Так чем же был столь заинтересованно занят Лацис, что даже не удосужился взглянуть в сторону «донжуанского списка» и места в нем Анжелики Дембинской? Рассмотрим всю цепочку действий, которые последовали после рождения сына, – но сначала ответим на вопрос: почему именно сына, а не дочери? Лацис обратил внимание на стихотворение «Романс», которое Пушкин публиковал как написанное в 1814 году и которое, по очевидно присутствующему в стихотворении чувству ответственности за судьбу своего ребенка, не могло быть написано пятнадцатилетним поэтом, а реально – ранее 1819–1820 года, и, следовательно, дата под ним была мистификационной:
Под вечер, осенью ненастной
В далеких дева шла местах
И тайный плод любви несчастной
Держала в трепетных руках.
………………………………………………….
Дадут покров тебе чужие
И скажут: «Ты для нас чужой!»
Ты спросишь: «Где ж мои родные?»
И не найдешь семьи родной.
…………………………………………………….
Быть может, сирота унылый,
Узнаешь, обоймешь отца.
Увы! Где он, предатель милый,
Мой незабвенный до конца?
Утешь тогда страдальца муки,
Скажи: «Ее на свете нет,
Лаура не снесла разлуки
И бросила пустынный свет».
Но что сказала я? Быть может
Виновную ты встретишь мать.
Твой скорбный взор меня тревожит!
Возможно ль сынане узнать?
Впервые стихотворение было опубликовано в 1827 году в альманахе «Памятник отечественных муз» Б. М. Федоровым (это ему Пушкин признался в 1828 году: «У меня нет детей, а все выблядки»), которого время от времени подпитывал «залежавшимися» у него стихами Тургенев, причем опубликовано в неполном и неточном виде. Это означает, что Пушкин из-за прозрачности содержания публиковать его не собирался, что Федоров, как он неоднократно поступал, опубликовал его и без разрешения, и без согласования с Пушкиным, а потом, по факту публикации, Пушкин текст исправил для дальнейших изданий, изменением датировки уводя читателей от нежелательных для поэта догадок. Поскольку «Романс» был положен на музыку, публиковался в песенниках и часто исполнялся, Пушкин не стал его существенно править и сокращать (а стихотворение явно затянуто: здесь процитировано меньше трети).
Причиной мистифицирующего изменения даты было, конечно, рождение сына: Пушкин, даже опубликовав стихотворение, сделал все от него зависящее, чтобы тайна не была раскрыта. Напомню, что в беловике другой поэмы, написанной в 1824 году, Пушкин оставил еще одно свидетельство того, что был озабочен судьбой сына:«От общества, быть может, я Отъемлю ныне гражданина, Что нужды, я спасаю сына…»– написал Пушкин в не вошедшем в основной текст поэмы «ЦЫГАНЫ»отрывке, где эти слова произносит Алеко над новорожденным младенцем. Слова эти меньше всего могут относиться к ребенку, рожденному в цыганском таборе; очевидно, что Пушкин имел в виду собственного сына, когда писал их – хотя здесь мог подразумеваться как сын Анжелики, так и сын Катерины Раевской (по легенде у цыганки Земфиры от Пушкина была дочь).
Связь Пушкина с Анжеликой началась не раньше конца августа, когда он вернулся в Петербург, и прервалась не позже середины декабря, когда он уже был влюблен в Голицыну; не исключено, что передвижной зверинец, в котором она была билетершей, переехал в другой город, и вместе с ним уехала Анжелика. Ребенок родился не раньше начала июня и не позже середины августа 1818 года, и, скорее всего, Пушкин узнал о его рождении уже «по факту». Поэт в 19 лет стал отцом; это чувство для него было внове, кроме того, предстояло решать, что делать с ребенком.
Видимо, Анжелика сама кормила ребенка грудью в течение года, и Пушкин как-то помогал ей; во всяком случае, имеется свидетельство о возобновлении их отношений: «Пушкина мельком вижу только в театре, куда он заглядывает в свободное от зверей время, – пишет Тургенев Вяземскому 12 ноября 1819 года. – В прочем же жизнь его проходит у приема билетов, по которым пускают смотреть привезенных сюда зверей, между коими тигр есть самый смирный. Он влюбился в приемщицу билетов и сделался ее cavalier servant (преданным кавалером, франц.)»; не ее ли имел в виду Ю. Дружников, когда писал о «польке Анжелике… продавщице билетов в бродячем зоосаду»?
Дальнейшую судьбу ребенка проследил Александр Лацис. Николай Раевский, с которым Пушкин был дружен, взялся помочь пристроить младенца в имении Раевских; вот о чем напоминал Пушкин брату в письме от 24 сентября 1820 года из Кишинева: «ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги, для меня вечно незабвенные» . По поручению Раевского-младшего надежный человек их семьи француз Фурнье отвез мальчика в их южные имения, под Полтаву, где «полковой священник исполнил, согласно пожеланию генерала (Н. Н. Раевского-старшего. – В. К.), обряд, выписал метрическое свидетельство. Ребенку присвоена фамилия матери…» Крестным отцом был адъютант генерала Н. Н. Раевского Леонтий Васильевич Дубельт; предположительно по имени крестного мальчику дали имя Леонтий.
«Внебрачные дети теряли права дворянства, их не принимали в „приличных домах“, – писал в статье „Из-за чего погибали пушкинисты“ Лацис, проследивший ниточку, которая вела от Пушкина и Анжелики Дембинской к знаменитому правнуку. – …Они или их потомки могли вчинить иск мемуаристу о возмещении убытков за диффамацию, то есть за разглашение порочащих сведений, хотя бы и справедливых. Вот почему пикантные сюжеты излагались туманно, нередко с переносом на выдуманные адреса или с переносом на тех, кто уехал за границу и не оставил корней в России».
Судьбы таких потомков, их генеалогические древа, ведущие начала от известных в пушкинскую эпоху людей, обычно кем-нибудь прослеживались. Б. Л. Модзалевский был едва ли не лучшим знатоком генеалогии потомков известных людей в России XIX века: и кто кому кем приходится по документам, и кто – настоящие родители. Про него шутили, – писал Лацис со слов С. М. Бонди, – что у него вместо головы – картотека. А про его сына – что у него вместо головы картотека его отца. Ну, а если шутки в сторону, то в чем же дело? Заглянуть в картотеку, да и выяснить, что там дальше происходило с дитем любви Пушкина и прелестной польки! Оказалось, что картотека эта находится в Пушкинском Доме, а доступа к ней нет по причине того, что архив Модзалевского «не разобран». Ну, да, – ехидно шутил по этому поводу Лацис в 1993 году, – ведь после его смерти прошло-то всего шестьдесят лет! Вот и пришлось ему самому восстанавливать «линию судьбы» пушкинских потомков, которая привела Лациса к совершенно неожиданному имени.