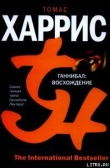Текст книги "Тайна Пушкина. «Диплом рогоносца» и другие мистификации"
Автор книги: Владимир Козаровецкий
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
X
21 сентября Пушкин уже в Кишиневе; в первые же дни пребывания там он заканчивает элегию « Погасло дневное светило…», начерно пишет стихотворение « Увы! зачем она блистает…». По воспоминаниям о Крыме им впоследствии написаны на Юге поэмы «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»и «БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН»и несколько стихотворений, в том числе – фрагмент «ТАВРИДА»,стихотворение «НЕРЕИДА»и элегия «Редеет облаков летучая гряда…»; Томашевский в своей статье «Утаенная любовь Пушкина», приводя текст этой элегии, утверждал, что в ее концовке речь идет о Екатерине Раевской:
Редеет облаков летучая гряда.
Звезда печальная, вечерняя звезда!
Твой луч осеребрил увядшие равнины,
И дремлющий залив, и черных скал вершины.
Люблю твой слабый свет в небесной вышине;
Он думы разбудил, уснувшие во мне:
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где все для сердца мило,
Где стройны тополы в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны.
Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижины сходила ночи тень —
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.
В качестве подтверждения адресата стихотворения и своей версии «утаенной любви» (в общем-то, вполне реальной, если бы не «ПОЛТАВА»)Томашевский процитировал выдержку из письма от 3 июля 1823 года к Екатерине Раевской ее мужа, Михаила Федоровича Орлова (в переводе с французского): «Среди стольких дел, одно другого скучнее, я вижу твой образ, как образ милого друга, и приближаюсь к тебе или воображаю тебя близкой всякий раз, как вижу памятную Звезду, которую ты мне указала. Будь уверена, что едва она восходит над горизонтом, я ловлю ее появление с моего балкона».
Вокруг последних трех строк элегии и «девы юной»существует целая литература; приведенный отрывок из письма, оригинал которого находится в Государственном Литературном Архиве, а текст Томашевский получил от Цявловской, эти споры, казалось бы, закрывает: Екатерине Раевской в момент ее встречи с Пушкиным было 23 года, ее сестрам Елене – 17, Марии – неполных 15 и Софье – 13, и, хотя «девой юной»элегии «Редеет облаков…»скорей уж должна была бы стать Елена Раевская, ею, пусть и с натяжкой, могла быть и Екатерина. Однако я бы сказал, что в данном случае образ «дева юная» – собирательный,Пушкин собралего из четырех сестер, которых он превратил в «подруг»: «имя называла»Екатерина, но, в соответствии с требованиями к романтическому стихотворению, Пушкину понадобилась «дева юная».Таким образом, в последних строках стихотворения действительно содержится некий биографический мотив, но какое он имеет отношение к «утаенной любви» – это ведь и вообще не стихотворение о любви (разве что принять за описание любовного переживания строки «сердечной думы полный, Над морем я влачил задумчивую лень»)? С этой точки зрения стихотворение «Зачем безвременную скуку…»в гораздо большей степени «биографично» и, скорее всего, и было написано о чувстве именно к Екатерине Раевской.
К своей трактовке «утаенной любви» Томашевский для убедительности подверстал и тогда же написанные Пушкиным следующие стихи:
Увы, зачем она блистает
Минутной, нежной красотой?
Она приметно увядает
Во цвете юности живой…
Увянет! Жизнью молодою
Не долго наслаждаться ей;
Не долго радовать собою
Счастливый круг семьи своей,
Беспечной, милой остротою
Беседы наши оживлять
И тихой, ясною душою
Страдальца душу услаждать.
Спешу в волненье дум тяжелых,
Сокрыв уныние мое,
Наслушаться речей веселых
И наглядеться на нее.
Смотрю на все ее движенья,
Внимаю каждый звук речей,
И миг единый разлученья
Ужасен для души моей.
Ссылаясь на письмо Н. Н. Раевского-младшего к матери от 6 июня 1820 года («Не следует предпринимать такое дальнее путешествие бесполезно, особенно в настоящем состоянии Катеньки. Вы ведь знаете, что чуть не решили предписать ей поездку в Италию».) и на одновременно написанное отцом письмо к Екатерине Раевской («Где ты, милая дочь моя Катенька? Каково твое здоровье и здоровье сестры твоей Аленушки? Вот единственная мысль, которая и во сне меня не оставляет…» и «Железные воды делают чудеса во всяком роде расслабления, как и в том случае, в каком ты, друг мой, находишься…».), исследователь полагал, что и это стихотворение адресовано ей, а не ее сестре, болезненной Елене Раевской. Между тем сам тон этого стихотворения не соответствует представлению Пушкина о Екатерине Раевской, о которой он писал в письме к Вяземскому 13 сентября 1825 года, сравнивая с ней Марину Мнишек его «Бориса Годунова» – и одновременно «засвечивая» ее и тем самым окончательно выводя ее кандидатуру из «конкурса» на звание «утаенной любви»: «Моя Марина славная баба, настоящая Катерина Орлова! знаешь ее? Не говори, однако ж, этого никому». А вот поэтической проницательности Пушкина, увидевшего в болезненности ее младшей сестры Елены Раевской обреченность (Елена, самая красивая из сестер, была так больна, что даже не могла танцевать, а впоследствии так и не вышла замуж) и написавшего об этом истинно сострадательное стихотворение, как и элегия «Редеет облаков…» не требующее биографического истолкования, – этой его человечности и чуткости следовало бы отдать должное.
Кажется очевидным, что процитированные в этой главе стихотворения ( «Зачем безвременную скуку…», «Редеет облаков…», «Увы, зачем она блистает…»)действительно написаны по поводу определенных адресатов; в то же время ни один адресат не отвечает всем (а нужно отвечать именно всем) требованиям, сформулированным в начале обзора: старшие сестры никакого отношения к содержанию «ПОЛТАВЫ» не имели, а Екатерина Раевская не соответствует и требованию «утаенности».
XI
Но для нас на примере элегии « Редеет облаков…»и других южных стихов Пушкина гораздо интереснее и важнее было бы проверить, как Пушкин осваивал Байрона, с которым Раевские вплотную познакомили его во время путешествия по Кавказу и Крыму: не Байрон ли стал источником романтической любовной лирики Пушкина южной ссылки?
Между тем из этих и других стихов Пушкина хорошо видно, как он, начиная свое стихотворение под влиянием чужого, постепенно выходит на собственное, оригинальное решение темы (такому подходу к освоению зарубежной поэзии и прозы он остался верен до последних дней). Таков, например, отрывок «ТАВРИДА»,созданный под впечатлением «Фрагмента» Байрона 1816 года («Could I remount the river of my years…»); он и задуман, и начат был, как и байроновский «Фрагмент», в виде свободного размышления о жизни и смерти в форме вопросов к самому себе и ответов на них. Но Байрон весь обращен туда, «после смерти», здесь его уже не волнует и не привлекает; Пушкин же, лишь «заглянув» туда, весь здесь, там его интересует лишь постольку, поскольку он может взять с собой туда то, что ему здесь дороже всего. Основной мотив пушкинского отрывка (стихи Байрона цитируются в моих переводах. – В. К.):
Во мне бессмертна память милой,
Что без нее душа моя?
Байроновское стихотворение дало Пушкину первоначальный толчок к размышлению, и на этом его влияние кончилось, хотя отдельные места текстуально почти совпадают; далее Пушкин самостоятелен, в том числе и в тех романтических мотивах, которые, в отличие от байроновского «Фрагмента», проявились в «Тавриде». А вот известное стихотворение Байрона, от которого Пушкин оттолкнулся при создании элегии «Редеет облаков…»(чтобы не ломать голову над выбором из многочисленных вариантов перевода этого стихотворения, привожу его в моем):
Звезда бессонных, грустная звезда,
Твой зыбкий свет не потревожит ночи,
Едва мерцая, словно радость, – та,
Что, в памяти взойдя, вернуться хочет;
Как счастья миг из прошлого, горишь,
Лучом бессильным светишь, но не греешь.
Звезда тоски, ты сердцу говоришь
С годами все ясней – и холоднее…
Байроновский адрес в элегии Пушкина очевиден, так же как очевидно и то, что это стихотворение Байрона стало всего лишь поводом для написания своего, самостоятельного стихотворения. Скупыми средствами – двумя-тремя строками байроновского мотива печальной вечерней звезды и двумя последними строчками своего стихотворения перечислительное описание пейзажа поэт превратил в оригинальную элегию с присутствием жизни и тайны. И когда мы говорим о влиянии Байрона на творчество Пушкина (особенно в его южных стихах и поэмах), следует помнить, что на самом деле Байрон повлиял на него не более, чем любой другой прочитанный им поэт. Пушкин без стеснения использовал ритмы, размеры и сюжеты чужих стихов – вплоть до того, что даже начинал свои стихи едва ли не целиком заимствованными строчками, – но тут же уходил от них, как только его личный опыт начинал расходиться с позаимствованным. В таком способе освоения чужого опыта он утвердился при изучении мировой поэзии, в которой все «перепевали» друг друга, – а он был чрезвычайно начитан.
Романтические мотивы его любовной лирики южной ссылки следовало бы все-таки рассматривать в связи не столько с Байроном, сколько с установками романтизма в кругу его общения доссыльного петербургского периода. А одним из основных мотивов романтизма и была вечная, верная и неразделенная, безнадежная любовь автора как романтического героя произведения. Флер таинственности и безумная любовь, раны любви и тоска любви – все эти атрибуты романтической любви, будучи штампами сами по себе, тянули за собой в стихи и всевозможные образные штампы, вроде «томительный обман», « жестокая судьба», « безумный сон», « узник томный» и т. п. (осененные именем Пушкина, они расплодились в русской поэзии как раз тогда, когда Пушкин стал от них избавляться).
Другими словами, там, где наша пушкинистика в южных стихах поэта искала следы любви к некой женщине, любви, которую Пушкин тайно пронес через всю жизнь – или, по меньшей мере, через многие годы, – наши пушкинисты гонялись за призраком романтизма. В стремлении распознать «адресат» такой любви едва ли не в каждом стихотворении Пушкина они слишком часто заходили необоснованно далеко, а главное – совершенно немотивированно: большинство любовей 1-го «донжуанского списка» были неразделенными, но ни одна из них не стала вечной, это были характерные для Пушкина вспышки влюбленности. Однако же надо сказать, что Пушкин сознательно сделал все возможное, чтобы не только современные ему читатели, но и поколения пушкинистов занимались упорными розысками адресатов его стихов, виртуозно объединив их реальные биографические мотивы и их общую романтическую настроенность («читатель должен верить в безнадежную любовь автора») и проявив при этом незаурядный мистификаторский талант.
XII
Элегия «Редеет облаков воздушная гряда…»была опубликована в 1824 году, в числе нескольких стихотворений Пушкина в «Полярной Звезде», но наличием явного адреса среди них отличалось другое стихотворение:
Простишь ли мне ревнивые мечты,
Моей любви безумное волненье?
Ты мне верна: зачем же любишь ты
Всегда пугать мое воображенье?
Окружена поклонников толпой,
Зачем для всех казаться хочешь милой,
И всех дарит надеждою пустой
Твой чудный взор, то нежный, то унылый?
Мной овладев, мне разум омрачив,
Уверена в любви моей несчастной,
Не видишь ты, когда в толпе их страстной,
Беседы чужд, один и молчалив,
Терзаюсь я досадой одинокой;
Ни слова мне, ни взгляда… друг жестокий!
Хочу ль бежать, – с надеждой и мольбой
Твои глаза не следуют за мной.
Заводит ли красавица другая
Двухсмысленный со мною разговор, —
Спокойна ты; веселый твой укор
Меня мертвит, любви не выражая.
Скажи еще: соперник вечный мой,
Наедине застав меня с тобой,
Зачем тебя приветствует лукаво?..
Что ж он тебе? Скажи, какое право
Имеет он бледнеть и ревновать?..
В нескромный час меж вечера и света,
Без матери, одна, полуодета,
Зачем его должна ты принимать?..
Но я любим. Наедине со мною
Ты так нежна! Лобзания твои
Так пламенны! Слова твоей любви
Так искренно полны твоей душою!
Тебе смешны мучения мои;
Но я любим, тебя я понимаю.
Мой милый друг, не мучь меня, молю:
Не знаешь ты, как сильно я люблю,
Не знаешь ты, как тяжко я страдаю.
Адрес стихотворения – пусть и не для всех, а только для самого адресата и его близких – выдавали строки «В нескромный час меж вечера и света, Без матери, одна, полуодета, Зачем его должна ты принимать?..»,и по сравнению с этой откровенностью элегия «Редеет облаков…»– образец целомудренности и такта; тем не менее, Пушкин-мистификатор произвел вокруг последних трех строк этой элегии несколько забавных маневров, чтобы заинтриговать и читателей, и «посвященных». Пушкин рассчитывал, что «дева юная»,прочитав его стихотворение, вспомнит не только звезду, которую она «именем своим… называла»,но и байроновское стихотворение, которое они вместе читали в Крыму, и поймет напоминание про «счастья миг из прошлого»как на ими прожитую любовь.
Одновременно он ждал реакции на его последнее стихотворение «Простишь ли мне ревнивые мечты…»– реакции его новой любви, из настоящего ; вот почему он, послав стихи для публикации, с таким нетерпением ожидал их появления. При этом Пушкин послал Бестужеву полный текст элегии «Редеет облаков…»с условием не печатать три последние строки, прекрасно понимая, что без них стихотворение не просто проигрывает, а просто пропадает, и рассчитывал, что Бестужев, не увидев в этих строчках ничего нескромного или компрометирующего Пушкина, а в их опубликовании – чего-то зазорного, не захочет публиковать стихотворение без последних трех строк и не удержится от публикации элегии в полном варианте. Что и произошло. И 12 января 1824 года Пушкин, получив альманах, тут же пишет Бестужеву «рассерженное» письмо:
«Конечно я на тебя сердит и готов с твоего позволения браниться хоть до завтра. Ты напечатал именно те стихи, об которых я просил тебя: ты не знаешь до какой степени это мне досадно. Ты пишешь, что без трех последних стихов Элегия не имела бы смысла. Велика важность! А какой же смысл имеет:
Как ясной влагою полубогиня грудь
………………………………. воздымала
Или
с болезнью и тоской
Твои глаза и проч.?»
Пушкин имел в виду то, что в «Полярной Звезде» в стихотворении «Простишь ли мне ревнивые мечты…»вместо «боязнью»было напечатано «болезнью»,а в небольшом стихотворении «НЕРЕИДА»перед словом «воздымала»цензура выкинула остальную часть строки:
Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел нереиду.
Сокрытый меж дерев едва я смел дохнуть:
Над ясной влагою полубогиня грудь
Младую, белую как лебедь, воздымала
И пену из власов струею выжимала.
Стихотворение «НЕРЕИДА»уж никак не менее «биографично», чем элегия, и никого не могло обмануть его размещение в разделе «Подражания древним». Пушкин обыграл классический образ, сочетанием «Таврида», «полубогиня»и «младая грудь»скрыто обозначив одну из четырех сестер, с которыми он недавно отдыхал в Крыму, – 14-летнюю Марию Раевскую: ведь рядом с Екатериной (23 лет) и Еленой (17 лет) она была только «полубогиней» и только к ней могла относиться пушкинская «младая грудь».И тем не менее весь сыр-бор разгорелся именно вокруг элегии – вокруг «девы юной».Но какова пушкинская аргументация! А если бы вмешательства цензуры и опечаток не было?!
Затем Пушкин разыгрывает и Ф. В. Булгарина:
«…Вы очень меня обяжете, если поместите в своих листках („Литературные Листки“, приложение к „Северному Архиву“. – В. К.)здесь прилагаемые две пьесы. Они были с ошибками напечатаны в Полярной Звезде, отчего в них и нет никакого смысла. (И это после того, как он, выкинув в каждой „прилагаемой пьесе“ по три строки, одну обессмыслил, а смыслу второй причинил серьезный ущерб! – В. К.)Это в людях беда небольшая, но стихи не люди».
В связи с предыдущим последняя фраза – чистейшая пушкинская издевка, понятная только ему: Булгарин все принимает всерьез, Пушкин «из-за угла смеется» над ним. И Булгарин перепечатывает стихотворение «Простишь ли мне ревнивые мечты…», выпустив три строкии еще раз «засвечивая» его адресата и разжигая интерес к нему, и элегию «Редеет облаков…» без последних трех строкс объяснением допущенной «ошибки», еще больше интригуя читателей.
Другими словами, Пушкин публикует пустышку, заставляющую читателей обратить внимание на три последние выброшенные строки, без которых стихотворение выглядит, по меньшей мере, странно, и разыскивать их – тем более, что они уже опубликованы. В тон пушкинской мистификации стихотворение публикуется с цитатой по поводу «Бахчисарайского фонтана» из письма Пушкина к Бестужеву от 8 февраля 1824 года, которое попало к Булгарину (письмо было адресовано Н. И. Гречу с последующей переадресовкой: «В С-Петербург, В газетной экспедиции Пр.<ошу> дост.<авить> г-ну Бестужеву»):
«Недостаток плана не моя вина. Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины
Aux douces loix des vers je pliais les accents
De sa bouche aimable et naïve.
Впрочем я писал его единственно для себя…».
Пушкина разозлила беспардонность Булгарина, без разрешения влезшего в его переписку и опубликовавшего выдержку из нее, – но только это; в остальном Булгарин только подыграл Пушкину, который, используя его, разыгрывал и заинтриговывал публику, заставив ее толковать о некой «деве юной», которая стала вдохновительницей и элегии, и «БАХЧИСАРАЙСКОГО ФОНТАНА»,и, наконец, снова разыграл Бестужева, устроив ему форменный эпистолярный «скандал». Таким образом, опубликовав фактическое «посвящение», мистификатор так закончил всю эту историю в письме к Бестужеву от 29 июня 1824 года:
«Милый Бестужев, ты ошибся, думая, что я сердит на тебя – лень одна мне помешала отвечать на последнее твое письмо (другого я не получил). Булгарин другое дело. С этим человеком опасно переписываться. Гораздо веселее его читать. Посуди сам: мне случилось когда-то быть влюблену без памяти. Я обыкновенно в таком случае пишу элегии, как другой мажет […] свою кровать. Но приятельское ли дело вывешивать напоказ мокрые мои простыни? Бог простит! Но ты острамил меня в нынешней „Звезде“ – напечатав три последние стиха моей элегии; черт дернул меня написать еще кстати о „БАХЧИСАРАЙСКОМ ФОНТАНЕ“какие-то чувствительные строчки и припомнить тут же мою элегическую красавицу. Вообрази мое отчаяние, когда увидел их напечатанными. Журнал может попасть в ее руки. Что ж она подумает, видя с какой охотою беседую об ней с одним из петербургских моих приятелей. Обязана ли она знать, что она мною не названа, что письмо распечатано и напечатано Булгариным – что проклятая Элегия доставлена тебе черт знает кем и что никто не виноват. Признаюсь, одной мыслию этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей вашей публики. Голова у меня закружилась».
Стихотворение невинно, как слеза младенца, а можно подумать, что Пушкин описал в нем половой акт, на который он намекает (вернее, о котором он сообщает) в письме! Здесь все вызывает улыбку – и «опасно переписываться», и «влюблен без памяти», и «черт меня дернул», и «мое отчаяние», и «никто не виноват» – и уж, конечно, «голова у меня закружилась»! Между тем перепечатка стихов с выпущенными строчками только усилила интерес к ним, и Пушкин своего добился, заставив-таки публику теряться в догадках, кто же вдохновил его на бахчисарайский «фонтан слез» и на элегию; но самое забавное – то, что прошло без малого 200 лет, а публика по-прежнему теряется в догадках! Каков мистификатор!
XIII
В статье «Посвящение „ПОЛТАВЫ“(адресат, текст, функция)» Лотман соглашался с Томашевским, что «именно о Екатерине Раевской сказаны Пушкиным слова: „…одной мыслию этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики“». Одновременно, рассматривая эту же историю, Лотман отмечал эту мистификаторскую особенность переписки Пушкина: «…Использование личных писем с целью толкнуть читателей к догадкам относительно биографического смысла тех или иных стихов стало для Пушкина южного периода такой же системой, как многозначительные умолчания и пропуски в текстах, имеющие целью не скрыть интимные чувства автора, а привлечь к ним внимание …
Еще более это очевидно относительно „БАХЧИСАРАЙСКОГО ФОНТАНА“, – пишет далее Лотман. – Пушкин жалуется на то, что Туманский смешивает его с Шаликовым. Но ведь до этого сам он, будучи совсем не высокого мнения об уме своего собеседника и зная о его склонности передавать новости, сообщил, как сам же свидетельствует, Туманскому „отрывки из Бахчисарайского фонтана (новой моей поэмы), сказав, что я не желал бы ее напечатать, потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру“… Пушкин знает, что Туманский написал об этом в Петербург, и просит брата Льва принять меры против разглашения этих сведений. Невозможно не увидеть здесь стремления Пушкина к тому, чтобы известие было разглашено, чтобы в Петербурге (общительность брата ему известна, и трудно найти менее подходящую кандидатуру для конфиденциальных поручений) еще до получения поэмы распространились определенные ожидания и установилась необходимая для восприятия текста биографическая легенда. Цель эта преследуется с необычайной энергией и упорством».
«Пушкин необыкновенно правдив, в самом элементарном смысле этого слова, – писал Гершензон; – каждый его личный стих заключает в себе автобиографическое признание совершенно реального свойства…» И в самом деле, как мы видим, все четыре стихотворения – и « Зачем безвременную скуку…», и « Редеет облаков…», и « Увы, зачем она блистает…», и «НЕРЕИДА»– действительно автобиографичны, даже если в каждом имеет место частичный «перенос» информации; стихи написаны о трех сестрах: каждой – по серьге. В то же время эти стихи для понимания не требуют биографического подхода; Пушкин использовал свой опыт, чтобы написать стихи, в той или иной степени имеющие отношение к жизни души любого из нас, но на том стоит и вся мировая поэзия.
Что же до возможности любовного романа между Пушкиным и Екатериной Раевской, то это может быть для нас интересным совсем с другой точки зрения, безотносительно проблемы пушкинской «утаенной любви». В том же письме к брату от 24 сентября 1820 года Пушкин писал: «Все его дочери (генерала Н. Н. Раевского. – В. К.) – прелесть, старшая – женщина необыкновенная» . Тем не менее, роман у Пушкина с «Катериной III» не мог состояться в Крыму: Пушкин жил в семье Раевских, относившихся к нему так дружелюбно, с такой любовью и заботой, что он в жизни бы не посмел, не вздумал бы посягнуть на честь любой из незамужних сестер. Но как только Екатерина Раевская стала Орловой…
23 февраля 1821 года Тургенев сообщал Вяземскому: «Михайло Орлов женится на дочери генерала Раевского, по которой вздыхал Пушкин». (Какая уж тут утаенность!) Узы чужого брака для Пушкина никогда не были священными, и случай с запиской Екатерине Андреевне Карамзиной для него не стал уроком. В соответствии с принятыми тогда «нормами поведения» морального барьера в отношении чужих жен для него не существовало, поскольку, как уже отмечалось выше, браки заключались не на небесах (и Екатерина Раевская за генерала М. Ф. Орлова, и Мария Раевская за генерала С. Г. Волконского вышли не по любви), и романы с чужими женами были «круговой порукой» (и это отношение мужчин к замужним женщинам обернулось против него самого, когда дело коснулось его собственной жены).
Между тем мужа Екатерины Раевской, одного из виднейших деятелей декабризма, он знал еще и в Петербурге и относился к нему с огромным уважением: Орлов был одним из лучших политических умов России – и не только для Пушкина. Впоследствии Екатерина Раевская сделала все возможное, чтобы эта связь не была раскрыта; в частности, она отрицала даже какую бы то ни было возможность совместного с Пушкиным чтения Байрона во время его пребывания в их семье в Крыму. На самом же деле у нее от Пушкина был ребенок, а Михаил Гершензон по этой линии был правнуком Пушкина (тоже незаконнорожденным, отданным на воспитание в еврейскую семью кишиневских Гершензонов) – эту ветвь происхождения одного из самых талантливых потомков Пушкина проследил Александр Лацис в своей статье «Из-за чего погибали пушкинисты». Знал ли кто-нибудь из друзей Пушкина об этой связи и об этом его тайном ребенке? – Скорее всего; не случайно же среди тех, кому Вяземский в первую очередь написал о смерти Пушкина, была Екатерина Орлова: он сообщал о смерти отца ее сына. Наиболее вероятно, что именно этому сыну и было адресовано стихотворение времени южной ссылки:
Дитя, не смею над тобой
Произносить благословенья.
Ты взором, ясною душой —
Небесный ангел утешенья.
Да будут ясны дни твои,
Как милый взор твой ныне ясен.
Меж лучших жребиев земли
Да будет жребий твой прекрасен.
Это ее, Екатерины Раевской-Орловой письма Пушкин, получая их в Михайловском, торжественно читал, запершись в кабинете, и затем уничтожал, сжигая: каждое письмо было и весточкой о сыне, но каждое грозило и опасностью обнаружения этой связи, чего оба они стремились избежать. Это отдельная история, она может представлять интерес и как комментарий к происхождению стихотворения 1822 года « ГРЕЧАНКЕ»(Екатерина Раевская была гречанкой по матери), с его намеком на совместное чтение «Гяура» Байрона и прозрачной концовкой:
Мне долго счастье чуждо было,
Мне ново наслаждаться им.
Об этом южном пушкинском романе Лацис писал: «Сын Катерины Николай родился 20 марта 1822 года, …на целый месяц (на 29 дней) позже обычного срока. Отсчитаем обратно 40 недель (280 дней). Спрашивается, где была Екатерина Николаевна в понедельник, 13 июня 1821 года?
По данным „Летописи жизни и творчества Пушкина“ …Пушкин воротился в Кишинев из Одессы 25 или 26 мая. Чета Орловых прибыла из Киева в Кишинев около 5 июня. Итак, все действующие лица нашего сюжета в должное время оказались в должном месте…
Поэт включил это стихотворение, пометив его 1822 годом, в раздел „Послания“. Под каким номером?
Нетрудно догадаться. Это судьбоносное число мы вычислили, а Пушкин помнил. И не отказал себе в удовольствии в честь своего личного праздника поставить его под номером – тринадцать!»
Но к «ПОЛТАВЕ»,как и к N.N. «донжуанского списка» (у нее в списке было свое место), Екатерина Раевская, конечно же, не имела никакого отношения: к ней не могли относиться строки « Коснется ль уха твоего?»и « Твоя печальная пустыня». Как и Карамзина, она была среди первых читателей всего, что публиковал Пушкин, и для него было бы неприемлемым кокетством выражать сомнение в том, что до нее дойдет издание «ПОЛТАВЫ»; к тому же нет оснований и условия ее жизни или ее нравственно-психологическое состояние в 1828 году считать «печальной пустыней».