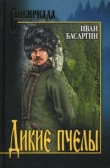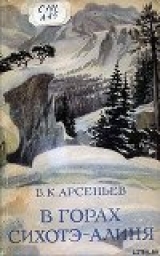
Текст книги "В горах Сихотэ-Алиня"
Автор книги: Владимир Арсеньев
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
День только что кончился. Уже на западе порозовело небо и посинели снега, горные ущелья тоже окрасились в мягкие лиловые тона, и мелкие облачка на горизонте зарделись так, как будто они были из расплавленного металла, более драгоценного, чем золото и серебро. Кругом было тихо; над полыньей опять появился туман. Скоро, очень скоро зажгутся на небе крупные звезды, и тогда ночь вступит в свои права. В это время я увидел удэхейца Маха, бегущего к нам по льду реки. Он был чем-то напуган.
– Что случилось? – спросил его Косяков.
– Гыпы, – отвечал он, Куты – Мафа оно инаки дзябзянгии (т. е. худо, тигр унес одну собаку). – При этом он добавил, что зверь далеко не ушел и ест собаку поблизости от его жилища.
До наступления полной темноты оставалось не больше полутора часов. Я рассчитал, что если я побегу за ружьями, туда и обратно – два километра, а затем полтора километра до юрты удэхейца и еще до тигра, вероятно, с полкилометра, на что потребуется не менее часа, то тигр за это время успеет съесть всю собаку и спокойно удалиться. Подумав немного, я спросил удэхейца, есть ли у него ружье. Он ответил, что имеет берданку, но стрелять священного зверя не будет, но так как Куты-Мафа сам напал на его дом, то он обещал проводить меня и указать место, где сейчас тигр находится. Тогда я решил итти с удэхейцем, а Крылов и Рожков побежали в лес за ружьями. Через двадцать минут я был уже в юрте Маха. Жена его с двумя детьми сидела испуганная, забившись в угол и разложив у входа в жилище большой огонь. Собаки тоже были собраны в юрту и привязаны к жердям, поддерживающим корье крыши.
Удэхеец достал из-под изголовья свое ружье и подал его мне. Это была старенькая берданка кавалерийского образца. Я осмотрел ее, все было как будто в порядке. Я оттянул замочную трубку и нажал на гашетку. Мне показалось, что пружина действовала слабо, потому что не было той резкости, которая требуется при спуске ударника. Я спросил его, не делает ли ружье осечек и как оно бьет. Он ответил, что винтовка исправна и бьет хорошо. В это время я услышал позади себя шопот и почувствовал запах багульника. Обернувшись, я увидел, что жена Маха откуда-то достала деревянное изображение человека величиной в 20 сантиметров, без рук, с согнутыми ногами, вытянутой физиономией и с синими бусинами вместо глаз. Она повесила закоптелого идола на веревочке к одной из стоек очага, называла его именем Касалянку, что-то шептала и жгла перед ним листья багульника.
Мне теперь некогда было ее расспрашивать о бурхане, которому она вверяла охрану своего дома или просила оградить мужа от страшного зверя. Я стал торопить удэхейца. Он переобулся и взял копье в руки.
Перед тем как итти, Маха заявил мне, что это не он идет бить тигра, а я, и что копье он берет с собою только так, на всякий случай.
Я понял его и подтвердил, что вся ответственность за убийство грозного зверя ляжет исключительно на меня одного и что его семья тут ни при чем. После этого мы надели лыжи и пошли: он – впереди, а я следом сзади. Пройдя шагов двести по реке, мы свернули в небольшую проточку.
Пока удэхеец бегал к нам на бивак и пока я осматривал его ружье и патроны, произошло событие, которого мы никак не могли предусмотреть. Тигр перешел ближе к юрте и, расположившись под яром на льду протоки, принялся за собаку.
Не подозревая, что зверь так близко, мы шли по протоке – удэхеец впереди, а я сзади по его следу – и довольно громко говорили между собой.
Вдруг Маха сразу остановился, а так как я не ожидал этого, то наткнулся на него и чуть было не упал. Я посмотрел на своего спутника. Лицо его выражало крайний испуг. Тогда я быстро взглянул в том направлении, куда смотрел туземец, и шагах в тридцати от себя увидел тигра. Словно каменное изваяние, он стоял неподвижно, опершись передними лапами о вмерзшую в лед колодину, и глядел на нас в упор.
Мне показалось, что зверь сделал коротенькую гримасу и на мгновение оскалил зубы: шерсть на спине его поднялась дыбом и тотчас опустилась; мне показалось, что у него дрогнули усы, и он дважды медленно повел кончиком хвоста налево и направо. В таких случаях в мозгу на всю жизнь особенно ярко запечатлеваются какие-нибудь две-три несущественные детали. Я не могу сказать, чтобы в этот момент я особенно испугался, – вернее, я просто растерялся и оцепенел, как и мой спутник Маха Кялондига.
Вдруг я вспомнил про ружье. «Надо стрелять, – мелькнула мысль в голове. – Обязательно надо стрелять, а то будет поздно…» Я приложил приклад к плечу и нажал спуск. Курок щелкнул, но выстрела не последовало. Быстро я снова взвел курок, и опять не произошло выстрела. В это время шагах в двадцати пяти сзади меня показались Рожков и Крылов. Видя, что я целюсь в тигра и не стреляю, они решили открыть огонь по зверю с дальнего расстояния. Но тут случилось то, чего опять-таки никто не ожидал: их ружья, пробывшие двое суток на морозе и, вероятно, густо смазанные маслом, тоже дали осечки.
Тигр простоял на месте еще минуты две, затем повернулся и, по временам оглядываясь назад, медленно пошел к лесу. В это мгновение мимо нас свистнули две пули, но ни одна из них не попала в зверя. Тигр сделал большой прыжок и в один миг очутился на высоком яру. Здесь он остановился, еще раз взглянул на своих врагов и скрылся в кустарниках.
Тогда мы вчетвером отправились на то место, где только что стоял тигр, и там на льду за колодником увидели наполовину съеденную собаку.
Взволнованный, я сел на бурелом и не знал, что делать. Винтовка удэхейца была у меня еще в руках. В сердцах я швырнул ее, как палку, в кусты. Когда удэхеец узнал, что все три ружья дали осечки, он пришел в неописуемое волнение. Я стал ругать его берданку, но у него на этот счет были свои соображения.
Тигр в его глазах стал еще более священным животным. Он все может: под его взглядом и ружья перестают стрелять. Он знает это и потому спокойно смотрит на приближающихся двуногих врагов. Разве можно на такого зверя охотиться? Эти рассуждения казались удэхейцу столь резонными, что, не говоря больше ни слова, он поднял свою винтовку, сдунул с затвора снег и молча отправился по лыжнице назад в свою юрту, а мы сели на колодину и стали обсуждать, что делать дальше.
Обменявшись мнениями, мы решили насторожить два ружья по сторонам мертвой собаки. Третья сторона была защищена высоким яром, но четвертая оставалась открытой.
Как быть? Вдруг мне пришла в голову счастливая мысль насторожить в этом месте самострел.
Поставив ружья, мы замели следы и по льду протоки направились обратно к юрте. Удэхеец дал свой самострел, показал, как надо его ставить, но опять упомянул, что в покушении на жизнь тигра он участия не принимает. Я опять должен был успокоить его и сказать, что это наше дело и за него он не будет отвечать.
Тотчас же мы с Крыловым вернулись к мертвой собаке. Закрыв самострелами доступ к ней со стороны протоки, мы взобрались на противоположный крутой берег и стали караулить тигра.
Было поздно. На западе уже поблекла последняя полоска вечерней зари. На небе одна за другой зажглись яркие звезды. Казалось, будто вместе с холодным и чистым сиянием их спускалась на землю какая-то непонятная грусть, которую нельзя выразить человеческими словами. Мрак и тишина сливались с ней и неслышными волнами заполняли распадки в горах, молчаливый лес и потемневший воздух.
Я сидел за кустом и не смел шевельнуться. Иногда мне казалось, что я вижу какую-то тень на реке. Мне становилось страшно, я терял самообладание, но не от страха и не от холода, а от нервного напряжения. Наконец, стало совсем темно, и нельзя уже было видеть того места, где лежала мертвая собака. Я поднял ружье и попробовал прицелиться, но мушки не было видно.
– Надо итти, – сказал я тихонько Крылову, – начинает сильно морозить. Я чувствую озноб.
– У меня ноги тоже озябли, – ответил казак и поднялся с места.
Через полчаса мы были в юрте. Там все уже спали, только удэхеец сидел у огня и ожидал нас. Мы с Крыловым согрели воду, поели мороженой рыбы, напились чаю, затем легли на медвежью шкуру и тотчас заснули как убитые.
Утром часов в шесть меня разбудила жена удэхейца, она сварила нам две рыбины с икрой и чумизой. Все уже бодрствовали, только я один заспался. Первое, что я спросил, не было ли ночью слышно выстрела. Удэхеец ответил, что он всю ночь не спал, но ничего не слышал. Я попросил его сходить к настороженным ружьям. Он тотчас начал одеваться, а мы стали завтракать.
Минут через двадцать Маха вернулся взволнованный и сообщил, что тигр попал на стрелу. Удэхеец не задерживался около мертвой собаки, не рассматривал как следует следов. Он видел только спущенную тетиву самострела и кровь на снегу. Сообщение это сразу подняло наше настроение. Если тигр ранен серьезно, то он далеко не уйдет и заляжет где-нибудь поблизости.
Наскоро закусив, я, Крылов и Маха Кялондига побежали к месту происшествия.
Было тихое морозное утро. Солнце только что начинало всходить. Уже розовели восточные склоны гор, обращенные к солнцу, в то время как в распадках между ними снег еще сохранял сумеречные лиловые оттенки. У противоположного берега в застывшем холодном воздухе над полыньей клубился туман и в виде мелкой радужной пыли садился на лед, кусты и прибрежные камни.
Когда мы прибыли на место, то в глаза нам прежде всего бросился взрыхленный снег и на нем многочисленные, ярко-красные пятна крови. Из осмотра следов выяснилось, что тигр пришел к мертвой собаке незадолго перед рассветом; обойдя ружья, он остановился с лицевой стороны и, не видя преграды, потянулся к своей добыче, задел волосяную нить и спустил курок лучка. Стрела попала ему в лапу. Тигр сделал громадный прыжок и, изогнувшись в левую сторону, старался зубами вытащить стрелу, но лапы его все время скользили по льду, запорошенному снегом. Извиваясь, он свалился в полынью, но тотчас выбрался из нее. Тут же валялось помятое зубами древко стрелы, но наконечник остался в ране и, видимо, сильно беспокоил зверя. По следам видно было также, что тигр долго бился, чтобы достать наконечник: он ложился на бок, круто сгибал свое тело, упираясь лапами во всякую неровность льда. Наконец, он забился под яр. Здесь, упершись спиной в скалу, передними лапами – в бурелом, а задними – в смерзшуюся гальку, ему удалось зубами захватить наконечник стрелы и вырвать из своей лапы.
Здесь на снегу было больше всего крови. Освободившись от стрелы, тигр тотчас направился в лес. Сначала он волочил лапу, но затем стал на нее легонько наступать. Солнце взошло, и хотя на небе не было ни единого облачка, но цвет его был странный, белесоватый в зените и серый ближе к горизонту. Все наше внимание было сосредоточено на следах тигра. Он шел и выбирал места, где были гуще заросли и меньше снега. След, оставленный правой лапой, был глубокий, а левый только слегка отпечатывался на снегу. Видно было, что зверь берег больную ногу и старался не утруждать ее. Крови становилось все меньше и меньше, и, наконец, она исчезла совсем. Значит, зверь был ранен не тяжело, и потому вряд ли нам удастся его догнать скоро, тем более, что и снег в лесу был недостаточно глубок и позволял животному двигаться без особых затруднений.
Чем дальше, тем лес был гуще и больше завален буреломом. Громадные старые деревья, неподвижные и словно окаменевшие, то в одиночку, то целыми колоннадами выплывали из чащи. Казалось, будто нарочно они сближались между собой, чтобы оградить царственного зверя от преследования дерзких людей. Здесь царил сумрак, перед которым даже дневной свет был бессилен, и вечная тишина могилы изредка нарушалась воздушной стихией, и то только где-то вверху над колоннадой. Эти шорохи казались предостерегающе грозными.
Один раз мы подошли было близко к тигру. Он забрался под бурелом и лежал на боку, видимо, зализывая рану. Он так был занят этим делом, что не заметил, как мы подошли к нему почти вплотную.
В таких случаях надо быть очень осторожным.
– Капитан, – шепнул мне удэхеец, – не надо торопиться.
И в этот миг я услышал сильный шум и увидел большое пестрое тело, мелькнувшее по другую сторону лесного завала. Зверя заметил и Рожков, но не успел выстрелить, как и я.
Было около полудня. Здесь у бурелома мы отдохнули и закусили сухой юколой, которую предусмотрительно захватил с собой удэхеец.
На общем совещании решено было продолжать преследование зверя, но туземец остался при особом мнении. Он говорил, что дальше гнать зверя бесполезно, потому что он ранен слабо, успел оправиться и не только не избегает бурелома, а, наоборот, всячески старается итти там, где гуще заросли и больше валежника.
Доводы удэхейца были убедительны, но мы все же решили еще раз испробовать счастье. После скудного завтрака, поглотав немного снега, чтобы утолить жажду, мы пошли снова за тигром. По следам было видно, что он сначала пошел прыжками, потом рысью, а затем опять перешел на шаг.
Но вот поемный лес остался позади, и теперь мы вступили в старый кедровник. Громадные стволы хвойных деревьев высились кверху и словно пилястры старого заброшенного храма поддерживали тяжелый свод. Внизу рядом с ними разросся молодняк. И старые и молодые деревья переплелись между собою ветвями и были густо опутаны ползучими растениями, которые образовали как бы сплошную стену из зарослей. Девственный лес стоял плотной стеной. Сосредоточенное молчание наполняло весь лес. Зеленая полутьма, словно какая-то невыносимая тайна, тяготела вокруг, и невольно зарождалась мысль, не лучше ли вернуться, пока не поздно.
Вдруг шедший впереди Крылов остановился и, указывая на землю, сказал тихонько:
– Тигр нас обходит.
Действительно, наискось и поперек следа преследуемого нами тигра шел еще другой такой же след. Предательская хромота на левую лапу выдала тигра с головою. Стало ясно, что, выведенный из терпения настойчивыми преследованиями, он решил сам перейти в наступление. Для этого он сделал большую петлю и, перейдя свой след дважды, решил где-нибудь устроить засаду. Дело становилось серьезным. Мы удвоили внимание и пошли еще медленнее. Метров через пятьсот тигр пересек свой след в третий раз.
Мы так увлеклись охотой, что и не заметили, как исчезло солнце и серый холодный сумрак спустился на землю. Вверху сквозь просветы между ветвями деревьев виднелось небо в тучах.
– Манга, – говорил удэхеец, поглядывая наверх. – Тамна. Имаса сагды би… (т. е. плохо; тучи – снег большой будет).
В лесу стало совсем сумрачно. Казалось, будто стволы деревьев плотнее сдвинулись между собою, чтобы преградить нам дорогу. Казалось, что лес, видя, что не в силах остановить людей, преследовавших его зверя, позвал на помощь небесные стихии.
Я взглянул на часы. Было около пяти часов пополудни. Скоро солнце должно было скрыться за горизонтом, и наступят сумерки.
Взвесив все шансы за и против, мы пришли к заключению о необходимости возвратиться, хотя бы для того, чтобы утолить голод, который все настойчивее давал себя чувствовать. Вместе с тем появилось и другое чувство – чувство горечи и досады на неудачу. Крылов и Рожков ругались, поглядывая в сторону тигровых следов. И в самом деле, обстоятельства принуждали «оставить поле» за зверем в то время, когда он уже начал было сдаваться. Но голос благоразумия подсказывал: как бы тигровая шкура ни была дорога, своя все же дороже.
– Имаса би, – сказал удэхеец (т. е. снег будет).
Я взглянул на небо. Оно быстро темнело и как будто спустилось к земле, и от этого становилось неприятно и жутко. На лице своем я почувствовал прикосновение падающих сверху снежинок.
В это время опять над тайгой пронесся порыв ветра. Лес зароптал, зашумел, когда ветер ударил с другой стороны, потом налетел сзади и оборвался. И тотчас весь воздух наполнился белесоватой мутью, в которой потонули соседние сопки, земля и все, что было видно до сих пор. Ветер налетал порывами, и в промежутках между ними слышно было шуршание снега, большими хлопьями падающего на землю.
– Надо торопиться, – сказал Крылов, – а то как бы нам не пришлось ночевать в лесу.
Мы прибавили шагу, но от этого не пошли скорее. Лыжню быстро заносило снегом. Она чуть только была заметна. Скоро следы пропали совсем. Крылов остановился. Тогда удэхеец пошел вперед. Он хорошо знал эти места и прокладывал новую дорогу через снежные сугробы напрямик к своей юрте. Стало совсем темно, так темно, что трудно было рассмотреть, что делается шагах в десяти. Ветер и снег, словно сговорившись, с ожесточением набрасывались на все, что попадалось им на пути. Изредка сквозь мглу виднелась какая-нибудь ель, ветви которой неистово качались из стороны а сторону; иногда из темноты неожиданно выплывали то большой пень, запорошенный снегом, то валежина на земле или сухостой, лишенный сучьев. Мы шли дальше, а они, как привидения, проносились мимо и исчезали бесследно в ночной мгле.
Удэхеец скоро вывел нас на какую-то старицу, которая шла, как мне показалось, вовсе не туда, куда надо. Точно понимая мои мысли, он повернулся ко мне и лаконически сказал: «Далеко нету». Минут через пятнадцать старица вывела нас на тропу. Последняя круто повернула влево. Здесь порывы ветра сделались сильнее. Я начал зябнуть и стал опасаться за своих стрелков, которые легкомысленно оделись легко, чтобы на лыжах было удобнее преследовать зверя.
Итти становилось все труднее и труднее; мешали встречный ветер и рыхлый снег, в котором глубоко тонули лыжи. Я совершенно забыл про тигра и думал только о том, как бы поскорее добраться до юрты. Напрягая остаток сил, я еле волочил ноги. У меня сильно озябли руки и ознобилось лицо. Как раз в эту трудную минуту мы подошли к месту, где были насторожены наши ружья около мертвой собаки. Это всех нас подбодрило. Еще минут десять хода, и я увидел между деревьями красноватые клубы дыма, которые вместе с искрами вырывались из отверстия в крыше юрты.
Слава богу, опасность миновала! Наученный горьким опытом, я схватил горсть снега и, повернувшись спиной к ветру, стал натирать им лицо. Это было нестерпимо больно, но я тер долго и крепко, с сознанием, что это нужно и даже очень нужно. Онемевшая на щеках кожа стала понемногу отходить, пальцы на руках тоже сделались подвижными и чувствительными. Теперь можно было войти в теплое помещение.
В юрте ярко горел огонь, распространяя свет и тепло. Жена Маха тотчас принялась варить ужин, а мы согрели чай и с аппетитом взялись за сухари. После ужина удэхеец расстелил нам медвежья шкуры. Мы разулись и легли на них с величайшим удовольствием. Я пил чай и слушал, как пурга бушует снаружи.
– Хорошо, что мы вовремя повернули обратно, – высказал я вслух свои мысли. – Дальнейшее преследование тигра было бы совершенно невозможно. Вьюга замела бы его следы, и мы напрасно только измучились и потеряли бы время.
У удэхейца на этот счет были свои соображения.
Тигр – священное животное. Его охраняют леса и горы. Бороться с ним с помощью оружия никогда не следует. Можно только шаманить и просить его удалиться в другое место.
Крылов пробовал было ему возражать, но он не соглашался с ним и в подтверждение своих слов приводил целый ряд доказательств: три ружья дали осечки, раненный стрелой зверь скоро оправился, лесная чаща старалась скрыть его, создавая нам всяческие препятствия, а когда мы почти совсем уже догнали его, вдруг неожиданно разразилась буря, ветер замел его следы и принудил нас вернуться.
Удэхеец был глубоко убежден, что если бы мы продолжали преследование запретного зверя, несомненно случилось бы несчастье, мы заблудились бы в тайге и погибли бы от голода и вьюги. Слушая его слова, я стал дремать.
Сильные порывы ветра потрясали юрту до основания. Вьюга злобно завывала в лесу, точно стая бешеных животных, которые с ревом неслись куда-то в пространство.
По соседству с юртой качалось и скрипело какое-то дерево. На крыше кусок коры дребезжал разными тонами, в зависимости от того, усиливался или ослабевал ветер. Убаюкиваемый этими звуками, иззябший и утомленный долгой ходьбой на лыжах, я крепко уснул.
Ночью меня разбудили какие-то звуки. Открыв глаза, я увидел, что огонь в юрте был притушен: в очаге только тлелись уголья. Прямо против меня на берестяном коврике сидел Маха. В руках у него был шаманский бубен и колотушка. Он пел что-то заунывное и прижимал лицо свое к бубну, отчего звук его голоса, отражаясь от туго натянутой кожи, то усиливался, то ослабевал до шопота. Маха пел и в то же время бил тихонько колотушкой в свой бубен. Перед удэхейцем на веревочке висел тот самый деревянный идол с глазами из синих бус, перед которым вчера женщина жгла листья багульника. Постепенно пение Маха перешло в речитатив. Он поднялся со своего места, взял топор, два маленьких деревянных колышка и железный котел, в который положил четыре уголька и вышел из юрты. Я поднялся и пошел за ним следом.
Снаружи бог знает что творилось. Была абсолютная тьма. Ветер чуть было не опрокинул меня с ног, словно кто нарочно бросал горстями снег в лицо. Лес гудел, и в ропоте его слышались недовольство, жалобы и угроза. Через минуту я освоился с мраком и кое-как огляделся.
Удэхеец вбил два колышка в снег перед входом в свое жилище, затем обошел юрту и у каждого угла, повертываясь лицом к лесу, кричал «э-е» и бросал один уголек. Потом он возвратился в жилище, убрал идола с синими глазами, заткнул за корье свой бубен и подбросил дров в огонь. Затем Маха сел на прежнее место, руками обтер свое лицо и стал закуривать трубку. Я понял, что камланье кончено, и начал греть чай.
Минуть пять мы просидели молча, потом я начал говорить о пурге, перешел к тигру и осторожно коснулся деревянного идола, повешенного на веревочке. Я спросил его, что означает камланье колышками и угольками.
– О, это изображение духов, – сказал удэхеец.
Затем он сказал мне, что трижды чувствует себя виноватым перед тигром: во-первых, потому, что он сообщил мне о похищенной у него собаке, во-вторых, потому, что дал мне свое ружье и лучок, и, в-третьих, потому, что вместе со мной ходил преследовать раненого зверя. Он просил Касалянку оградить его дом от тигра, для чего наговоренными колышками закрыл доступ к юрте и окружил жилище священным огнем со всех четырех сторон. Теперь он может по-прежнему ходить без опасения на охоту. Выкурив трубку, Маха стал укладываться, я тоже последовал его примеру, но долго не мог уснуть.
Часа через два буря стала понемногу стихать. Ветер сделался слабее, и промежутки затишья между порывами стали более удлиненными. Сквозь дымовое отверстие в крыше виднелось темное небо, покрытое тучами. Снег еще падал, но уже чувствовалось влияние другой силы, которая должна была взять верх и успокоить разбушевавшуюся стихию, чтобы восстановить должный порядок на земле.
На другой день мы все встали довольно поздно, немного закусили печеной рыбой и отправились на свой бивак.
С юго-запада тянулись хмурые тучи, но уже кое-где между ними были просветы и сквозь них проглядывало голубое небо. Оно казалось таким ясным и синим, словно его вымыли к празднику. Запорошенные снегом деревья, камни, пни, бурелом и молодые елочки покрылись белыми пушистыми капюшонами. На сухостойной лиственице сидела ворона. Она каркала, кивая в такт головою, и неизвестно, приветствовала ли она восходящее солнце или смеялась над нашей неудачей.
Невдалеке виднелась наша палатка, и около нее струйка беловатого дыма поднималась кверху. Это Марунич готовил себе утренний завтрак.
Через три дня мы были около устья реки Гобилли, памятной нам по маршруту на реке Хуту в прошлом году, где мы едва не погибли с голоду.
Все большие притоки Анюя находятся в верхнем его течении. Если итти вверх по течению, то первой рекой, впадающей в него с левой стороны, как мы уже знаем, будет река Тормасунь, потом в двух днях пути от нее – река Гобилли. Затем в половине дня расстояния с левой же стороны две реки – Малая и Большая Поди, а за ними в четырех километрах – река Дынми. По ней я и наметил путь на реку Допи, впадающую в бухту Андреева.
На этом участке (между Гобилли и Дынми) Анюй протекает в меридиональном направлении по чрезвычайно узкой и изломанной долине, обставленной высокими горами с остроконечными вершинами. Места эти можно было бы сравнить со Швейцарией, если бы эта красота не была такой дикой и суровой.
Петрографические образцы, взятые мною из обнажений с обеих сторон реки, идут в следующем порядке: гнейс, слюдяной сланец и кремнистый песчаник, по-видимому, относящиеся к азоическим метаморфизованным.
Оставив свой отряд около устья реки Дынми, я с двумя удэхейцами и с Чжан-Бао поднялся еще по Анюю километров на тридцать и стал биваком на правом нагорном берегу.
Вечером у огня мои провожатые на бересте начертили мне план верхнего Анюя со всеми притоками. Их география все время переплеталась с рассказами о разных приключениях то со зверями, то с злыми духами. Чжан-Бао вставлял свои критические замечания, которые поражали меня то верностью, то своеобразной китайской фантазией. Например, он был убежден, что тигр в каждом человеке видит чушку и потому хочет его съесть. На всякий случай у него были готовые примеры, взятые из жизни предков Китая, а все, что исходит из «Великого срединного царства», достоверно и не подлежит сомнению.
Уверенный тон, которым говорил Чжан-Бао, сильно действовал на удэхейца, и я увидел, что авторитет моего приятеля поднимался все выше и выше. Это нисколько не задевало моего самолюбия, и я со вниманием слушал повествования всех троих.
Не помню, как я заснул, и не знаю, долго ли сидели у огня мои спутники, рассказывая друг другу разные были и небылицы.
На другой день мы все полезли на сопку к одинокой ели, чтобы последний раз взглянуть на Анюй. Он уходил куда-то далеко на юго-юго-запад. Вдали виднелся хребет Тальдаки Янгени, закутанный в облака. За ним были истоки Хора. Еще южнее виднелось много гор, расположенных как бы в беспорядке, но имеющих, повидимому, один общий узел, с которого берут начало четыре главные реки Северо-Уссурийского края: Хор, Анюй, Копи и Самарга. По словам удэхейцев, истоки Анюя слагаются из трех маленьких горных речек. Место слияния их называется Элацзаво. Там есть солонцы, где всегда держится много сохатых, ниже есть пещера, откуда выходят горячие пары, есть и водопад, но места те запретны, так как там хозяйничает Буйнь Ацзани.
Двадцать пятого марта утром я присоединился к своему отряду и в тот же день пошел дальше вверх по реке Дынми.
Если встать лицом против течения, то движение вверх по реке Дынми проходит в юго-восточном направлении. Река Дынми небольшая, но она разбивается на много проток, которые летом из-за их засоренности должны очень мешать плаванию на лодках, но теперь, зимой, они облегчали наш путь, давая возможность без труда переходить из одной протоки в другую, пересекать петли реки в любом месте и т. д. Путеводной нитью нам служила нартовая дорога, проложенная гольдами. Правда, она была занесена снегом и заплыла наледями, но плавник везде был прорублен, разобран, вследствие чего наше продвижение происходило довольно быстро.
Чем дальше я уходил от Амура, тем больше отставала весна. Николай Бельды был прав: на Дынми уже совсем не было проталин, не было талого снега, и воду для питья нам приходилось добывать из проруби.
Петрографу стоит посетить Дынми. Он увидит древнейшие слоистые породы. От устья к Сихотэ-Алиню они идут в следующем порядке: сильно перемятые глинистый и филлитовый сланцы, потом амфиболит и эпидиорит. Геолог увидит здесь большие пороги вроде водопадов, гроты, пробитые водою, слоистые породы, поставленные на голову, с белыми, желтыми и черными прослойками. Некоторые слои во время повторной дислокации образовали красивую плойчатость; одни имеют плитняковую отдельность, другие при выветривании рассыпаются на мелкие чешуйки, третьи оказываются очень устойчивыми и, несмотря на все климатические невзгоды, только снаружи покрываются какой-то твердой корой, по внешнему виду совершенно отличной от основной породы.
За день мы прошли далеко и на бивак стали около первой развилки, которую удэхейцы называют «цзаво». Этим же именем они называют и речку, по которой можно выйти в самые истоки реки Наргами (приток Буту). На этом биваке произошел курьезный случай. Вечером после ужина один из удэхейцев стал раздеваться, чтобы посмотреть, почему у него зудит плечо. Когда он снял нижнюю рубашку, я увидел на груди у него медный крест и спросил:
– Что это такое?
Удэхеец спокойно ответил:
– Лоца чиктама севохини (т. е. русский медный «севохи»).
Чтобы читатель понял, в чем дело, надо сделать маленькое разъяснение. Дух, помогающий человеку, – «севон», изображение его называется «севохи», причем этот «севохи» бывает и медный, и железный, и деревянный. Шаманы на основании снов делают «севохи» в виде человечков, фантастических зверей, рыб, птиц, насекомых, иногда тех и других вместе в разных позах, в разных комбинациях, причем такая фигурка нашивается под одежду к больному месту: на живот, на грудь, на плечо. Их возят с собой на охоту; «севохи» крупных размеров держат в юртах, им мажут губы кровью и салом убитых животных и т. д.
– Кто тебе его дал? – спросил я удэхейца.
– Лоца самани (т. е. русский шаман).
После этого он сам стал меня спрашивать о том, почему у них, удэхейцев, много есть разных «севохи», а у нас, русских, только один, почему всегда он изображает человека с раскрытыми руками, почему его носят на груди. В заключение он выразил свое неудовольствие по адресу какого-то Фоки, который привез ему «лоца севохини», но не сказал, зачем его надо носить. Если для удачной охоты, то на какого зверя, а если против болезни, то какой именно.
Забавным мне показалось столь естественное недоумение удэхейца, которого, по-видимому, сначала где-то окрестили, потом с каким-то Фокой послали крест с приказанием носить на груди.
От места скрещивания двух перекладинок шло сияние, вроде расходящихся во все стороны коротких лучей. Чжан-Бао сказал, что это перья. Вот почему у «лоца севохини» всегда руки раскрыты и вот почему он улетел на небо. И опять начались разговоры про летающих людей, у которых на спине и руках вырастают крылья – и у китайца и у удэхейца были свои аргументы. Первый обосновывал свои доказательства на мнениях древних мудрецов, а удэхеец ссылался на какого-то гольдского шамана, сильнее которого не было еще на земле.
Еще один день пути, и я подошел к подножию Сихотэ-Алиня. Река Дынми здесь течет вдоль водораздела с некоторым уклоном к северо-западу, обходя, насколько возможно, многочисленные отроги хребта. Местность, где мы остановились, представляла собой как бы большую котловину; кругом высились горы, состоявшие из плотных метаморфизованных песчаников и зеленоватых кремнистых глинистых сланцев.