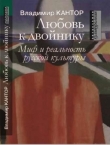Текст книги "Победитель крыс"
Автор книги: Владимир Кантор
Жанр:
Детская фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
Глава 5
Интермедия
Борис проснулся от жара в теле – ноги вспотели до самых бедер, а спина холодела: видно, пот был, но теперь высыхал, испарялся. Он открыл глаза. Над головой вместо толстых деревянных балок сарая знакомый побеленный потолок, электропроводка, поднимающаяся от выключателя и бегущая по потолку к самой его середине, к висящей над столом лампе под красным абажуром. Около него сидел незнакомый ему врач-мужчина в белом халате и в старомодном пенсне, но молодой, круглолицый и гладковыбритый. Он что-то говорил. У изголовья постели стояла бабушка Настя и слушала, шевеля в ответ губами, не то повторяя слова врача, не то возражая ему. Где-то вдали на кровати сидел дед Антон в синей нижней рубашке, и белые помочи от брюк, пересекавшие ее крест-накрест, были отчетливо видны.
Борис прислушался, но ничего кроме глухого гула не услышал: заложило уши. Он терпеливо принялся ждать, пока уши отложит, не пугаясь, не нервничая. Напротив, лежал, думал, вспоминал. «Вот и наступил другой день, наступило завтра, и я вырвался из бреда, и, слава Богу, снова в привычном мире, и вовсе я не обманул и не подвел Сашу, обстоятельства, судьба решили все за меня, я же сказал старухе, чтобы она помогла мне вернуться домой, все как бы само вернулось, само собой наступило завтра». Слово «завтра» было для него неким символом, означавшим перемену в жизни. Он лежал и вспоминал, как, будучи трех лет от роду, он тоже болел, болел скарлатиной, лежал в больнице в отдельном боксе и к нему пускали только маму. И он каждый день просился у нее домой, особенно настойчиво, когда начал выздоравливать, но вставать ему было еще нельзя, и мама уговаривала его потерпеть, каждый раз обещая, что заберет его завтра. Но вот наступало «завтра», которого он с нетерпением ждал, а мама говорила, что он путает, какое же «завтра», когда сегодня – «сегодня». Действительно, было «сегодня», и он все не мог сделать так, чтобы на следующий день «завтра» осталось бы «завтра», не превращаясь в «сегодня»: Тогда он решил, что «сегодня» – всегда, а «завтра» и вообще никогда не наступает и что-то, что он хочет сделать завтра, надо делать сегодня. И стал требовать: забери меня сегодня. Но мама не соглашалась, потому что врач, по ее словам, разрешал выписать его только «завтра». И с тех пор, хотя одним утром «завтра» и наступило, он относился к этому слову с недоверием, потому что оно, как правило, оказывалось новым «сегодня», и жить опять приходилось трудно, снова были сегодняшние обязанности, а завтрашние чудеса не наступали. Хотя каждый раз, втайне даже от самого себя, он надеялся, что завтра что-нибудь чудесное и неожиданное случится. Однако утром уже знал, что сегодня – «сегодня». Но этим утром, как он видел и чувствовал, «завтра» наступило. И будто не было ни бега по лестницам, ни Саши, ни Алека, ни Старухи. Но вот, что удивляло его: он словно и не был этому рад, ему все чего-то было стыдно, как будто он откуда-то сбежал и предал кого-то.
Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, он постарался вслушаться в разговор, правда, без особой надежды на удачу. Но неожиданно слова прорвали заслон в его ушах, и он начал слышать. Говорил врач:
– Н-да, уважаемая, могу только повторить, что внук ваш в тяжелом состоянии. Не хочу вас пугать, но состояние это между жизнью и смертью. Уколы антибиотиков я ему, конечно, назначу, сестра будет приходить делать, но в больницу класть не имеет сейчас смысла. Лучше его лишний раз не тревожить, не трогать. Организм молодой, сам поборется. Будем надеяться, что справится. Все зависит от него самого, от его внутренних ресурсов.
Бабушка выглядела осунувшейся и испуганной.
– Вроде я и потеплее Борюшку всегда одевала, кутала, как надо, – говорила она. – Что случилось и ума не приложу. Не ест ничего, больному все горько.
– Кто ж спорит, – прервал бабушку человек в белом халате. – Как в народе говорят, больному и киселя в рот не вотрешь. Но вы не расстраивайтесь. Он должен сам бороться со своим недугом. Вот на Западе теперь болезнь голодом лечат. Организм не растрачивает своих сил на переваривание пищи, а все их сосредоточивает на борьбе с заразой.
– Да где ж их, сил-то, без еды взять, – возразила бабушка. – Кушать надо. Это болезнь его до еды не допускает. Порчу на него навели, я думаю. Я уж молюсь заступнице, чтоб порчу отвела. Да не помогает пока.
– А как? – удивился и с любопытством этнографа спросил врач. – Как вы порчу отводите? Разве вы в Бога верите?
– Да верить-то и я не верю, – смутилась бабушка. – А помолишься, вроде легче станет. И мне, и Борюшке. Да и не Богу я молюсь, а заступнице, святой матушке Прасковье. Лампадку зажжешь и пошепчешь перед сном, – простодушно выкладывалась бабушка Настя. И зашептала скороговоркой, показывая, что обычно она говорит: – Святая матушка Прасковья, прильни к Борюшкину изголовью, помоги рабу Божию без скорби жатву покончить: будь ему заступница от колдуна и колдуницы, еретика и еретицы, девки самокрутки и бабки ежки, от всякой злой напасти.
– Н-да, – сказал доктор, поглядев сквозь очки на бабушку, потом развернулся вместе со стулом к столу и стал выписывать рецепты, причем круглое и доброе лицо его морщилось и кривилось. – Н-да. Не думаю, чтоб это его спасло. Все от него самого зависит. Иногда – медицине такие случаи известны – в ребенке происходит таким образом взросление души, которое проявляется через болезнь. Впрочем, я не невропатолог и точно вам сказать об этом и определить болезнь не могу. Но если я прав, то лекарства тут мало действенны. Мы можем только помогать ему по мере сил заботливым уходом. Больше ничего мы для него сделать не сможем.
Он поднялся, и вот его гулкий голос доносится уже от входа:
– Будем надеяться на его собственные силы.
Хлопнула дверь. Бабушка вернулась к постели, села на стул, где сидел до нее врач. Слез с кровати и приблизился молчавший до той поры дед Антон. Бабушка Настя смотрела на него так, будто он во всем был виноват, и крутила пальцами нервно и гневно пуговицу своей серой теплой кофточки. Дед робко и с тревогой поглядывал на нее, потом перевел глаза на Бориса.
– Мать! Смотри! Он смотрит! – от неожиданности он даже выкрикнул эти слова и дернул бабушку за рукав.
Бабушка сразу забыла про деда и склонилась к Борису:
– Борюшка, сынок, как ты себя чувствуешь?
Но Борис настолько сознавал себя ослабевшим, что даже и не пытался вызвать в гортани голос и пошевелить языком, все равно сил бы не хватило. Поэтому он просто лежал, глядел и слушал.
– Сынок, ты меня слышишь?
Борис моргнул обоими глазами, показывая, что слышит.
– Давай, дед, помоги, – сказала бабушка, вставая. – Надо Борюшку повернуть и перестелить, пока он проснулся, а то он весь мокрый, как мышь.
Борис закрыл глаза, с удовольствием чувствуя, как его переворачивают, вытаскивают из-под него мокрые от пота простыни, меняют пододеяльник – сухое и прохладное белье приносило облегчение. Проделывая все это, бабушка приговаривала:
– Все ты, дед, виноват, не смог крыс вовремя извести, вот они на Борюшку заразу и навели. Заразили не весть чем. Слышал, как он про крыс да котов все бредит. Надо тебе теперь крысу живьем поймать и крысиной кровью Борюшке виски помазать. Ну как, сынок, на сухом легче стало? Хочешь поесть? Я тебе яичко всмятку с маслицем сделаю, а туда хлебушка накрошу.
Бабушка ушла и минут через десять вернулась с глубоким блюдцем, в котором была приготовлена обещанная еда. Подложив еще пару подушек, она приподняла Бориса:
– Давай поешь. Хочешь, я тебя с ложечки покормлю? Ну вот и молодец. Ешь, ешь. Это полезно. Мы, старые люди, говорим, что от еды вся сила, а что в рот полезло, то и полезно. Кушай, милый. Ну, умник, все съел. Теперь ложись, а я тебе почитаю. Что хочешь? Хочешь «Руслана» дальше? От стихов ведь вреда никакого, только успокоишься получше.
И, не дожидаясь его согласия, бабушка Настя раскрыла огромный толстый однотомник Пушкина и принялась читать, видно, с того места, до которого она добралась, пока ей казалось, что Борис ее слушал, хотя сам он тут же сообразил, что пропустил в бреду довольно много.
Но день багряный вечерел;
Напрасно витязь пред собою
В туманы дальние смотрел:
Все было пусто над рекою.
Зари последний луч горел
Над ярко позлащенным бором.
Наш витязь мимо черных скал
Тихонько проезжал и взором
Ночлега меж дерев искал.
Он на долину выезжает
И видит: замок на скалах
Зубчаты стены возвышает;
Чернеют башни на углах;
И дева по стене высокой,
Как в море лебедь одинокий,
Идет, зарей освещена;
И девы песнь едва слышна
Долины в тишине глубокой.
«Ложится в поле мрак ночной;
От волн поднялся ветер хладный.
Уж поздно, путник молодой!
Укройся в терем наш отрадный.
Здесь ночью нега и покой,
А днем и шум и пированье.
Приди на дружное призванье,
Приди, о путник молодой!
У нас найдешь красавиц рой;
Их нежны речи и лобзанье.
Приди на тайное призванье,
Приди, о путник молодой!..»
Ритм стихов, словно на морской волне поднимал и опускал его, нахлынет – отхлынет, а слова сказки дурманили мозг. Несмотря на дурноту, вызванную, как ему казалось, скормленным ему теплым вареным яйцом, он все не терял сознания и, как ни странно, общее ощущение смысла читаемого ему текста, именно ощущение, не разумное, а почти галлюцинаторное до него доходило. Мысли скользили в голове как бы сами по себе, мысли о чем-то другом, а стихи были сами по себе. Но внезапно в какой-то момент они совпали, так что он даже вздрогнул, подумав, что так же, как эта дева заманивала витязя, Старуха заманивала его тоже девой. Стало стыдно и жарко. И то, о чем он даже и помыслить в доме у Старухи не решился, предстало ему в обольстительных образах – всевозможные девы (но, кто из них – она, он различить не мог), они встречают его, влюбляются в него, а он влюбляется в одну, но нет, это не она, потом в другую – тоже ошибка, хотя и пленительная ошибка, а душа ищет, ищет ее, она должна же, наконец, появиться, быть может, даже сказать: «Это я». И он снова почувствовал под собой не матрас, а плотно слежавшееся сено, запах сухой травы; его била лихорадка нетерпеливого ожидания е е, как вдруг ему на лоб опустилась бабушкина рука, прогнав начинавшиеся виденья:
– Борюшка, тебе опять плохо? То бледный был, то прямо жаром пылаешь… Ох, господи, наказание тяжкое! Скорее бы мама твоя приезжала. Все материнский глаз догляднее.
– А папа? – с раздражением спросил Борис, возвращаясь с сеновала в теплую, пропахшую запахами еды и людей комнату и почему-то чувствуя обиду на бабушку, да и вообще на всех, словно он всеми позабыт-позаброшен и все желают причинить ему неприятности. И зачем тогда будят, зачем пристают, раз помочь ничем не могут, а папа с мамой еще, небось, и не хотят. Пусть тогда оставят его хотя бы в покое. И вдруг его охватил страх, что и вправду оставят в покое, что, несмотря на болезнь, отец его больше не простит, что слишком он переступил пределы дозволенного, хотя уже перед этой ссорой он клятвенно обещал исправиться, и вот опять… Он сжал зубы и еще плотнее закрыл глаза, чтобы не расплакаться. Но почему-то в голову лезла предыдущая ссора, по поводу которой он как раз и обещал отныне вести себя хорошо и за которую он был прощен как бы условно, то есть не то, чтобы прощен, а просто все стерлось временем. Но сейчас он с ужасом вспомнил эту ссору.
В каком-то диком состоянии безделья, одиночества и тоски, того, что папа потом в разговоре с мамой назвал типичным проявлением переходного возраста, желая как-нибудь непонятно кому навредничать от охватившей его беспричинной ярости на весь мир, он начал втыкать любимый перочинный нож сначала в дверь комнаты, кидая его «росписью», а затем в корешки журналов, стоявших на полке, в коридоре, и истыкал их до полной порчи, прорвав насквозь и прорезав многие страницы.
– Ты вредитель, Борис, – сказал ему отец. – Ты зачем это сделал? Человек должен отвечать за свои поступки.
– Я не подумал, – он и в самом деле не подумал. – Просто так.
– «Просто так» делают только бездельники и дураки, люди, которым нечем заняться. Надеюсь, до тебя когда-нибудь дойдет, и ты поймешь всю постыдную глупость твоего сегодняшнего поступка. А все это результат того, что ты ни за что не несешь ответственности.
«Ну и пусть, – думал он, отвернувшись от бабушки Насти к стенке, – пусть я бездельник и пустой человек. Пусть, пусть он не приезжает. И не надо. Я и сам, без него, все сделаю. Хотя что – „все“? Саша что-то там говорил про Трудную Дорогу в их мире, ну и пусть – я ее пройду, если надо, как Руслан в поисках Людмилы». Он так подумал про Трудную Дорогу, потому что бабушка опять читала:
И дни бегут; желтеют нивы;
С дерев спадает дряхлый лист;
В лесах осенний ветра свист
Певиц пернатых заглушает;
Тяжелый, пасмурный туман
Нагие холмы обвивает;
Зима приближилась – Руслан
Свой путь отважно продолжает
На дальний север; с каждым днем
Преграды новые встречает:
То бьется он с богатырем,
То с ведьмою, то с великаном,
То лунной ночью видит он,
Как будто сквозь волшебный сон,
Окружены седым туманом,
Русалки, тихо на ветвях
Качаясь, витязя младого
С улыбкой хитрой на устах
Манят, не говоря ни слова…
Но, тайным промыслом храним,
Бесстрашный витязь невредим…
Голова у Бориса кружилась, его слегка подташнивало, а все тело зудело и ныло, словно требовало какой-то перемены, например, сесть на коня и отправиться в путь-дорогу. Но ни на чем сознание его сосредоточиться не могло. Он и туда никак попасть не мог, и здесь ему все труднее было оставаться. Его разрывало на части и мотало из одного времени в другое и из пространства в пространство. И ничто не могло его задержать нигде. То он маленьким в больнице – в железной кроватке, под тонким бумазейным одеялом, и все кругом белое: сестры, нянечки, мама в чужом и коротком белом халате поверх синего шерстяного платья, и что-то она говорит ему про «завтра», а ему хочется, чтобы «вчера» среди тумана и лестниц оказалось снова «сегодня», и он сумел бы понять, что там происходит, но ему ясно, что маме про это не объяснить, потому что это произошло совсем в другое время и в другом измерении. То он снова на сеновале под крышею сарая с тяжелыми нависающими балками, и колются сквозь наволочку остья сухой травы, а в щель между досок виден участок двора Старухи, где колодец, и, похоже, что уже рассвело. То он в отцовском кабинете, кругом полки, книги, рассерженное лицо отца и собственное испуганно-злое и упрямое, отражающееся в вечернем окне, а с кухни доносится голос мамы, призывающей их не ругаться. То он сидит снова за столом у Старухи, в дальнем углу паук свернулся в своей паутине, как сторожевая собака, поглядывает на гостя торчащими на веточках злыми глазками, а по стенам сушеные куриные ноги и головы, а Старуха, помаргивая левым глазом, хлюпая, тянет с блюдечка чай, хрустя медовым сухарем, и плетет что-то о своей внучке, молодой красотке.
И тут вдруг у него сердце глухо, но настойчиво заколотилось, как не колотилось, когда Старуха и вправду нечто подобное говорила. И на сей раз вдруг отчетливо представилась лихая красавица с перепутанными густыми черными волосами, с гитарой в одной руке и сигаретой – в другой, свободная, гордая, голова немного надменно вскинута вверх, но веселая, готовая на гульбу и пляски (чего он сам как раз никогда не умел, будучи книжным мальчиком), что-то вроде Кармен. И он уже не мог понять, то ли бабушка Настя сидит около него и читает ему Пушкина, то ли он просто вспоминает, как она ему читала, но вспоминает как бы в настоящем времени, будто бы он сейчас слушает «Руслана и Людмилу», а на самом деле это было давно. И где он находится, он тоже не может понять, потому что над головой опять балки и стрехи, в щели светит яркое солнце, сено колется и, хотя в ушах еще звучит голос бабушки Насти, ее уже рядом нет. А вот уже и другой голос что-то напевает.
Глава 6
Внучка
Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые,
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица давно позабытые, —
голос был печальный и задумчивый, хотя слабости в нем не было ни капли, а утро и вправду было туманное, седой мокрый туман, как видел он, прильнув к щели, опять висел повсюду. Хотя и не такой густой, как вчера, да и сбоку откуда-то пробивались лучи раннего солнца, обещая вскоре разогнать этот туман. Но песня все равно наводила печаль и грусть, влезая в самое сердце, желавшее и печали и грусти, и очень хотелось довериться певице с таким голосом и такой песней или хотя бы разглядеть ее получше. Он плотнее прильнул глазом к щели.
Оказывается, сарай, где он ночевал, стоял совсем рядом с колодцем: вечером, в темноте, расстояние чудилось более далеким. Между сараем и колодцем прорвались вдруг солнечные лучи, разорвали в этом месте туман в клочья, и Борис увидел, что земля вокруг колодца была выложена крупным булыжником, чтобы не возникали лужи от наливаемой воды, как он догадался, а дорожка от колодца к дому была утрамбована широкими и плоскими деревянными брусками. На камнях, поставив одно ведро на открытую и опрокинутую крышку колодца, а два других рядом с собой, стояла девушка в мягкой, измятой кофточке, плиссированной юбке и резиновых сапогах, одетых, видимо, прямо на босу ногу. Она вздохнула и раскрутила ворот колодца, а пока тот с грохотом крутился, смотрела, склонившись, как ведро, стоявшее перед тем на крышке, уходит в темную глубину. Ворот вертелся довольно долго, значит, вода была не близко. Девушка была густоволоса и черноволоса, вместе с тем порывиста в движениях, разумеется, стройна и так напомнила ему мелькнувший в бреду образ неведомой Кармен, что он, преодолевая робость, какую обычно испытывал перед знакомством с девушками, решил выйти из сарая – будь что будет! – чтобы потом не терзаться, что упустил возможность познакомиться с затронувшей его сердце красавицей. Он сполз с сена и бросился к колодцу, пятерней приглаживая волосы, выдергивая из них и стряхивая с одежды сухие травинки.
Девушка обернулась на шум его приближения. Она выглядела взрослее его, потому что нисколько не удивилась его растерянно-глуповатому лицу, а только улыбнулась, показывая ямочки на щеках, словно поощряя его начать разговор, и это сделало ее еще привлекательнее для Бориса. Если ему было пятнадцать, почти шестнадцать, то ей не меньше семнадцати.
– Здравствуйте, – сказал он, и неожиданно для себя добавил молодецки: – красавица. – Получи лось «здравствуйте… красавица». Он смешался, но, не останавливаясь, все же выпалил и дальнейший свой вопрос, перейдя сразу на «ты». – Как тебя зовут?
Но она не рассердилась, как он боялся, при этом в ее глазах было столько независимости и самоуверенности, что это придавало тем большую цену ее терпеливым ответам:
– Как зовут? Да кто как. Собутыльники – красотка Милка, метрика – Эмили, а бабка – Ойле, что значит – сова. Я ведь полуношница, люблю допоздна засиживаться.
– А ты разве не Саша? не Шурочка? Мне Саша сказал, что здесь все Саши, и мужчины, и женщины.
– А я не все. Я сама по себе, – вскинула она голову кверху, усмехаясь надменно, и пояснила: – Я старухина внучка. Борис хлопнул себя в лоб ладонью. Так вот от какого ночного соседства он отказался! Нет, при дневном свете он и подумать не смел того, что воображал в ночной полуяви, но все равно, все равно, он бы познакомился поближе, они бы поболтали, может быть, и сдружились. И очень даже может быть, что эта красотка помогла бы ему… Хотя… можно ли ей доверять? Можно ли открыться? Ведь она Старухина внучка. Впрочем, и у Саши родитель крысам служит. Он посмотрел на нее, и тут то чувство, которое обычно называют интуицией, сказало ему твердо и однозначно, что этой деве можно верить. Тем более, что про Бориса и его роль в здешней жизни знают, небось, все, кроме него самого.
– А ты кто? – спросила она.
– А я дурак!
– А-а, а мне показалось, что ты – Борис.
– Я и есть Борис. Но я дурак. Я и не думал, что у старухи такая внучка…
– А-а! Эта старая ведьма опять мою постель предлагала!.. А я опять спи на раскладушке или на полу! Ну я ей скажу!..
– Я думал, она имела в виду…
– Это-то я понимаю, что она имела в виду. А что же ты отказался? Ну, твое счастье, – усмехнулась она жестоко, – что отказался. А то не сносить бы тебе головы. Я не-на-ви-жу, когда решают что-то за меня и думают, что я за себя не постою. Я никогда и ни от кого этого не потерплю. Она, видно, забыла, что я Ойле, сова, и не только полуношница, но и хищница!
– Ну какая же вы сова! – снова переходя на «вы» и стараясь все перевести в шутку, потому что видел он, что она весьма разгневалась – ноздри раздувались, глаза сверкали – ив гневе вполне могла прервать разговор с ним и уйти. – Вы не сова. Сейчас такая рань, а вы уже на ногах.
Она с минуту, обуянная гневом, смотрела на него, будто и не слыша, но потом, поддавшись на его вкрадчиво-мягкую шутливость, вдруг смягчилась и рассмеялась:
– Во-первых, говори мне «ты», а во-вторых, я еще и не ложилась. В гостях засиделась. Вот бабке воды принесу и спать пойду. Всю ночь песни пела, устала.
Борис искал слова, что бы этакое сказать позначительнее, чтобы она посмотрела на него поприветливее и как-нибудь так получилось, что они и встретились бы со временем еще раз и их случайное знакомство продолжилось бы и стало не случайным. Хотелось не только быть, но и выглядеть мужественнее, пусть она это заметит, и хоть придется для этого стать петухом—фанфароном – все равно, он должен чем-то похвастаться, выглядеть героем.
– Саша говорил, что я должен пробиться, – он нарочно употребил это суровое, значительное и мужественное слово, – к Лукоморским Витязям, пройти Трудной Дорогой, но для этого надо до какого-то Мудреца добраться… И вообще… – он завял, видя, что она молчит, только с интересом разглядывает его.
– Трудная Дорога не так уж и трудна, – сказала она решительно, напрасно прождав пару минут продолжения его речи, – труднее до Мудреца добраться – это и в самом деле трудно! Только Саша тебе здесь не помога, ни он, ни дружок его Саня, дружки чертовы! Что Фома, то и Ерема, эти Саши и Саня. Один в затылке чешет, а другой за ухом. Один ничего решить не может, да и другой ни на что не решится! – усмехнулась она, но беззлобно. – Да все здесь мужики хороши! Одна слава, что мужики!.. Весьма трусоватые юноши.
– Но Саша меня по лестницам провел!..
– Ах, Господи! Подумаешь, подвиг большой! Да любой бы здесь это мог сделать, если б не пугался. Нет, ну, конечно, Саша молодец, он не испугался, я это признаю и вовсе не собираюсь отрицать, не такая я уж дура.
– Я все равно дойду до. Деревяшки, даже если мне никто не подскажет туда дороги, – упрямо сказал Борис, будто и впрямь ему была нужна эта Деревяшка, но своим упорством он еще почти наобум и не очень всерьез хотел повысить себе цену в ее глазах.
– Да я не спорю, возможно, что и дойдешь, – задумчиво сказала Эмили. – Ты тоже молодец. Я про тебя слышала хорошее. Сумел по лестницам пройти, даже Алека проскочил и бабке не поддался. Может, тебе и с Настоящими Котами удастся познакомиться… Если повезет, конечно, и если они захотят.
Она вздохнула и принялась вертеть колодезный ворот назад, вытаскивая ведро и поясняя свои слова:
– Они храбрые, от всех скрываются, крысы их уже сколько лет поймать не могут! Я их уважаю, их нельзя не уважать. А бабка злобится, что я ей не только не помогаю, а совсем наоборот.
– А я хуже их? – спросил Борис вроде бы в шутку, но ободренный ее предыдущей похвалой и желая дальнейших комплиментов, желая выделиться из всех.
– Ты? – она быстро провела ладонью по его волосам, ласково так провела. – Ты просто симпатичный мальчик с красивыми глазами и длинными ресницами. А Коты – это Коты!..
Борис обидчиво удивлялся, при чем здесь Коты, даже и Настоящие, если речь идет о том, как ему до Мудреца дойти и дальше – до Лукоморских Витязей. Она вовсе не собиралась поддерживать его, как ему мечталось о девушке, которая ему понравится. Напротив, она нисколечко не верила в него. Но что-то влекло его к ней, несмотря на ее к нему нескрываемое недоверие. Он старался побороть свою обиду. Потому что она пленяла его своей самоуверенной повадкой, и хотелось показать ей, что он может оказаться позначительнее этих местных знаменитостей – Настоящих Котов.
– Пойдешь ты или нет, – продолжала Эмили, – кто знает! Ты еще мальчик, и многое хочешь, чего и не сможешь сделать. Вон Саша и Саня, думаешь, не хотят пойти? А не идут. Один сидит, да и другой ни с места. Они мне, правда, говорили, что вот, де, Борис придет, и не поддельный, а Настоящий, кто-то прочтет ему Заклинательную Песню, он и дойдет тогда до Мудреца и до Лукоморских Витязей… А кто прочтет? и что? и где? и когда? и кто он, Настоящий-то?.. Видишь, сколько вопросов, и ведь каждый требует ответа.
– Если мне прочтут Заклинательную Песню, я пойду, потому что я и есть Настоящий Борис, – сказал отчаянно Борис.
В этот момент Эмили как раз швырким движением выплеснула воду из ведерка, поднятого из колодца, в ведерко, стоящее рядом, но от резкого удара воды, направленной неточно, ведерко опрокинулось и вода, зашипев, всосалась в землю меж камней. – Вот ведь незадача, – она досадливо поморщилась, снова поставила ведро ровно, а другое, привязанное за дужку к цепочке, обмотанной вокруг ворота, бросила в колодец; ручка ворота закрутилась со свистом, потом послышался где-то глубоко плюх ведра о воду, вращение остановилось. – Я вообще не верю ни в Мудреца, ни в Заклинательную Песню, – повернулась к Борису Эмили. – Если кто может и смеет, тот и так дойдет. Вся эта вера от слабости. Если бы был среди нас Мудрец, то все бы давно устроил, помог бы. А то, видишь ли, до него без Заклинательной Песни не дойти. Ну не до него, ладно. До Витязей этих… А откуда ей взяться, Заклинательной Песне? Это никому и в голову не приходит. Все колдовские стихи и песни у бабки в книжке я повычитала, ничего похожего там нет. И я не могу думать, что они где-то тайно хранятся, потому что у бабки все книги собраны. Я и сама стихи сочиняю, не хуже тех, что у бабки в книжках. Я посмотрела, почитала, как делать, и теперь не хуже книжных пишу. Ведь крошку Эмили молва не зря премудрой назвала, – скороговоркой сказала она. – Но это все не то. Я не могу к своим стихам и песням относиться всерьез, потому что я пишу их просто так, в шутку, забавы ради. И вовсе не считаю себя поэтом, хотя и на любую тему могу рифмовать. Я Саше сочинила песню не песню, стихи не стихи, так, нечто среднее, про его мечту, в шутку, конечно, – она весело рассмеялась, потом вздохнула. – Мне, говорит, твои стихи не нужны, а нужен Борис и Заклинательная Песня. А я считаю, что я не хуже, чем все эти маги и волшебники древние придумала…
– Почитай, – попросил Борис. Ему не так были интересны ее стихи, как то, что это были е е стихи, исходили от нее, из ее уст, и она тем самым продолжала с ним разговор, к тому же в более доверительной тональности. И она и в самом деле с готовностью и не чинясь согласилась и прочитала следующее:
Там, где мрачный гранит в скалах сумрачных спит,
Где в утесах потоки бегут,
В том краю за горой, что своею страной
Крепконогие горцы зовут,
Вот уже сотни лет, как турниров там нет,
И давно уже рыцари – прах,
Там не слышно мечей, там не видно огней,
Что ночами мелькали в горах.
И лишь тот, кто прозрел свой высокий удел,
Кто беде и опасности рад,
Тот в безлунную мглу пусть взойдет на скалу,
В полночь мрачную вперит свой взгляд.
Пусть душа не дрожит, пусть отважно глядит
Тот храбрец, что не ведает страх,
И, коль взором остер, он увидит костер,
Что далеко мерцает в горах.
Пусть тогда по скалам устремится к горам,
Где огонь полуночный горит,
И когда подойдет, коль душа не замрет,
То невиданный пир он узрит.
У костра за скалой все в броне боевой
Кругом рыцари чинно сидят
И, по кругу шелом, полный пенным вином,
Осушая, сурово молчат.
Вот один среди всех, чей сияет доспех,
А чело потемнело от ран,
И палаш боевой на цепи золотой —
Это доблестный витязь Руслан.
Пусть приблизится вновь, чья кипит в жилах кровь,
Тот храбрец, что стоит за скалой,
И раздвинется вдруг грозных рыцарей круг,
И усадят его меж собой.
И вина поднесут, и пришельцу дадут
Свой шелом боевой осушить —
И с мгновенья сего до конца своего
Будет рыцарей кровь в нем бурлить.
Пока она читала свои стихи, цепочка, идущая от ворота, напряглась и натянулась: очевидно, ведро наполнилось водой. Да и туман рассеялся, только еще кое-какие клочья плавали над домиком старухи, таким праздничным и пряничным в утреннем свете. Эмили снова принялась вертеть ручку ворота, будто и не интересуясь, что он скажет о ее стихах, а он стоял телепнем, не бросаясь ей на помощь, краснея и бледнея, как всегда с ним бывало, когда испытывал он подъем духа. «Пусть, – думал он, – для кого-то это не Заклинательная Песнь. Но тут же все сказано, что „лишь тот, кто прозрел свой высокий удел“, тот только и сможет дойти до Витязей, до Рыцарей и сам стать таким же. Это же прямо ко мне относится. Разве я всю свою сознательную жизнь не мечтал о своем высоком уделе, о настоящем подвиге?!» У Бориса была счастливая особенность все высокие слова чувствовать как прямо обращенные к нему. Так и теперь воспринял он стихотворение Эмили. И он снова повторил про себя:
«И лишь тот, кто прозрел свой высокий удел,
Кто беде и опасности рад,
Тот в безлунную мглу пусть взойдет на скалу,
В полночь мрачную вперит свой взгляд», —
воображая себя уже стоящим на скале и, приставив ладонь козырьком к глазам, всматривающимся в мрачную полночь в поисках костра. Он очнулся от задумчивости, поглядел на Эмили и увидел, что она весьма прилежно и аккуратно переливает воду из одного ведра в другое, изогнув шейку и наблюдая, как течет медленная струя. По всему было понятно, что все-таки она ждет хоть каких слов по поводу ее стихотворения. Нетерпение отразилось на ее лице.
– Здорово, – сказал Борис. – Если это не Заклинательная Песня, то я уж и не знаю, какими должны быть Заклинательные.
– Да нет, это не Заклинательная, – скромничала она, хотя лицо ее, обращенное к Борису, просветлело. – Можешь мне поверить. Уж я-то знаю.
– Ну тогда Призывательная, – настаивал Борис. – Но все равно по-настоящему волшебная.
– Ты романтик, – сказала она, и непонятно, осуждающе или одобряюще это сказала, как вдруг окно на первом этаже домика распахнулось и оттуда показалась длинноносая физиономия старухи с впавшими щеками, которая углядела их обоих у колодца.
– Ойле! Внучка! – крикнула она. – Водицы-то я заждалась. Неси скорей. Да и сладенького моего в дом веди. За чаем еще наворкуетесь, голубочки!
– Сейчас, бабуленька! – криком же ответила Эмили. – Только наш гость поможет мне второе ведро на брать!