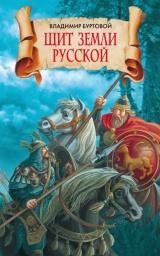
Текст книги "Щит земли русской"
Автор книги: Владимир Буртовой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Теперь только бы добраться мне счастливо до трех оврагов, только бы коснуться руками непролазных зарослей: воевода Радко велел идти левобережьем Ирпень-реки, там меньше будет печенежских дозоров перед Киевом.
И вот Янко остановился у крайних высоких кустов шиповника на краю обрыва, постоял недолго, высматривая в зарослях, нет ли там врага, а потом без оглядки на крепость прыгнул с кручи. Следом покатились комья сухой глины, обломки мелких, отшлифованных дождями кореньев. Янко едва успевал уворачиваться от встречных пней и вывороченных стволов, быстро-быстро перебирал ногами, чтобы не ухнуть вниз головой. Наконец ухватился рукой за гибкую иву и остановился неподалеку от ручейка, задохнувшись от радости.
– Неужто прошел? Неужто не кинутся по следу? – потом залег в густой траве, чувствуя прохладу влажной земли разгоряченным телом, и настороженно вслушался в звуки, которые доносились в овраг сверху.
Но звуки были размеренные, спокойные.
В стольном Киеве
А у нас нонь во граде-то Киеве,
А богатырей у нас в доме не случилося,
А разъехались они все во чисто поле.
Былина «Васька-пьяница и Кудреванко-царь»
– Князь! Князь Владимир с дружиной Днепром плыве! – этот радостный крик мигом облетел Гору Кия и впереди босоногой толпы отроков по Боричеву увозу скатился в Подол и там всполошил киевский люд. Побросав дела, киевляне, кроме дружинников на городских стенах, прибежали к устью Почайны – десять лодий под парусами спешили с верховья Днепра. Легкий попутный ветер гнал слабую волну, надувал паруса, трепал нечесаные вихры отроков и седые бороды старцев.
Лодии плавно вошли в тихую Почайну, ткнулись носами в берег и замерли, словно притомившиеся кони у коновязи после долгой и нелегкой дороги.
– Слава! Слава князю Владимиру и дружине! – крики ликующих киевлян вихрились под крутым берегом. Вокруг радостные лица, слезы надежды на скорое избавление от печенежского напастья, протянутые к небу руки – теперь-то не гулять боле находникам под Киевом! Укажет князь Владимир Тимарю путь из земли Русской!
Князь Владимир, высокий, борода и усы тронуты ранней сединой, осторожно сошел по сходне на берег, прикрыл от ветра и легкой пыли воспаленные глаза, перекрестился на дальние купола каменной церкви Святой Богородицы, отстроенной минувшим летом 996 года. У сходни старая киевлянка в черном платне преклонила колени и поймала усталую руку князя Владимира.
– Полно тебе, женка, – князь приподнял ее за локти. Поразился, увидев застывшее, будто из камня высеченное лицо и скорбью наполненные голубые глаза. Участливо спросил – Печаль у тебя какая?
– Сын мой Вешняк отпущен был в Белгород с воями, княже… – и не досказала, задохнулась накатившимися слезами горя.
– Белгород – не слабая крепость, – успокаивая женщину, сказал князь Владимир, а сам с трудом на ногах держится – утомило неподвижное и долгое сидение в лодии.
– Печенеги голову Вешняка кинули в Киевский ров, – тихо сказал кто-то из киевлян. Князь качнулся, прошептал:
– Бог неба, сколь можно терпеть и страдать от Дикой Степи? – закрыл глаза. Сотенный Власич прокричал рядом:
– Коня князю Владимиру!
Придерживаясь рукой за луку седла, князь оглянулся сказать женщине, что за Вешняка, за старые и новые обиды возвратился он в Киев мстить печенегам. Но каменноликой женщины в толпе уже не разглядеть.
За князем из лодии вышли дружинники, построились в ряды и медленно потянулись крутым увозом на Гору Кия, к княжьему терему.
Рано поутру, выслушав утомленного годами и заботами киевского воеводу Волчьего Хвоста, князь Владимир спросил, было ли какое известие от белгородского воеводы Радка?
– Нет, княже, – воевода Волчий Хвост медленно раздвинул ладонью длинные седые усы, кашлянул в кулак, зябко передернул сутулыми плечами – свежо дует в палаты от Днепра через открытое окно. – Посол византийского императора Василия просит встречи. Давно уже сидит в Киеве, тебя, княже, дожидается.
Князь Владимир медленно встал с лавки. Просторное голубое корзно облегло плечи, приятно грело спину. От долгого пребывания на воде ломило поясницу, и князь, засунув руку под теплое корзно, помял спину жесткими пальцами. Встал у окна, и взор нечаянно упал на бронзовых коней, взятых в памятном походе на Корсунь.
– Что ему? – спросил князь Владимир.
Воевода не понял, о ком речь – о посланце или об императоре византийском. Сказал глухо:
– Грамоту привез. А о чем – тебе только поведает.
– Вели покликать, – и медленным движением руки огладил длинные, почти до груди русые усы. Мягкие сафьяновые сапоги неслышно ступали по коврам. Князь подошел к стене с оружием, потом возвратился к окну – из церкви Святой Богородицы выходили красно одетые киевляне. Толпа раздалась, и у выхода показалась княгиня Анна с прихрамыва ющим княжичем Ярославом и с прислужницами-гречанками. Десятилетний Ярослав не по годам сумрачен, должно нелегко идти ему около чужой женщины-княгини, когда своя мать Рогнеда выслана отцом из Киева[46]46
После принятия христианства князь Владимир женился на сестре византийского императора Василия Анне.
[Закрыть]. Буднично одета княгиня, лишь золотой обруч украшал голову: в беде земля Русская, не до праздности теперь. Княгиня подняла взор на терем, увидела в окне князя Владимира, заторопилась.
За спиной послышались тяжелые шаги. Князь Владимир оборотился. В сопровождении медленно ступающего воеводы Волчьего Хвоста легко шел смуглолицый и чернобровый византиец, среднего роста, подвижен и нетерпелив. В правой руке запечатанный свиток.
– Василик византийского императора Парфен Стрифна из Капподакии родом, – представил василика воевода Волчий Хвост.
На бритом лице василика удивление. Удивлялся Парфен простоте приема у князя Киевского: ни многолюдства боярского, ни показной роскоши палат по случаю иноземных по сланцев. Буднично и просто принимал василика князь Киевский, словно бы между дел. Иное в Константинополе! Император первым делом старается поразить посланцев величием и роскошью трона, палат и многочисленной свиты…
Князь Владимир, ответив на глубокий поклон василика приветливым кивком, понимая недоумение Парфена, сказал кратко:
– Мужи мои при войске да по делам разосланы. Созывать их на Гору время не терпит. Слушаю тебя, василик Парфен. Во здравии ли император Василий и его родичи? И добро ли тебе было в пути и в Киеве, меня дожидаючи? – и жестом пригласил василика к столу, убранному голубой столешницею.
Парфен с поклоном вручил князю свиток-грамоту и только после этого сел на лавку за стол напротив князя. Сказал, что император Василий в полном здравии, и в свою очередь осведомился о здоровье князя Киевского, княгини Анны и сыновей.
– О чем хлопочет император Василий? – князь Владимир хрупнул сургучной печатью, развернул свиток, но читать не стал.
– О помощи просит василевс. Арабы неодолимой силой идут с востока. Большое разорение несут Византии. – Парфен сказал главное и выжидательно умолк – что скажет князь Владимир? Знал – не удалось, видимо, старшему василику Иоанну Торнику убедить кагана Тимаря направить свое войско против арабов, вновь печенеги на земле росов. И что теперь сталось с Иоанном Торником? Быть может, и в живых уже нет его…
– Сам видишь, василик Парфен, каковы мои заботы. – Князь Владимир отложил грамоту на край стола. Светло-желтый свиток, волоча коричневую печать по голубому покрывалу, тут же свернулся в тугую трубочку. – Лишь придет новое лето, как печенежские полки незвано лезут в гости, с мечом и пожарами. Приучила Византия степные орды к набегам на Русь, золотом и посулами дорогими приучила. От византийского коварства погиб и отец мой Святослав, смерть принял от кагана Кури, купленного на византийское золото… Не легко теперь отучать печенегов от злого навыка, сила для этого нужна. И время. Так и ответствуй от меня своему василевсу: пока печенеги с разбойным умыслом ходят на Русь, помощи от меня Византии не будет!
Василик встал, отвесил князю глубокий поклон. Однажды утром, увидев дым сигнальных костров от Роси и до Киева, понял он, что степь вновь напала на Русь. Потому иного ответа и не ждал.
Какое-то время византиец стоял молча, потом внимательно и с сочувствием посмотрел на князя Владимира.
– Русь с печенегами в войне. Вашему посольству не говорить с каганом, пока горят вежи россов. Дозволь, князь Владимир, мне первому сказать кагану Тимарю слово о мире? Думаю я, что не дошел до кагана старший василик Иоанн Торник, не успел вручить грамоту от божественного василевса с просьбой не ходить на Русь, дать ей мир и покой. С ответом Тимаря поспешу в Киев пред твои очи, князь.
Князь Владимир с интересом глянул на Парфена. Услышал, как воевода Волчий Хвост, почтительно стоявший рядом у открытого окна, в ответ на слова Стрифны поощрительно крякнул в кулак.
– Доброе дело сделаешь, василик Парфен, если станешь посредником между Русью и печенегами. Слово даю императору Василию: учинится прочный мир с Тимарем – пошлю сильное войско Византии в помощь. Князья Киевские не один раз уже помогали вашему отечеству, данное слово свое держали крепко. Поезжай к Тимарю. И если он примет мир – ждем тебя в Киеве. Тогда снарядим доброе посольство к печенегам. Послужишь Руси – тем послужишь и Византии. Возьмешь ли с собой достойную охрану, василик Парфен?
От охраны Парфен Стрифна отказался: случится вдруг неудача, так зачем зря губить дружинников? Явится он к Тимарю от имени византийского василевса, – от имени василевса и говорить будет о мире с Русью.
Князь Владимир пожелал ему удачи. Воевода Волчий Хвост самолично обещал завтра поутру проводить василика из города до печенежских дозоров.
* * *
Иоанн Торник обрадовался несказанно – каган Тимарь вновь зовет его в Белый Шатер! После памятного приступа под Белгород, когда печенежское войско с изрядным уроном и с позором отошло в свой стан, каган будто забыл о василике, к себе не призывал, а случалось увидеть издали, отводил глаза в сторону. Будто это его вина, Торника, что россы устояли на стенах!
Мимо сумрачных нукеров прошел Иоанн торопливо, размышляя – зачем понадобился? Что новое надумал этот степной хищник? Может, о Киеве спрашивать будет, под Киев решил войско повести?
Вошел, с порога поочередно отвесил поклоны кагану, княжичу Араслану и князю Урже, который стоял справа от кагана, сцепив на рукояти меча длинные пальцы с дряблой желтой кожей. А когда поднял голову – оторопь взяла – перед каганом на коленях стоял младший василик Парфен Стрифна!
И на лице Парфена, избитом до кровоподтеков, удивление не меньшее – как, Иоанн жив и при кагане? Неужто пленником?
Уржа недобро усмехнулся, увидев столь нежданную обоим василикам встречу. Прервал краткую паузу:
– Близ Кыюва наши батыры его изловили. Ехал с конными урусами. Говорит, что шел к кагану. Еще утверждает, будто из твоего посольства от императора Василия. Верно ли? А может, доглядчик от князя Владимира? Знаешь ты его, Иоанн?
– Да… Вместе посланы были, – с трудом приходя в себя, выдавил Иоанн. Со стороны грек походил на человека, которого только что вытащили из речной глубины, откуда сам он уже никогда не поднялся бы.
– С миром к нам приехал от князя Владимира, – Тимарь, который сидел на бархатной подушке молча, зажав губами правый ус, сказал это для Торника. – Как думаешь, мой многоопытный советник, даст ли выкуп за Белый город князь урусов? Или хитрость какую затевает, ждет, пока дружина прибудет в Кыюв?
Торник так и не придумал еще, что делать, как повести се бя – спасать ли Парфена или убрать руками кагана? Что лучше? Как поступить без промашки? А у Парфена брови поднялись дугой, едва умолк каган, гневом сверкнули черные глаза, покривилось избитое лицо – вон как вышло! Торник – в советчиках у печенежского кагана! Что же он ему советует, если божественный василевс повелел не выкупа с Руси добывать печенегам, а помощи искать Византии?!
Иоанн с трудом приходил в себя от оцепенения, едва нашелся, что ответить кагану:
– Если о выкупе хотел вести речь князь Киевский, то почему не послал своих знатных мужей с подарками кагану? Почему поручил это чужому человеку, жизнь которого ему не дороже червя под ногами?
Парфен качнулся от таких слов, сделал попытку вскочить на ноги, но два рослых нукера тут же навалились ему на плечи, посадили на ковер. Сумел лишь руку протянуть к Торнику, словно предостеречь хотел от необдуманных слов и по ступков.
– Иоанн, о чем твоя речь? К чему склоняешь ты печенежского кагана? Князь Киевский о равном мире хлопочет, а не о выкупе за свои земли! Разве не об этом же помыслы боже ственного василевса? Опомнись!
Иоанн Торник знал теперь только одно – он разоблачен, а потому надо спасать себя. Парфен Стрифна домой возвратиться не должен! Заговорил так, будто и не слышал слов младшего василика:
– Думается мне, о повелитель степи, прислан сей человек от князя Владимира доглядывать за твоим войском. Вчера только князь Киевский в свой город вошел с малой дружиной, потому и хочет знать, велико ли твое войско? А речь о мире нужна, чтобы со всех городов ратников собрать под Киевом и на тебя исполчиться.
Парфен Стрифна сумел вырваться из цепких рук нукеров, в гневе вскочил на ноги, резко обернулся к Торнику. На смуглом в кровоподтеках лице выступили капельки пота, стиснутые губы побелели. Не верил уже, что живым выйдет из каганова шатра – свой же предал, подвел под смерть!
– Ты изменил своему василевсу, Иоанн Торник! Подлый Иуда, тебя ждет лютая смерть… Попомни мои слова, лютая смерть ждет тебя в этой земле!
Уржа хлопнул ладонями. В шатер вошли еще двое нукеров.
– Уведите и глаз с него не спускайте, – распорядился он.
Разгневанного Парфена силой уволокли из Белого Шатра.
Не зная, что он еще предпримет, Иоанн Торник с поклоном обратился к Тимарю, любезно попросил:
– Дозволь, о справедливейший повелитель, мне допросить Парфена с глазу на глаз о силе киевской дружины? Обильное вино развяжет ему язык, среди своих посольских стражников он будет не таким настороженным и враждебно настроенным.
Каган медленно, в раздумии уставил тяжелый взор в византийского василика, чуть приметно усмехнулся, словно заранее знал о помыслах Торника, потом повернулся к сыну. Требовательно, будто у взрослого мужа, спросил:
– Как присоветуешь, сын мой? Что будем делать с византийским посланцем? Сами стеречь будем, выкупа дожидаясь, или соплеменникам выдадим?
Араслан тряхнул перед собой стиснутой плетью с красиво украшенной камнями рукоятью, выпалил разом, словно заранее все обдумал:
– Пытать его надо – скоро ли вся дружина Урусов соберется к Кыюву? Иной пользы от него не видать нам в силу его упрямства. Думаю, от нашего друга Торника Парфену не убежать.
Тимарь одобрительно цокнул языком, покосился на Иоанна.
– Возьми своего соотечественника. Младший посланец императора мне не нужен. Если князь Владимир речь хочет вести только о мире, а не о выкупе, время тратить не будем зря. А сам допытай его. И мне скажешь о делах Кыюва, – и Тимарь рукой махнул византийцу, чтобы тот удалился.
«Будто стеклянного насквозь просмотрели… Даже помыслы мои для них не тайна», – откланялся Торник печенегам. Мелко подрагивали колени, когда вышел из просторного шатра. Постоял недолго, успокаиваясь, потом взял Парфена за руку и повел к своему становищу, возле которого виднелись посольские возы и византийская стража.
Парфен Стрифна тяжело дышал и выдергивал руку из цепких пальцев Торника – идти рядом с изменником было выше его сил.
– Ты предал василевса, Торник! Ты уподобился Иуде! Подлый перебежчик! Жалкий трус. У тебя даже не хватило сил поступить так, как поступил Иуда, который наложил сам на себя руки! Справедливый василевс достойно покарает тебя, а род твой продадут в презренное рабство!
Иоанн скорбно улыбнулся, покосился на гневом искаженное горбоносое лицо Стрифны, сделал слабую попытку оправ даться:
– Поживешь с нами – многое увидишь, узнаешь. Моей вины нет в том, что печенеги вновь напали на Русь. Я встретил кагана уже на киевской земле, он удерживает меня около себя силой. Принужден служить ему в надежде, что после похода на Русь уговорю Тимаря повести войска против арабов. В таком помысле мне окажут содействие многие печенежские князья, среди которых и известный тебе внук Кури князь Анбал, опасный претендент на место в Белом Шатре каганов. А ты кричишь не разобравшись изменник!
Парфен вытер лицо платком – кровь из разбитого носа продолжала течь, судорожно выдохнул, делая попытку успокоить сердце, – в груди покалывало, мешало дышать и думать. Повернул измученное лицо к Торнику, высокому, сутулому, с проступившей желтизной на щеках. Сказал примирительно, словно поверил словам старшего василика:
– Отпусти меня в Киев. Надобно известить князя Владимира, что каган мира не ищет.
– Ныне это невозможно, брат Парфен, потому как печенеги будут доглядывать за нами. Пусть успокоятся твоим якобы известием, что в Киев пришла совсем малая дружина, а прочие войска еще весьма далеки от стольного города. Дня через два-три уйдешь ночью. И скажи князю Владимиру, пусть не скупится и даст печенегам откупного. За это божественный император втройне выдаст ему золотом и товарами, лишь бы дружину прислал в Константинополь. Иначе Тимарь до зимы осядет под Киевом. Слух был, что и соседние торки собирают силы Тимарю в поддержку.
Парфен долго смотрел на белые стены осажденного Белгорода – над городом в розовых лучах подступающего вечера поднималась легкая серая дымка. Малыми карликами казались отсюда дружинники на помосте, и, словно степные былинки на слабом ветру, чуть приметно качались их длинные копья. Чем-то напуганные черные вороны медленно кружились над куполами церкви.
– Скажу, как ты просишь, – ответил Парфен, опуская жадный взор на вытоптанную землю под ногами.
Иоанн сердцем уловил нотку неискренности вырвавшихся слов младшего василика. Худые лопатки покрыли колючие мурашки озноба.
«Стрифна не поверил мне, а стало быть, выдаст безжалостному Василию. И быть мне брошенным в сырую яму к голодным тиграм! Ох, великий бог, спаси и помилуй от лютости человеческой!»
Пошел рядом, спотыкаясь на ровном месте – отчего-то вдруг в глазах потемнело.
После ужина Иоанн отозвал в сторону Алфена, высыпал ему в широкую и потную ладонь горсть монет и прошептал:
– Сядешь у изголовья Стрифны. Пусть спит спокойно… Но рассвет для него больше не наступит… Ты понял меня? Сделаешь так – прощу все твое воровство из моих возов, против уворованного втрое награжу, как возвратимся в Константинополь.
Алфен испуганно глянул на сумрачного Иоанна, по толстым щекам забегала нервная судорога. Подумал было отказаться, но увидел тонкие поджатые губы хозяина, смешался: в желтых глазах василика стояла холодная решимость, и Алфен понял, что с подобным повелением Торник подойдет к другому слуге, но тогда рассвета не видать и ему, Алфену. Соглашаясь, Алфен чуть слышно прошептал:
– Понял вас, господин мой. Сяду у изголовья и все сделаю…
Рано поутру в маленьком становище византийцев возник переполох с криками и руганью. Посланные от Тимаря нукеры, вернувшись, доложили кагану, что пойманный вчера Парфен Стрифна, должно быть опасаясь возмездия за свой умысел против всесильного кагана, выхватил нож у задремавшего стражника и своей же рукой пробил себе сердце.
Тимарь в понимающей улыбке покривил толстые губы и громко позвал брадобрея Самчугу к себе в шатер привести лицо в порядок.
* * *
В полдень этого же дня голова василика Парфена Стрифны была брошена печенежскими всадниками в киевский ров – таков был ответ кагана Тимаря на предложение русичей о мире. Русичи в ответ на это выбросили из города сломанную пополам стрелу: печенеги знали, что таков у многих народов знак непримиримой вражды.
Когда князю Владимиру сказали о горькой участи посланца Стрифны, он переменился в лице и долго сидел, придавив сердце широкой ладонью. Киевский воевода Волчий Хвост терпеливо ждал, сумрачно сдвинув седые и торчком стоящие брови. Задумался, отыскивая возможность для достойной мести коварным печенегам. Как ни прикидывай, а надобно ждать сбора всей силы земли Русской. Опомнился от нерадостных дум, когда услышал голос князя:
– Самим теперь надобно позаботиться, как получить весть от белгородского воеводы Радка.
Волчий Хвост с поклоном ответил, что пошлет в осажденный город самых лучших гонцов.
– Пошли. А несчастного Стрифну… его голову, повелеваю похоронить по христианскому обычаю, – распорядился князь Владимир. – Да надобно переслать приличное денежное вознаграждение в Константинополь женке и детям василика. Как знать, не терпят ли они там нужду горькую. – Подошел к раскрытому окну терема, долго смотрел, как за лесистыми холмами, на юго-запад от Киева, стлалось над Белгородом размытое ветрами светло-розовое облако пыли, смешанной с дымом печенежских костров.
* * *
Сквозь непроглядные заросли треховражья Янко прошел ночной кошкой – все слыша и видя во тьме. Но печенегов поблизости в дебрях не было. Они держались ближе к кострам, чужой ночи страшась, наверно. Да и верховой ветер так тревожно шумел над головой, словно бы отговаривал людей покидать освещенное кострами место.
Янко вошел в воду и почувствовал, что кожа на спине стала подобна коже старой лягушки: сплошь в пупырышках. Пересилил противный озноб и, легши на спину – лишь нос над водой чуть виден, – бесшумно, словно опытный барс, уходящий от погони, поплыл вдоль крутого правого берега реки. Плыл, поглядывая то влево, на отблески печенежских костров над кустами, на самом верху обрыва, то вправо – на займище, отгороженное от реки цепью огней: оттуда огненные языки костров сновали по воде длинными отсветами.
Плыл Янко, о печенегах старался думать, а жутко было и от иной тревоги: «Не надумал бы шалить Водяной Дед да русалок на меня напускать! Вцепятся речные девы в платно, опутают ноги зелеными травами, и живым от них не уйти будет». Насторожился: шум какой-то послышался впереди, у самого берега. Не печенег ли коня поить привел? Приметит – стрелой на дно опустит! Янко перевернулся в воде со спины на грудь и увидел, как Ирпень выталкивал из себя с кручи упавшее дерево, но корявая ветла упиралась в землю ветками и не уходила из воды, потому и серчал всегда спокойный Ирпень, преграду на пути встретив.
Перунов овраг с темным и мрачным чревом остался позади.
«Теперь на тот берег можно плыть, займище заирпеньское кончается», – решил Янко, когда костры скрылись за поворотом, и тихо приблизился к затаившемуся темному лесу. По илистому дну вышел к плохо различимому берегу. Черевья хлюпали, озноб сковал тело, едва ночной ветер коснулся его через мокрую одежду. Янко стащил через голову платно, а затем и ноговицы скинул, отжал их накрепко, а когда снова надел, стало немного теплее. Сделал несколько резких взмахов руками, согреваясь на ветру.
«Ладно и то, что по спине вода не бежит ручьем», – решил Янко и пошел вдоль реки, чтобы затемно уйти как можно дальше от города.
Страшно без огня одинокому человеку в ночном лесу, но Янко страшился не зверя, а духов недобрых, нежити лютой и жадной на человеческую кровь. Кто знает: коренья из-под земли то и дело хватают за ноговицы или то цепляются своими костлявыми пальцами навы? Может, норовят живого к мертвым уволочь? И кто это, пугая, вдруг лица коснулся? Отмахнулся Янко рукой, а оказалось – дерево разлапилось на пути. Потом споткнулся о что-то и упал бы, да руками успел за ствол схватиться. Пальцы тут же слиплись.
«И не разглядеть, что это, – Янко поднес руку к носу, осторожно понюхал. – Пахучие слезы старой сосны!» – попытался вытереть смолу о мокрые ноговицы, да только напрасно старался.
Вдруг чья-то злая и беспокойная душа, не погребенная по обычаям предков, над Янком заухала-запричитала, а потом пролетела так близко – едва не задела по лицу огромными крыльями. Отпрянул Янко влево и крест святой наложил на себя да в непроглядную чащобу головой нырнул, заклиная древних чуров[47]47
Чуры – души предков.
[Закрыть] вступиться за родную кровь перед лесной нежитью.
– Чуры, спасите меня! Чуры, спасите меня от страшного! – шептал Янко, едва успевая оберегать голову от встречных веток и сучьев. Тут и шум по лесу прошел: чуры ли прилетели биться с нечистой силой, родича спасая, сама ли чужая душа хищная прочь унеслась, но тихо стало вокруг, лишь шелест невидимых над головой листьев говорил успокоенному Янку, что лес жив и сам он жив, не тронули его чужеродные навы.
Шел Янко, а дебри становились все гуще и гуще, и уже пальца, казалось, некуда было просунуть, не то чтобы телу человеческому продраться. Тогда Янко вынул нож и стал рубить тонкие ветки, дорогу прокладывать себе. А уходить от реки не решался: как бы не заблудиться ночью в диком лесу заирпенья, не скоро потом выберешься.
Долго шел так, радуясь, когда лес редел, огорчаясь, когда он становился бараньей шерсти подобен. И устал до дрожи в коленях, когда вышел на небольшую поляну близ берега реки. Осмотрелся.
Ночь уже належалась на лесистых холмах и собралась уползать на запад, почуяв, как солнце заворочалось на своем горячем ложе. По тому, что небо стало из черного темно-синим, а звезды из белых перекрасились в голубые и замерцали, будто пламя лучины, перед тем как погаснуть, – понял Янко, что рассвет близок. Вот и вершины деревьев четче обозначились, а потом кучевые облака темное платно сменили на серое, будто кто из них воду мутную отжал, просушивая.
Опустился Янко на трухлявую, упавшую от старости березу и ноги вытянул. Отдыхал и думал: как дальше путь держать? Идти ли левым берегом Ирпень-реки и так до Днепра, а дале через Вышгород пробираться в Киев? Это много безопаснее, но на четыре дня дольше. А Белгород ждет, за частокол в сторону холмов над Днепром смотрит – голодному ведь и час за день станет!
– А если прямо через холмистую степь пуститься? – размышлял вслух Янко. Поднял голову посмотреть, какова облачность над Днепром, не ждать ли дождя себе в подмогу? Хороший дождь надежно укрыл бы его от печенежских дозоров. Но туч не было, а из мягких и белых облаков какой теперь дождь?
За спиной застучал дятел, сначала несмело, словно опасаясь вызвать неудовольствие спящей пернатой братии, но потом, извещая, что день близок и пора птицам просыпаться, застучал громко и радостно. В ответ справа стрекотнула сорока, пробежал ветерок над заречным лесом, разогреваясь после сна.
– Буду ждать ночи да по балкам и кустистым ярам пойду, – решил Янко. – Там никакой дозор не приметит. Теперь же надо на тот берег перебраться, пока совсем не разогнало ветром туман над водой: какое-нито, да прикрытие беззащитному. На том берегу где-нибудь в зарослях и затаиться до вечера.
Не мешкая, переплыл реку, в прибрежных кустах бузины наскоро устроил ложе и прилег, истомленный ночной ходьбой.
Проснулся от громкого ржания коня. Вскинулся, сразу со сна не поняв, что с ним, а потом упал на примятую траву: вдоль берега, не торопясь, ехали конные печенеги, полета человек, не меньше. Крайний к кусту проехал так близко, что Янко, встав на ноги, мог бы прыгнуть и ножом ударить его в грудь. Молодая бузина спасла Янка, укрыла густыми листьями. Он с облегчением перекрестил себя, когда находники, миновав его, объехали дальнюю балку и скрылись за широкими кронами осокорей, выросших там, слева, на обильной воде Ирпень-реки.
День близился к вечеру, и Янко, поторапливая солнце, уже готов был рискнуть и перейти в ближний суходол, а по нему двинуться с опаской к Киеву, ночи не дожидаясь, как вдруг снова послышался стук копыт, теперь уже слева. Чуть раздвинул ветки куста. К нему приближался одинокий всадник на добром вороном коне, а следом что-то волочилось на аркане, в густой траве издали пока невидимое, но, должно, тяжелое. Будто легкий ветерок пробежал по спине, когда Янко подумал: «Не взять ли печенега?» – и тут же резво и нежданно метнулся из куста, как голодный зверь на подкарауленную говяду, отбившуюся от стада.
Конь шарахнулся было прочь, но Янко мертвой хваткой успел вцепиться в седло. Печенег вскрикнул и тщетно пытался нащупать рукоять меча. Янко сорвал его на землю, твердым коленом придавил грудь. Печенег ощерил зубы в беззвучном крике, глаза округлились в ожидании удара ножом под сердце, но Янко опустил занесенный нож.
– Что, страшна смерть, поганый ворог? – зло выговорил он. – Стал бы ты сейчас пищей для курганника, да в Киеве живым нужен, – и связал находника его же поясом. Встал посмотреть, что же волок печенег за седлом, и отшатнулся, увидев кровью залитое лицо. Руки и ноги у полонянника были стянуты сыромятным ремнем. Янко разрезал его, осто рожно вынул изо рта человека кляп. Освобожденный открыл синие глаза, шевельнул в кровь разбитыми губами. У Ян ка душа наполнилась светлой радостью: не благо ли – русича из неволи страшной спасти! С превеликим трудом разобрал слова:
– Испить бы…
Янко подхватил меховую шапку печенега, сбегал к реке, принес воду и напоил русича.
– Кто ты и откуда? – спросил Янко, разглядывая совсем еще молодого, нежданного товарища.
– Мироней я, из города Здвижена, – откашлянул Мироней густую пыль, забившую горло, пока волок его печенег по земле. – Был в Киеве, в Здвижен не успел выехать, как печенеги вокруг города дозоры наслали. Поднялся с места, понадеялся на удачу, да вот на поганых вышел. А ты чей и откуда будешь?
– Из Белгорода, зовусь Янком. Иду к князю Владимиру гонцом.
Мироней с усилием привстал на колени, склонился Янку в ноги головой.
– Про Белгород вся Русь знает… Прими поклон земной от ратаев за ратный ваш труд.
Янко от такой чести смутился, торопливо поднял Миронея за плечи, участливо спросил:
– Сам пойдешь али коня возьмешь?
– Тебе поспешать по делу важному надо, а я в Здвижен и шагом добреду. Езжай краем этого суходола к тому вон лесу. А оттуда, с холмов, Киев хорошо виден. Да берегись печенегов, которые меня брали. Рядом где-то рыщут, псы бешеные.
Янко поднял печенега на коня, сам сел в седло. За суходолом въехал на небольшой облысевший холм и вскрикнул, радуясь увиденному: там, впереди, за немногими теперь холмами, на крутой возвышенности виден был Киев. Первый среди городов Руси! На горах лежит. Стены высокие поверх вала, церковь Святой Богородицы сверкает куполами, по злащенные кресты сияют на солнце…
Стрела угрожающе взвизгнула над ухом и нырнула в ближние кусты, пропала там так же незаметно, как и прилетела.
Янко оглянулся, и жар прилил к голове: его настигали печенеги, широкой дугой раскинувшись по полю. Ударил коня плетью и пошел вдоль неглубокой речки Лыбеди, выбирая место перемахнуть бродом на ее левый берег. А к сердцу жалость, будто кусок холодного льда, подступила: совсем ведь близок Киев! Хорошо различимы уже дубовые ворота и черная лента дороги на склонах Горы Кия. Дружинники показались над частоколом, заметили, наверно, одинокого всадника и погоню за ним. Еще раз оглянулся Янко и понял: не уйти, имея полоненного с собою на коне. Достал нож, занес над печенегом… и не смог поразить согнутую спину. Какое-то время еще колебался, сам себя убеждал, словно на суде совести, перед тем как выйти на суд людской:








