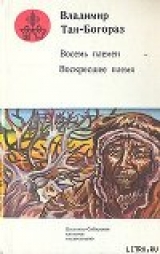
Текст книги "Кривоногий"
Автор книги: Владимир Тан-Богораз
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
– Эуннэкай! – окликнул его знакомый голос, и он почувствовал в своём боку изрядный толчок жёсткого носка от моржовой кожи, крепкого, как дерево.
Эуннэкай поднял голову и посмотрел вверх заспанными глазами. Над ним стоял Кутувия, опять подогнавший оленей к самому месту ночлега.
– Полно тебе спать! – сказал Кутувия. – Ты, как Ленивый Малютка, и днём спишь и ночью спишь! Скоро на твоих боках сделаются язвы от лежания!
– Эгей! – сказал Эуннэкай, готовый снова опустить голову на изголовье. Он чувствовал себя хуже обыкновенного.
Но Кутувия угостил его вторым толчком, ещё крепче первого.
– Встань! Встань! – кричал он повелительно. – Зачем я один должен держать открытыми глаза, когда вы с братом валяетесь на земле, как сурок около медведя. – И, довольный своим остроумием, сын Эйгелина отрывисто рассмеялся.
– Эгей! – покорно повторил Эуннэкай и сел на оленьей шкуре, служившей ему постелью. Кутувия поддёрнул ногой другую шкуру, лежавшую поодаль, и тяжело опустился на неё.
– Худо, тяжело! – сказал он более спокойно. – Кости моих ног опустели! Весь мозг высох! Целый день я ни разу не садился с этими оленями. Они не хотят стоять на месте хоть бы минуту.
Эуннэкай посмотрел на стадо. Все олени спокойно лежали на ровной площади пастбища. Нигде не было видно ни одного комара.
– Не теперь, прежде! – сказал Кутувия, заметив его взгляд. – Теперь хорошо! Тенантумгин пожалел-таки нас и послал большой холод. Комары валяются на земле, как сухая хвоя. Они не в силах прокусить гнилой кожи налима. Теперь олени немного отдохнут.
Тело Кутувии понемногу приняло горизонтальное положение. Глаза его стали слипаться.
– Если побегут, разбуди Каулькая! – через силу выговорил он и смолк, как поражённый громом.
Эуннэкай поджал свои кривые ноги и уселся поплотнее, посматривая на оленей глазами, ещё не освободившимися ото сна. Они тоже устали не менее пастухов и пользуясь промежутком благословенного холода, спали таким же крепким сном, склонив головы на вытянутые передние ноги. Некоторые телята лежали на боку, протянув в разные стороны свои тонкие ножки и напоминая трупы, брошенные на землю. Жёлтый Утэль устал больше всех. Ему приходилось весь день бегать за табуном на трёх ногах: четвёртая была заткнута за веревочный ошейник для обуздания его хищных инстинктов по отношению к телятам и хромым пыжикам. В настоящую минуту он лежал на обычном месте своих отдыхов, свернувшись в клубок и прижавшись спиной к ногам Каулькая, которого он считал своим хозяином, хотя собственно говоря, принадлежал Кутувии.
Эуннэкай чувствовал себя очень плохо. Грудь его мучительно ныла. Ему казалось, что будто кто-то сдавливает её с боков. От этого давления боль ударяла в спину и колола где-то сзади. Даже дышать ему было трудно, и каждый вздох выходил с хрипом из его открытого рта. Он сидел скорчившись, протянув вперёд голову, опираясь основанием спины на свою котомку, и смотрел прямо перед собой.
"Отчего я такой плохой, – думал он, – а Каулькай крепок, как большая лиственница у подошвы скалы! И Кутувия крепок, как камень, обросший мхом! Только я плохой, слабый… Зачем Тенантумгин создал меня таким худым? Хоть бы немножко иначе! Чтоб грудь не болела и нога ходила прямо, как у людей!.."
Эуннэкай вспомнил, что Кутувия назвал его Ленивым Малюткой; но ведь Малютка не весь век лежал на боку. Потом бог сжалился и сделал его настоящим человеком. А может, и над ним сжалится?.. Вдруг прилетит вороном, ударится об землю, станет человеком и скажет: "Вставай, Эуннэкай! Полно тебе лежать на одном месте, как охромелый пыжик! Ходи и ты, как человек!". И поправит его больную грудь и кривую ногу, и даст ему высокий стан и пригожее лицо, красивую одежду из белых шкур, стадо пёстрых оленей, санки в колокольчиках…
Эуннэкай поднял голову вверх и, видя ворона, пролетавшего мимо, на минуту подумал, не Тенантумгин ли это. Но ворон пролетел дальше, даже не посмотрев на Эуннэкая.
Эуннэкай снова посмотрел перед собой долгим взглядом. Ряд круглых сопок перед его глазами курился густым чёрным туманом, который свивался в огромные клубы и медленно полз вниз, наполняя долину. "Словно костры!" – думал Эуннэкай. Но этот дым такой холодный и мокрый. От него грудь Эуннэкая всегда болит сильнее, и глаза от него слипаются… слипаются… слипаются…
Дальше Эуннэкай уже не думал. Сон, его истинный властитель, пришёл так же внезапно, как всегда, и завладел его существом.
Сверх обыкновения, Эуннэкаю приснился сон. Ему снилось, что Тенантумгин услышал его жалобы, но отнёсся к ним совершенно иначе, чем он имел право надеяться. Божественный ворон, – тот самый, который когда-то учил своей каркающей речи поколения людей, лишённых слова, – с раскрытым клювом, широко простёртыми крыльями и заострёнными когтями, прилетел и прокричал у него над ухом:
"Тебе не нравится больная грудь и кривая нога? Ты негодник!.. Ругаешь шатёр, в котором живёшь! Не надо ничего! Выходи вон!"
Эуннэкай почувствовал, как все шесть увыритов, составляющих его душу, покинули бренную земную оболочку и действительно вышли все. Пять увыритов улетели в разные стороны, как испуганные птицы, но один остался. То он, он сам, Эуннэкай. Он стал совсем крошечным ("Как ножовый черен", – мелькнуло у него в голове) и ощущал необычную лёгкость.
Но Тенантумгин не дал ему даже осмотреться в этом новом состоянии, схватил его когтями и понёс вверх. Они летели быстрее диких гусей, перенёсших героя сказки Айваналина через широкое море, легче пушинки, восходящей вверх на крыльях отвесного вихря, бегущего со скалы на скалу. Эуннэкай в ужасе закрыл глаза и старался не слушать даже быстрого трепетания крыльев, направлявших кверху безостановочный полёт.
Когда он открыл глаза, они уже были под самым небом. Мимо них мелькали разные жители небесных пространств, на которых Эуннэкай столько раз смотрел бывало, снизу в ясные зимние ночи, дивуясь тому, что они вечно ходят там, в вышине, и ни одному из них не придёт в голову хоть на минуту спуститься на землю. _Шесть Пращников_ (шесть звёзд Большой Медведицы) вели ожесточённый бой, осыпая друг друга градом камней, а рядом с ними _Бурая Лисица_ усердно грызла олений рог, даже не поднимая головы, чтобы взглянуть на битву (седьмая звезда Большой Медведицы). _Стрелок_ (Орион) напрягал лук, а _Толпа Женщин_ загородилась сетями, чтобы защититься от его губительных стрел (Плеяды). _Широкий Песчаный Поток_ лежал поперёк всего неба (Млечный Путь). Множество мелких и крупных оленей тихо бродили по его островам. Дальше _Большеголовые Братья_ ехали на своих высоких упряжных быках (Вега и Арктур). _Девичья Толпа_ ожидала прихода женихов. _Охотники за Лосями_ проворно скользили на лыжах. Много было других, имён которых не знал Эуннэкай. Только _Воткнутый Кол_, тот, который вечно пребывает на месте (Полярная звезда), сверкал над головой в недосягаемой вышине.
Достигнув неба, ворон мигом отыскал в нём дыру, прямо под ногами Воткнутого, и, юркнув в неё, продолжал подниматься выше. Эуннэкай увидел в вышине другое небо, очи которого были отличны от земных созвездий, издавна знакомых ему. Только Воткнутый Кол, который вечно пребывает в покое, сверкал так же высоко над головой. Он посмотрел вниз. Прямо под ним расстилалась чёрная равнина, убегавшая с каждой минутой в неизмеримую бездну, но ещё близкая, на которой его острый взгляд, несмотря на темноту, различал смутные очертания гор и широкие пятна лесов, прорезанных светлыми полосками бегущих вод. Без сомнения, то была вторая земля, составляющая, как известно, изнанку первого неба, находящегося над головой людей. Ворон продолжал подниматься вверх, прямо к подножию Воткнутого. "В свой дом летит!" – подумал Эуннэкай, и на мгновение ему представился высокий утёс из нетающего льда, сверкающий, как солнце, в котором выдолблено жилище Тенантумгина, а рядом воткнут остроконечный кол, украшенный звездой. Между тем ворон уже достиг второго неба и, без трудов отыскав в нём такую же дыру и на том же месте, нырнул в неё и одновременно миновал второе небо и третью землю, составляющую его изнанку, продолжая своё восхождение. Когда все шесть небес, висящих одно нал другим, были оставлены внизу, Эуннэкаю пришлось претерпеть жестокое разочарование. Пролетев все небеса, ворон, вместо Воткнутого, повернул в сторону и, замедлив полёт, тихо поплыл над какой-то мрачной страной, ровной и пустынной, как ледяная грудь моря, и густо занесённой сугробами чёрного снега, – опускаясь всё ниже и ниже. Местами из снега торчали какие-то короткие сучья. Но, всматриваясь поближе, Эуннэкай различал, что это человеческие кости, погребённые под снегом в самых различных положениях. Они летели так низко, что чуть не задевали за эти кости; костлявые руки протягивали к ним свои непомерно длинные пальцы, похожие на когти. Если бы ворон выронил Эуннэкая и предоставил ему упасть вниз, они выражали готовность тотчас же подхватить это маленькое существо, как раненого птенца куропатки, и сделать его собственной добычей. Пустые глаза черепов смотрели на Эуннэкая своим таинственным взором, скрытым в глубине внутренней темноты. Беззубые рты разевались широко навстречу, подстерегая малейшую оплошность ворона, чтобы подхватить и проглотить Эуннэкая.
"Хорошо, что я такой маленький! – подумал он. – Был бы по-прежнему, кто-нибудь непременно поймал бы за ногу!"
Он поднял вверх голову, чтобы не увидеть ужасных костей, и чуть не крикнул Тенантумгину, чтобы тот держал его крепче. Но вдруг он заметил, что то был совсем не Тенантумгин. Ворон превратился в безобразное чудовище со странными крыльями, как будто тонкая нерпичья шкура была широко натянута на основу из китового уса. У чудовища были четыре лапы, похожие на нерпичьи ласты. Передние, которыми оно держало Эуннэкая, всецело состояли из длинных железных когтей, изогнутых, как "черуна", и выходивших из самой груди. Задние были вытянуты вместе и поворачивались из стороны в сторону, заменяя отсутствующий хвост. Эуннэкай узнал лицо, бледное как у мертвеца, незрячие глаза, широкий рот с двумя длинными клыками, торчавшими, как у моржа.
"Это Кэля! – подумал он в ужасе. – Поглотитель душ! Принесёт в логовище и съест!.."
Эуннэкай хотел закричать от ужаса, но голос остановился у него в горле. Кэля подлетел к высокому чёрному шатру, стоявшему среди пустыни, и проник в него, увлекая с собой свою маленькую жертву.
"Конец!" – подумал Эуннэкай и опять закрыл глаза.
Но Кэля, должно быть, ещё не был голоден. Вместо того чтобы тотчас же растерзать Эуннэкая, он ограничился тем, что внёс его в полог, стоявший у задней стены шатра. Сильный свет внезапно проник сквозь закрытые веки Эуннэкая, и он невольно открыл глаза. В пологе было светло как днём. Стены его были сделаны из гладкого железа и блестели как лезвия топоров, привозимых _морскими бородачами_[17]17
[Морские бородачи – американские китоловы. (Прим. Тана).]
[Закрыть] на высоких огненных судах. Не видно было ни входа, ни выхода. Кэля проник неизвестно откуда, и отверстие, пропустившее его, тотчас же закрылось. У задней стены полога горела большая лейка. Светлое пламя белого костного жира поднималось яркими языками на краю широкой железной сковороды, наклоненной на один бок, – для того чтобы растопленный жир лучше стекал к светильне. Кэля положил Эуннэкая на противоположный край, свободный от белых пластов жира, и уселся в углу полога, по-видимому, намереваясь отдохнуть от утомительного путешествия. Эуннэкай тоже чувствовал смертельную усталость и лежал без движения на сковороде. Какое-то крошечное существо, которое он сначала принял за деревянную заправку лейки, поднялось с противоположного края сковороды, где оно сидело на железной выемке, у самого пламени, и, подойдя к Эуннэкаю, толкнуло его маленькой ножкой, не больше деревянной спички. Впрочем, Эуннэкай и сам был не больше этого маленького человечка. Эуннэкай присмотрелся к подошедшему. Маленькое тельце его, обтянутое коричневой кожей, сморщившейся в крошечные складки, имело чрезвычайно странный вид. Оно было засушено до самой последней степени, напоминая осколок ламутской горчи (сушёное мясо), провисевшей под солнцем и ветром целое лето. На нём повсюду виднелись глубокие изъяны, даже просто дыры, сквозь которые можно было видеть переливы светлого пламени, часть которого он заслонял своей спиной. Уцелевшие части напоминали высушенную плёнку и были так тонки, что тоже светились насквозь, пропуская яркие лучи. На голове его не было ни одного волоса, маленькое личико съежилось, как зерно кедрового ореха, обожжённое огнём. Эуннэкай в первый раз видел такое странное существо. Тем не менее ему показалось что-то знакомое в этой жалкой, скрюченной фигурке.
– Пришёл? – сказал человек, толкая его ногой.
Эуннэкай не отвечал ни слова.
– Эуннэкай, пришёл? – повторил человечек таким странным голосом, что Эуннэкай от удивления широко открыл глаза. Он узнал голос Рэу, своего брата, которого много лет тому назад унёс Великий Мор.
"Ты что здесь делаешь, Рэу?" – хотел крикнуть он, но Рэу предупредил его.
– Не кричи! – выразительно шепнул он, предостерегающим взглядом указывая на Кэля, крепко заснувшего в углу. – Кэля унёс меня, чтобы я заправлял светильню в его лампе. Уже десять лет я хожу взад и вперёд сквозь горячее пламя! Видишь: на моей голове не осталось ни одного волоса, все обгорели от жара; кожа моя сморщилась, как обожжённая перчатка; тело прогорело до дыр и не может заслонить пролетающей искры. Даже тень моя сгорела в огне! Как может человек жить без тени?.. А теперь он взял и тебя! Берегись жить вблизи огня, Эуннэкай! Тело твоё прогорит насквозь! Лицо почернеет, как котёл, простоявший у костра двадцать зим, зубы во рту станут как обгорелые угли!..
Эуннэкай не отвечал ни слова.
– Ты спишь, Эуннэкай? – человечек опять толкнул его ногой. – Проснись, проснись!.. Есть средство убежать отсюда! Пробить дверь в железном пологу!.. Скажи, Эуннэкай: что ты ел в своей жизни на земле?
Эуннэкай подумал, подумал и ответил:
– Оленину!
– А ел ли ты тюленье мясо? Ел ли ты моржовую кожу? Ел ли ты китовый жир?
Эуннэкай опять не ответил." Он боялся сказать: "Нет!".
– Кто ест разное на земле, тот копит большую силу. Он может бороться с Кэля! Скажи, Эуннэкай: ел ли ты тюленье мясо? Ел ли ты моржовую кожу? Ел ли ты китовый жир?
Но при одной мысли о борьбе с Кэля Эуннэкай вздрогнул и зажмурился. Он опять не ответил на роковой вопрос.
– Ты, негодяй! – раздался громовой голос над его головой. Ужасный толчок ногою в грудь разбудил Эуннэкая, Кутувия стоял над ним с лицом, искажённым от ярости.
– Проклятый! Где олени?
Эуннэкай вскочил, трясясь всем телом, и схватился за грудь. Наяву, как и во сне, он не мог выговорить ни слова. Ни одного оленя не было видно на площадке. Она была так тиха и пустынна, как будто на ней от сотворения мира не показывалось ни одно живое существо.
– Собака! – сказал Кутувия, нанося ему второй удар. – Каулькай! Каулькай! Вставай! Твой брат отпустил стадо!
Но Каулькай, спавший таким непробудным сном, пробудился ещё раньше окрика. Одним прыжком он очутился на ногах, бросил быстрый взгляд вокруг себя, увидел своих товарищей, погрозил им своим загорелым кулаком и опрометью сбежал по крутому косогору на берег Мурулана, протекавшего внизу.
– Эй-а! Эй-а! – раздались его громкие крики призыва, проникнутые не поддающимся описанию хрипящим звуком, какой издают оленьи быки в пору порозования. Кутувия простоял секунду на месте, потом быстро подобрав с земли шапку, убежал по противоположному направлению, также начиная многотрудный поиск.
Эуннэкай долго стоял на одном месте, держась рукою за грудь. Он никак не мог понять, что случилось. Враждебный дух опять усыпил его ум, чтобы увести от него оленей и погубить его вконец. Не Тенантумгин, а Кэля создал его, Кэля владел им всю жизнь, Кэля унёс его душу в эту туманную ночь и носил её по надземным пустыням, где никогда не бывает дня, и запер его в железный шалаш для того, чтобы тем временем похитить от него стадо. Эуннэкай машинально собрал все вещи, связал их, по обыкновению, в виде плоской и длинной ноши, увенчанной котлом, и уже хотел взвалить на свои плечи, но передумал и положил опять на землю. Надо искать оленей, а за вещами можно будет прийти потом, в другой раз. Эуннэкай поднял посох, забытый Кутувией, и опять осмотрелся вокруг. Жёлтый Утэль, ковыляя на трёх ногах и виляя хвостом, подбежал к нему. Он тоже спал и не успел уйти вместе с кем-нибудь из пастухов, а теперь ластился к Эуннэкаю, как будто выражая сочувствие его горю и обещая посильную помощь. Эуннэкай нагнулся и вытащил ногу Утэля из-за ошейника.
– Пойдём, Утэль! – сказал он. – Станем искать стадо.
Он спустился на Мурулан, но, вместо того чтобы перейти на другой берег, к линии противоположных вершин, как это сделал Каулькай, направился вниз по реке, намереваясь достигнуть большого горного ручья, впадавшего в Мурулан, и, поднявшись вверх по его течению, перевалить через горную цепь и достигнуть истока другой горной речки, Андильвы, стекавшей с противоположного склона. То были высокие места, богатые наледями и вечно обдуваемые ветром, постоянное жительство диких оленей и горных баранов. Они были хорошо знакомы чукотским оленям, которые не раз убегали туда, и Эуннэкай надеялся, что, может быть, и теперь найдёт там своё убежавшее стадо.
После ночного холода и тумана день выдался такой, какого не бывало и в начале июля, в самую жаркую пору лета. Лёгкий ветер, потянувший с востока, увёл все дымные тучи, надвигавшиеся от горевших лесов, захватив по пути и серые облака тумана, нависшие на горных вершинах. Было ясно и тепло. Несколько плоское небо полярного горизонта сияло бледной синевой, не запятнанной ни одним облачком. Солнечные лучи весело переливались в светлых струях речки, бежавшей по камням. Эуннэкай шёл и думал. Что, если стадо убежало совсем и не вернётся обратно? Конечно, Эйгелин не обеднеет от этого: у него есть ещё четыре больших стада. Кутувия уйдёт к старшему брату, Тнапу, но ему и Каулькаю придётся плохо, Эйгелин в гневе страшен. Разве не бросился он с ножом на ламута Чемегу, когда дочь Чемеги, купленная для Кэргувии, убежала ночью в свой родной стан, а Чемега не хотел вернуть калыма, как было условлено? И разве Эуннэкай не видел, как он колотил кольцом от аркана прямо по лицу своего третьего сына, Эттувию, когда у того ушёл немногочисленный "отрывок" от стада.
Впрочем, не за себя лично больше всего опасался Эуннэкай. Пусть Эйгелин бьёт его арканом, пусть заколет насмерть, пусть переломает кости, как чаунцы переломали его старшему брату на Весеннем Торгу, пусть ударит его ножом в грудь, как убивают худого пыжика весною на еду! Он заслужил всё это. Да! Пусть они зарежут его и едят его тело, ибо он заставил их потерять так много священных животных, дающих человеку еду и жизнь!
Но мщение Эйгелина не ограничится им одним. Он прогонит со стойбища старую Нэучкат, и она пойдёт пешком скитаться по пустыне, ибо все олени Каулькая ушли вместе со стадом Кутувии и не осталось ни одного, чтобы запрячь широкие сани и увезти хоть шатёр и три столба, основу людского жилища. Пойдёт Нэучкат по пустыне, питаясь кореньями и дикими травами. Ещё захочет ли какой-нибудь житель дать ей пристанище? И Каулькая прогонит Эйгелин, и никто из соседних владельцев не захочет принять к себе пастуха, который так беспечен, что отпустил стадо. Но у Каулькая крепкие ноги. Он уйдёт на другой конец Камня или туда, где Морской Чаун (Малый Чаунский пролив) наполняется солёной водой во время северного ветра, а потом мелеет, открывая дороги на далёкие пастбища острова Айона, как рассказывают старики, впервые пригнавшие стада с северной стороны на Камень. Уйдёт Каулькай, опираясь на своё копьё, и Эуннэкай больше не увидит его. Сердце Эуннэкая болезненно сжалось. В этом нехитром и незлобивом сердце таилось глубокое, полубессознательное обожание высокого и статного брата, который во всех отношениях мог служить идеалом чукотского «хранителя стад». Эуннэкай забыл и про боль в груди, и про больную ногу и быстро шагал по каменистому берегу, опираясь на посох и свободный от обычной ноши чуть ли не в первый раз. Растительность на берегах реки снова принимала более разнообразный характер. Все кусты, травы и цветы полярной и альпийской флоры поднимали ему навстречу головы, немного утомлённые бездождием и зноем, ибо полярные растения также предпочитают сырость и холод. Из неплотных каменных расщелин выглядывали жёлтые, алые и голубые венчики, которым ещё не дано имени на языке человека, похожие то на незабудки, то на колокольчики, то на лилии. Кочап (полярный одуванчик) поднимал свои жёсткие головки, опушённые белым пухом, похожим на клочок заячьего меха. Жёсткие пучки дикого лука, похожие на стрелы, маленькие кустики макарши, напоминавшие связки полуобдёрганных зелёных перьев, выглядывали среди нежных стеблей «гусиной травы». Дальше абдэри (чемерица) протягивала широкие листья, под которыми прячутся злые духи, когда Тенантумгин ударяет копьём в основание неба, производя гром. Белые цветочки попокальгина расстилались по земле. Колючий шиповник смыкался непроходимой чащей прямо поперёк его дороги, путая свои иглистые ветви с корявыми побегами низкорослого ольховника и с тальником, проникающим всюду.
Эуннэкай прямо пробирался сквозь кустарник. Жёлтый Утэль бежал трусцой сзади на своих коротких ногах.
Верховье Андильмы ничем не отличалось от Мурулана. Вдали мелькали белые линии наледи. Можно было подумать, что это та самая, от которой несколько часов тому назад разошлись в разные стороны чукотские пастухи. Выйдя из густой тальничной заросли и вскарабкавшись на уступ, идти по которому было гораздо удобнее, Эуннэкай вдруг остановился и стал внимательно всматриваться вперёд. Два или три смутных силуэта мелькнули на далёком расстояний пред его глазами. То конечно, были олени. Уж не их ли стадо? Эуннэкай побежал вперёд по каменным плитам, поросшим мхом, подпрыгивая на одной ноге, а другою подпираясь, как костылём, и помогая себе своим крепким посохом с широким роговым набалдашником, укреплённым на конце.
Он напоминал большого линялого гуся, убегавшего от собаки и помогающего себе на бегу беспёрым крылом.
С уступа открывался вид на широкое поле, покрытое крупными кочками и поросшее мелким тальником. Местами между кочками блестела вода, назло засухе сохранившаяся в этом месте. Стадо оленей, рассыпавшись между купами мелких кустов, паслось на поле, ощипывая тонкие тальничные веточки и вырывая болотные травы из влажной почвы. Одного беглого взгляда было достаточно для Эуннэкая, чтобы определить, что это олени не те, которые недавно ушли у него. Их было меньше, и наружный вид их был совсем иной. То был крупный олень на высоких ногах, большей частью светло-серого цвета, с развесистыми рогами и длинной вытянутой головой. То было ламутское стадо. Пастухов не было видно. Ламутские олени гораздо смирнее чукотских, и пастух может беспечно засыпать в стаде, не опасаясь, что его животные убегут, воспользовавшись его оплошностью. Эуннэкай отправился к ламутскому стаду, рассчитывая всё-таки узнать что-нибудь от пастухов о своих потерянных оленях.
Стойбище было совсем близко. Он сперва не заметил его из-за леска, у опушки которого оно было раскинуто, но теперь прямо направился к нему.
Пять небольших шатров лепились друг около друга. Они стояли из тонкого кожаного покрова, кое-как укреплённого на переплёте жердей и испещрённого множеством дыр, прожжённых искрами, отлетавшими внутрь от очага. Таковы ли были огромные чукотские шатры, укреплённые на крепких столбах, оболочка которых состояла из твёрдой и косматой оленьей шкуры, где малейшая дыра тщательно починивалась!
У каждого шатра вытягивался длинный ряд аккуратно сшитых и завязанных перемётных сум. Всё ламутское имение было внутри этих сум, нигде не было видно опрокинутых саней, мешков с рухлядью, шкур и тому подобного скарба, который всегда разбросан на чукотском стойбище.
Внешняя обстановка ламутского стойбище носила характер воздушности, какого-то птичьего хозяйства, которое можно каждую данную минуту подхватить чуть ли не под мышку и унести без всяких хлопот, поднять с земли, перекинуть через оленью спину и поскакать куда глаза глядят, оставив на случайном месте ночлега только кучу пепла от остывшего костра.
Старый тощий ламут, в фигуре которого было тоже что-то птичье, сидел у входа в шатёр, внимательно рассматривая кремнёвый замок, вынутый из короткой пищали. Он поднял на Эуннэкая свои маленькие круглые глаза, тоже похожие на глаза птицы, даже как будто имевшие внутреннее веко, но смутные и потускневшие, лишённые выражения и как будто мёртвые, и, не выразив никакого удивления, снова опустил их на свою работу.
– Пришёл? – произнёс он, однако, обычное чукотское приветствие.
– Где мои олени? – обратился к нему Эуннэкай, даже не отвечая на приветствие. Он, по-видимому, полагал, что весь мир знает уже об его потере и не нуждается в объяснении.
Ламут опять поднял голову и посмотрел на него своими тусклыми глазами. Ламутов обвиняли, и не без основания, в присвоении оленей, убежавших из чукотских стад, даже прямо в краже, и старик опасался, что Эуннэкай имеет в виду какой-нибудь случай в этом роде.
– Войди, – сказал он, оставив без ответа невразумительный вопрос, и посторонился от входа.
Эуннэкай поднял занавеску, опушённую полоской медвежьей шкуры и заменявшую дверь, и пролез внутрь шатра. В шатре было чисто и пахло приятным смолистым запахом от свеженарубленных ветвей лиственницы, разостланных по земле. Поверх ветвей были постланы огромные шкуры полевых оленьих быков, убитых ламутскими ружьями. По стенам были опрятно подвязаны узкие кожаные полога с ситцевой занавеской, за которой ламуты обыкновенно проводят ночь. Один полог был спущен, и из него торчали две длинных и тощих ноги в красивых кожаных штиблетах, обтянутых, как трико, и сверкавших на сгибе ноги чрезвычайно затейливой вышивкой из красиво подобранного цветного бисера. Несколько мужчин, молодых и старых, сидели на шкурах в разнообразных позах, не занятые ничем, если не считать коротких трубок, которые они поминутно наполняли из своих узорчатых табачных мешков каким-то белым крошевом, в котором, кроме измельчённого дерева и трубочной накипи, едва ли был какой-нибудь иной элемент. В ламутских вышитых кисетах редко водится настоящий табак.
Вся одежда ламутов сверкала красными и голубыми узорами вышивок, как цветы на каменных склонах, которые недавно миновал Эуннэкай. Ему бросились в глаза кожаные и меховые кафтаны, обшитые чёрным, зелёным и красным сафьяном, перемежающимся, в клетку, дорогим алым сукном, маленький кусочек которого покупается пятью белками, четырёхугольные передники, вышитые бисером, крашеной лосиной шерстью, похожей на цветной шёлк, и ещё бог знает чем, отороченные красивой полосой чёрного пушистого меха, обшитые маленькими пунцовыми хвостиками, сделанными из кусочков шкуры молодого тюленя и окрашенными одним из затейливых способов, известных только ламутским женщинам. На шапках, на огнивных и табачных мешках, на меховых сапогах и кожаных штиблетах, даже на колыбели, в которой лежал грудной младенец, на маленьком седле, выглядывавшем из-за полога и походившем на игрушечное, – везде и всюду сверкали затейливые узоры ламутских украшений. Над небольшим огнём, расположенным среди шатра, висел маленький котелок, в котором варилось несколько кусков мяса. Количество пищи совсем не соответствовало великолепию ламутских костюмов. Если бы разделить её поровну между всеми присутствующими, то каждому могло бы достаться только по самому маленькому кусочку. У котла хлопотала девушка с длинным железным крюком в руках, в таком же красивом наряде, испещрённом всевозможными вышивками, и, кроме того, обвешанная с головы до ног бусами, серебряными и медными бляхами, бубенчиками, железными побрякушками на тонких цепочках и тому подобным добром. Огромный уйер, знак того, что его владетельница ещё не продана никому в жены, из восьми рядов крупных бус, вплетённых в косы, достигал до пят и оканчивался серебряными бляшками. Массивный колокольчик, привязанный к переднику, издавал звон при каждом движении. Несмотря на озабоченность Эуннэкая, он невольно заметил голубые глаза и белокурые волосы ламутской красавицы и необычайную белизну её круглого лица.
"Как русская девка!" – подумал он. Он видел русских только раз в жизни, во время посещения ярмарки, но знал, что у них бывают глаза, похожие на небо, а волосы – на увядшую траву. Широкие скулы этого молодого лица и ужасный монгольский нос с вывороченными ноздрями не остановили на себе внимания Эуннэкая. У него тоже были такие скулы и такой нос.
В центре группы ламутов сидел высокий человек в кожаном кафтане, с безбородым лицом и злыми глазами, похожими на совиные. То был Уляшкан, сын старика, сидевшего у входа, настоящий хозяин шатра. Он поднял голову навстречу вошедшему, и во взгляде его зажглась неприязнь. Он ненавидел чукч от всей души, но, как и все ламуты, боялся этих пришельцев, дерзко занимавших лучшие пастбища исконной ламутской земли.
– Пришёл? – сказал он сурово.
– Эгей! – нетерпеливо ответил Эуннэкай.
– Какие вести? – спросил ламут.
– Где мои олени? – разразился Эуннэкай угнетавшим его вопросом.
Ламут посмотрел на него ещё суровее.
– Садись! – указал он ему рукой на место по другую сторону огня. – Позови Ивандяна! – обратился он к молодому парню с рябым лицом и высоким остроконечным затылком, похожим на опрокинутую грушу, покрытым гладко расчёсанной шапкой "волос, остриженных в скобку.
Ивандян, стройный и тонкий, с правильными чертами и нежным цветом кожи, с высоким прямым лбом, сдавленным на висках и придававшим его лицу задумчивое выражение, вошёл в шатёр и присел на корточках рядом с группой ламутов. Он должен был служить переводчиком. Уляшкан и сам довольно хорошо говорил по-чукотски, но для пущей важности хотел говорить с пришельцем при помощи чужого языка.
– Спроси его, – сказал он, нахмурив брови, – каких оленей он пришёл спрашивать в домах чужого ему племени!
– Я потерял оленей! – сказал Эуннэкай, не дожидаясь перевода. – Где мои олени?
Он понимал немного по-ламутски.
Уляшкан потерял терпение и разразился целой речью, направленной против всех чукч вообще и против настойчивых притязаний пришельца в частности. Он говорил не без красноречия и, видимо, увлекался собственными словами. Ивандян почти с таким же наслаждением переводил его речь на чукотский язык. Ламуты были рады излить своё негодование, накопленное за многие годы, на несчастного парня, который в ответ на словесную обиду не мог прибегнуть к обычному аргументу несловоохотливых чукч, то есть к кулачной расправе или прямо к ножу.








