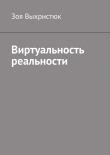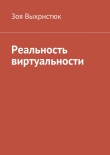Текст книги "Причина жизни"
Автор книги: Владимир Фильчаков
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Мишенька, Мишенька, милый мой… – шепчет Инна, и я вдруг каменею и покрываюсь холодным потом. Мишенька?!
– Инна Андреевна! Инна Андреевна, проснитесь! Проснитесь, Инна Андреевна! – я почти кричу, в отчаянии тряся ее за плечи, она отшатывается, глаза ее полны ужаса.
– Что? Что? Что? – повторяет она, не в силах остановиться.
– Проснитесь, Инна Андреевна! – кричу я ей в лицо, – Это не пьеса, пьеса закончилась, вы в реальной жизни!
– Что вы такое говорите, Миша?
– Я не Миша, Инна Андреевна! Я не Миша! Меня зовут Николай! Николай! Поймите же вы, в самом деле!
– Николай, – произносит она отрешенно, и я еще больше холодею, потому что слышу в ее голосе неподдельное разочарование. – Николай. Да. Я поняла. Оставьте меня.
– Инна Андреевна, дорогая…
– Оставьте, прошу вас! – у нее на глазах слезы. – Уйдите же! И… и… отпустите меня, мне больно.
Тут только я замечаю, что держу ее за плечи мертвой хваткой, разжимаю пальцы. Она отворачивается, тихо говорит:
– Простите меня, Коленька.
– Ну что вы, Инна Андреевна…
– Идите же!
– Инна Андреевна, умоляю вас, сожгите вы эту пьесу от греха!
– Да, да, обязательно. Да идите же!
Я выхожу за дверь, причем замечаю любопытные глаза Наташи, которая как раз проходит мимо. Ну вот. Теперь весь театр узнает, что я вышел из гримерной Инны Андреевны в виде совершенно никаком. Это плохо. Мне-то все равно, а вот Инне Андреевне…
Оглушенный, иду куда глаза глядят. На кого-то натыкаюсь, здороваюсь, пытаюсь отвечать впопад, худо-бедно мне это удается, выскакиваю из театра и бреду по улицам, подставляя ветру пылающее лицо и пытаясь осмыслить происшедшее. Вот так-так! Значит, она любит этого Мишеньку, черт бы его побрал совсем. Вот это удар. Всем ударам удар. Мишенька. Ха! Мишенька. А я – Коленька. Тоже мило, тоже хорошо, но… Не то. Совсем не то. Чертовщина какая-то! Собрать все экземпляры проклятой пьесы и спалить! Но как же! Соберешь ее теперь… Там она меня любит, а здесь? А здесь я для нее ноль без палочки, мне можно запустить руку в волосы, ласкать как котенка или собаку, почесывать за ухом и приручать. И я млею, как дурак, от ее прикосновений, от ее близкого дыхания, от того, что вижу ее, а она… Да она же ни в чем не виновата! Быть может, ей так же трудно открыть тебе свое чувство, как и тебе свое. А там, в пьесе, все происходит вроде бы как по сюжету, там можно свободно плыть по течению и любить Мишеньку, поскольку автор так написал… Может быть, так и есть? Это успокаивает немного, но потом бес снова начинает нашептывать на ухо всякую чушь, заводит меня в обратном направлении, и я опять распаляюсь от обиды и воспаленного самолюбия отвергнутого любовника.
Вот оно, страдание, вот оно, то чувство, без которого не бывает любви. Я страдаю и мучаюсь от ревности к самому себе, терзаю свою душу… И тут в голову приходит такая ужасная мысль, что я останавливаюсь, словно стукаясь о стену, и стою, тупо глядя перед собой, ужасаясь и дрожа. Нет. Нет! Нет!!! Об этом даже и думать нельзя! Это ужасно, это страшно! Это… Мне приходит мысль убить Мишеньку! Забраться на крышу и выполнить его (и мое тоже!) желание прыгнуть вниз. Господи, зачем ты внушил мне эту мысль? Ведь не может же быть так, чтобы тебе эта мысль была угодна! Господи, какое тебе дело до театральных пьес и их героев? Какое тебе дело до презренных лицедеев, играющих роли в этих пьесах?
Я стою, оглушенный и потерянный, постепенно приходя в себя. Зачем ты впутываешь в это дело Господа? Он тут совершенно ни при чем. В твою, в твою голову пришла мысль, ты и отвечай. Вот нечего больше делать Господу, как сидеть и внушать всякие мысли третьеразрядному актеришке! Ты родил эту мысль, это в твоей голове произошли таинственные химические реакции, следствием которых и стала эта ужасная мысль. Убить Мишеньку! Это ж надо! Вершитель судеб нашелся! Тварь дрожащая или право имею? Раскольников недоделанный!
Я встряхиваю головой, чувствую, что она пухнет от всего происшедшего и начинает болеть. Головной боли мне только не хватало! Все что угодно стерплю, кроме головной боли. Ну, разве что еще зубной. Терпеть не могу, когда болит голова! Назад. Надо идти назад и, пока боль не расколола голову пополам, попросить таблетку у Агнессы Павловны, у нее всегда есть с собой анальгин или тройчатка. Я оглядываюсь и с трудом соображаю, куда это меня занесло. Я шел наугад, совершенно не отмечая в сознании пройденный путь. Да, здесь где-то есть аптека, можно зайти и купить таблеток, но в кошельке всего несколько мелких монеток, в общей сложности на рубль, а анальгин, наверное, стоит дороже. Мимо, мимо, в театр, к Агнессе Павловне – лечить голову!
Агнесса Павловна тут же ставит всех с ног на голову, и вот уже кто-то бежит намочить полотенце холодной водой, кто-то бежит за водой кипяченой – запить таблетку, меня укладывают на кушетку в одной из многочисленных театральных комнатушек, обвязывают голову мокрым полотенцем, дают таблетку, поддерживают голову, словом, хлопочут – как могут. Вот за что я и люблю наших женщин – умереть не дадут, хоть бы и с похмелья. Агнесса Павловна распоряжается, и в глазах такая материнская любовь. Я нахожу ее руку, с благодарностью пожимаю.
– Спасибо вам огромное, дорогая Агнесса Павловна, – говорю с чувством.
– Ну что вы, голубчик, какие благодарности. Не стоит.
Она отворачивается.
– Зоенька, вы приглядите за Николашей, пусть он отдохнет.
– Конечно, Агнесса Павловна, – радостно отзывается Зоенька.
Еще бы ей не радоваться, сейчас меня оставят наедине с ней и она начнет приставать ко мне с разговорами. И нас оставляют наедине, и Зоенька по праву остается меня опекать, хотя опекать меня – совершенно излишне, но Агнесса Павловна велели, ослушаться – не моги.
– Коля! – говорит Зоя свистящим шепотом, – Я читала пьесу.
– Ммм? – мычу я. Глаза у меня страдальчески закрыты.
– Да! – выдыхает Зоя. – Я прочитала две сцены. Нет, даже три.
– Ммм?
– Да, только я не понимаю, из-за чего такой сыр-бор разгорелся.
– Ммм?
– Пьеса как пьеса, ничего интересного.
– Вы играли в ней?
– Коля, как я могла в ней играть, когда она еще не утверждена к постановке?!
Я открываю глаза, с интересом смотрю на Зою. У нее немного разочарованное лицо. Красивая девушка, и фигура отличная, и ноги, и все остальное. Просто даже очень красивая девушка, и макияж у нее наложен правильно, зря я говорил, что она кладет его тоннами, не правда это, вовсе не тоннами, словом, всем хорошая девушка, но в пьесе она не играла…
– Коля, я не понимаю, что все так носятся с этой пьесой? Что в ней такого?
– Зоя, да я тоже не понимаю, – вру я. – Помните, как у Твена: «Они раздули этот банальный случай, а простаки подхватили их крик»?
Зоя не помнит, как там у Твена, она вряд ли знает, кто такой Твен вообще.
– Да вы не огорчайтесь, Зоя, – говорю я как можно мягче.
– Опять ты на «вы»… – вот теперь Зоя огорчена. Ей хочется, чтобы я был с ней на «ты».
– Не огорчайся, Зоя, – говорю я, вспоминая, как мы однажды пили с ней на брудершафт («чтобы перейти на „ты“ и стать ближе друг к другу»), и как после этого я поцеловал ее во влажные холодные губы. Зоя проявляет ко мне повышенное внимание, и вовсе не потому, что я для нее – объект для брачных уз, она еще достаточно молода, и у нее еще не все потеряно в плане поимки богатого жениха… Впрочем, я не знаю. Может быть, и поэтому… Чужая душа – потемки, а женская душа – полный мрак.
– Да нет, просто как-то обидно, – задумчиво говорит Зоя, разглядывая какую-то точку на моем лице, – Все крутятся вокруг этой пьесы, делают многозначительные лица, понимают друг друга, перешептываются, а я – как дура!
У нее на глаза навертываются слезы.
– Ну что ты, Зоя, что ты, – я накрываю ее ладонь своей. – Вздор какой.
– И ничего не вздор! Наверное, я не театральное существо, вот. Не из этого мира.
– А из какого же?
– Не из этого. Из мира денег и прагматизма. Я приподнимаюсь на локте.
– Вот как?
– Да, – она достает платочек, промокает глаза. – Наверное, мне не следовало идти в театральное. Сидела бы сейчас в какой-нибудь фирме…
– Ну что ты говоришь, Зоя, ты прекрасная актриса.
– Правда? – слезы у нее мгновенно высыхают, она шмыгает носом и ждет продолжения.
– Конечно, правда, – подтверждаю я. – Как вы играли в «Бесприданнице», тогда вас сама Агнесса Павловна похвалила. Помните?
Зоя радостно кивает. Она, конечно же, помнит это. Я не кривлю душой, Зоя и впрямь неплохая актриса. Ну что поделаешь, если эта новая дьявольская пьеса ее не захватила и не увлекла? Так бывает, и нечего огорчаться.
– Спасибо, Коля.
– Ну что ты, не стоит. Знаешь, я вот поговорил с тобой и мне стало легче, – говорю я, и это снова правда – головная боль почти прошла.
– Мне тоже стало легче, – улыбается Зоя, потом наклоняется и целует меня в плохо выбритую щеку. – Спасибо тебе, Коля, ты замечательный парень.
«Не все так считают», – вспоминая бывшую жену, думаю я.
– Коля! – говорит Зоя с придыханием. – Наташка видела тебя выходящим от Инны…
«Вот, – думаю я с тоской. – Вот и началось самое главное».
– Пустяки, – говорю как можно равнодушнее. – Она попросила открутить какую-то крышку на какой-то баночке, ее заело. Я открутил. Вот и все.
– Слухи пойдут, – Зоя немного разочарована, словно ожидала, что я расскажу ей всю правду.
– Да, жалко, – отвечаю я. – Было бы хоть за что, а то так, по пустякам. Ладно, знаешь, у меня голова совсем прошла. Я пойду. Спасибо тебе за участие.
– Ну что ты, не за что.
Голова у меня и правда прошла. Как говорит в таких случаях Лешка, голова прошла, можно и по пиву. Но Лешки нет, и никто его не видел. Зато мне попадаются Викентьич с Сашкой. Несмотря на мои отнекивания и заверения в полном отсутствии денег, меня увлекают под лестницу и вручают бутылку пива. Сидим, пьем пиво, лениво перекидываемся фразами.
– Ну что, Коля, – спрашивает Викентьич, – как там ваша пьеса?
– Пьеса живет, действует и дает экономический эффект, – острю я. Сашка хмыкает в бутылку, Викентьич улыбается, показывая отсутствующий зуб.
– Это хорошо, – говорит он. – А то боялись все – как бы кто еще не преставился.
– Викентьич, а ты не читал? – интересуется Сашка.
– Нет. Успею еще. Не люблю я это дело.
– Какое? – спрашиваем хором мы с Сашкой.
– А вот это – пьесы читать. Потом смотришь ее на сцене и думаешь – мама родная и то ее не узнает. На бумаге – одно, на сцене – совсем другое. Бедные авторы, мне их всегда жалко. Даже Чехова жалко, Гоголя.
– Это почему?
– А потому. Ты вникай, как сейчас пьесы эти ставят. Вот скажем, «Ревизор». Хлестаков в широченных штанах с накладными карманами, кроссовках «Найк» и ветровке «Адидас». Каково? Или Гамлет в свитере. Ну не может Гамлет петь свой знаменитый монолог под гитару. Я, конечно, мужик уже старый, прямо скажем, консервативный, может, поэтому меня и коробит от таких постановок.
– Меня тоже коробит, – поддерживаю я его.
– А мне по барабану, – равнодушно говорит Сашка. – Я эти пьесы и не смотрю вовсе.
– Да я тоже не смотрю, – соглашается Викентьич. Он медленно достает пачку «Примы», обстоятельно разминает сигарету, со вкусом прикуривает, со вкусом выпускает дым. Мы с Сашкой, некурящие, завороженно смотрим за этим незамысловатым ритуалом. – Где их смотреть-то?
Мы с Сашкой смеемся. Действительно, где их смотреть-то? В нашем театре такое шоу не увидишь, а в Москву на премьеры мы не ездим по той причине, что у нас денег нету – мы все пускаем на пиво. Это Лешка так говорит, и он недалек от истины. Тут и появляется Лешка, легок на помине, деловито занимает у Викентьича денег и бежит в магазин за пивом. Через четверть часа мы пьем холодное пиво уже вчетвером.
Когда я оказываюсь в театре один, меня как магнитом тянет к двери гримерной Анны Макаровны. Это после того, что там произошло. Забыть такое мне не под силу, эта сцена стоит у меня перед глазами и днем, и ночью. Днем я ни на чем не могу сосредоточиться, ночью не могу уснуть, а когда засыпаю, вижу во сне ее, податливую, обмякшую, доступную, вижу, как сползает с нее это воздушно-солнечное платье, обнажая ее плечи, грудь… И ее шепот колоколом бьет у меня в голове:
– Мишенька, Мишенька, милый мой…
Что же произошло т, огда? Почему она так резко отстранилась от меня? Николай… Откуда выплыло это имя? Это персонаж пьесы, которого я играю. При чем здесь он? Насколько я знаю, у него с Инной Андреевной ничего не получается, хотя он и влюблен в нее по уши… А у меня? У меня получается?
Пять раз прохожу мимо двери, пять раз останавливаюсь, рука поднимается и опускается. Никак не решусь постучать… Ну почему, почему я такой застенчивый? Это нынче совсем не в моде. Нет, с любой другой девушкой я вел бы себя совсем не так (я замечаю, что почти назвал Анну девушкой! Ну и что? Если она девушка и есть?!), совсем не так. Что же, у меня не было опыта общения с девушками, что ли? Сколько угодно! Но в тех случаях не было любви, совсем никакой, потому и поцелуи не казались столь обжигающими, желанными, сердце не стучало так, пытаясь выплеснуть кровь наружу.
Но угораздило же меня влюбиться! Если верны слухи, Анне около шестидесяти… Ну и что? Когда ты целовал ее шею и грудь, ты разве видел на этой груди столь преклонный возраст? Упругая молодая кожа, вот чего касались твои губы. И забудь про возраст! Это все вздор! Нашел о чем думать!
В который раз останавливаюсь перед дверью. А, будь что будет! Решительно поднимаю руку и громко стучу, а в уголке сознания вспыхивает мысль: «Что же я делаю?!» Дверь распахивается сразу, словно Анна ждала, положив руку на ручку. Мгновение, и я вижу ее всю – в легком приталенном платье… Какая у нее тонкая талия!
– Здравствуйте, Анна Макаровна, – говорю я глухим голосом. Ее глаза распахиваются, и у меня начинает кружиться голова, – Я пришел поговорить.
Она покорно отступает, пропуская меня, закрывает дверь, и я слышу, как поворачивается ключ в замке.
– Вы… Вы… – она смотрит на меня беспомощно, опустив руки, я медленно приближаюсь к ней, и с каждым сантиметром мне все труднее дышать. – Кто вы?
Да, как все запуталось. Она спрашивает, кто я. А кто она?
– Я – Миша, – говорю с замиранием сердца. – А вы?..
Она качает головой, смотрит на меня. Меня притягивает этот взгляд, я приближаю свои глаза к ее глазам, они становятся большими, поглощают меня всего… Она оказывается в моих объятиях, я снова обнимаю ее, покрываю поцелуями лицо, шею, платье опять легко поддается, сползает… Еще немного, и она оказывается в моих руках обнаженная, что-то лихорадочно шепчет. Что она шепчет?
– Мишенька, проснитесь, Мишенька… Нет… Нет… Не просыпайтесь, умоляю вас! Не просыпайтесь! Ни в коем случае не просыпайтесь! Что вы делаете со мной? Боже, что вы делаете со мной?
– Я люблю вас! – выдыхаю я и внутренне сжимаюсь.
– И я, и я люблю вас! – Она помогает мне раздеться, рвет пуговицы на рубашке, я рывком сбрасываю все, что-то трещит, рвется, но не до этого, не до этого! Мы падаем на кушетку, и я начинаю целовать ее всю. О, какая она вкусная! Она извивается в моих руках, срывающимся голосом шепчет:
– Иди же ко мне! Иди ко мне! И мы оказываемся рядом на кушетке, вместе… И так близко-близко…
Нет, не прав Петька, в жизни имеет значение только любовь! Все остальное – прах, тлен и суета. Она замужем. Она сама мне сказала. Значит, слухи верны. Муж ее очень любит, и бросать его она не хочет. «Об этом страшно даже подумать, Мишенька!» И что же, она будет твоей любовницей? А что тебя не устраивает? Любовь урывками, с оглядкой? Ну что же делать? Раз она не может бросить мужа, значит, будет любить тебя в промежутках между репетициями и спектаклями.
Урвать у этой злобной, гримасничающей жизни маленький кусочек счастья…
Новость – пьесу утвердили к постановке. Назначили дату премьеры. Распределили роли. Мне, как я и ожидал, досталась роль Николая. Сегодня первое чтение в лицах – собираемся на сцене, рассаживаемся и читаем как первоклашки, без чувства, без толка, без расстановки. Но шутка ли – пьеса-то не простая! Пьесу все называют дьявольской, да так оно и есть на самом деле. Я, например, уже не понимаю, как меня зовут – Михаил или Николай. Я не понимаю, как зовут мою любимую – Инна или Анна, не понимаю, с кем я пью пиво – с Петром или Алексеем. И произошло это смешение тогда, когда я начал читать пьесу в одиночку, а что будет, если мы соберемся все вместе и начнем разыгрывать ее в лицах? Вот от этого-то и присутствует всеобщее небывалое возбуждение, этакий мандраж, все бегают, суетятся, совершают ненужные телодвижения, тратят лишнюю энергию.
Даже меня заразили волнением – я тоже бегаю, не могу сидеть на месте и путаюсь сам у себя под ногами. И вот наконец-то чтение началось. Весь состав труппы на сцене, даже те, кто в этом спектакле занят не будет. Действующие лица сидят на стульях, держат в руках текст пьесы, остальные толпятся в кулисах, особо любопытные вертятся тут же, чем вызывают повышенное неудовольствие Павла Сергеевича, который периодически выходит из себя, свирепеет и разгоняет любопытных, но не более чем на десять секунд, поскольку они тут же возвращаются. В конце концов он плюет, машет рукой, и любопытные получают возможность присутствовать на сцене на законных основаниях. Наконец Павел Сергеевич требует тишины и держит речь.
– Товарищи! – презрительная улыбка на устах Агнессы Павловны. Павел Сергеевич замечает эту улыбку. – Господа! – Агнесса Павловна улыбается еще более презрительно. Павел Сергеевич отворачивается от нее, – Наша труппа будет давать новую пьесу. Текст вам всем роздан, и вы ознакомились. Кто не ознакомился, пусть пеняет на себя. Пьеса хорошая, думаю, что каждый имел случай в этом убедиться. Чтобы сразу развеять сомнения, скажу, что лично я эту пьесу читал. Да, читал, и попрошу вас не смотреть на меня так! Очень хорошая пьеса, жизненная. Каждый уже знает, кому какая досталась роль. Попрошу подойти со всей ответственностью. А теперь попрошу начать чтение.
– Павел Сергеевич, – я встаю, делаю полупоклон. – Позвольте мне сыграть Михаила так, как я его вижу. Ну хоть раз, Павел Сергеевич. – Я унижаюсь до заискивающего тона.
Художественный руководитель хмурится, на его широком лице написано неудовольствие. Целую минуту он думает, а я разглядываю его физиономию. Чем старше человек, тем шире его лицо – этот закон я вывел совсем недавно, за кружкой пива совместно с Викентьичем. Закон справедлив для людей старше тридцати пяти и моложе семидесяти. Вот у Павла Сергеевича лицо очень широкое, очень, потому что ему за шестьдесят. Стриженый под полубокс (Бог мой, какая древняя стрижка!), гладко выбритый седеющий шатен, вот что такое Павел Сергеевич.
Труппа затихла, все ждут вердикта. Агнесса Павловна, как всегда, готова меня защищать. Павел Сергеевич обводит взглядом притихшую труппу и говорит очень медленно и протяжно:
– Сейчас время экспериментов. Играйте. Посмотрим, что получится.
Всеобщий вздох восхищения. Лешка хлопает меня по плечу, а Алексей Прокопьевич пожимает руку. Я не верю своим ушам. Краем глаза вижу Инну, сидящую сбоку от меня, она старается не смотреть в мою сторону, но, судя по всему, у нее это плохо получается: ее ресницы то и дело взлетают вверх, и в меня почти физически ударяет ее взгляд, полный нежности. От этого взгляда меня начинает трясти, я перестаю понимать, что именно я делаю здесь, почему я здесь, а не вместе с ней. Боже мой, что делает со мной эта женщина!
Никак не можем начать – выясняем, чья реплика первая, хотя это и так ясно – первая реплика Инны Андреевны. Инна Андреевна очень долго ищет свою реплику в листах, они у нее рассыпаются, окружающие бросаются их поднимать, возникает так нужная всем заминка.
– Так! – Павел Сергеевич громко хлопает в ладоши, Инна Андреевна вздрагивает, снова роняет листы, Агнесса Павловна смеется, Павел Сергеевич морщится. – Что у вас там, Инна Андреевна? Ну вот, всегда вы так… Соберитесь, а то мы никогда не начнем…
Инна Андреевна наконец начинает. Она произносит свои реплики механически, монотонно, без всякого выражения – обычно она так не делает при первом чтении. Ничего особенного не происходит – в действие вступают другие, читают, добавляют свои замечания… А я вдруг замечаю Наташу, свою бывшую жену. Она сидит среди актеров и как-то странно посматривает на меня. Она-то что здесь делает?!
Постепенно действие захватывает – актеры начинают вставать, ходить по сцене, имитировать какие-то движения. Стулья исчезают со сцены, как исчезают и все лишние. Теперь все толпятся в кулисах, а на сцене присутствуют только те, кто должен там присутствовать по ходу пьесы. Я нахожу Наташу, пробираюсь к ней.
– Что ты здесь делаешь? – пытаюсь говорить как можно мягче, но у меня плохо получается.
– Ты мне изменил, – вместо ответа говорит Наташа, и на глаза у нее навертываются слезы.
– Что такое ты говоришь? – я отвожу ее в сторону, а то на нас уже начинают обращать внимание.
– Ты мне изменил, – повторяет Наташа.
– Послушай. Я тебе не муж, чтобы ты…
– Как это не муж?! Как это не муж?!
– Тише, пожалуйста, люди кругом.
– Что ты сказал? Как это ты мне не муж?! – громким шепотом говорит Наташа. – Ты со мною еще не развелся, чтобы так говорить.
«Бедная Наташа, – думаю я. – У нее разум помутился…»
– Я не понимаю… Как это не развелся?
– Боже мой, Миша, ты меня пугаешь!
– Миша?! – это у меня разум помутился! – Ты назвала меня Мишей?
– Ах, перестань! Эти твои актерские штучки, вживание в образ и так далее… Оставь их! Можешь ты поговорить со мной нормально?
– Прямо сейчас? У меня скоро выход. У нас чтение новой пьесы, ты понимаешь?
– Я все понимаю! – упрямо говорит Наташа. – Но мы должны поговорить! Да, прямо сейчас!
– Хорошо, хорошо, давай говорить. Чего ты хочешь от меня?
– Ты мне изменил.
– Это я уже слышал. Что дальше?
– Дальше уже некуда! – кричит Наташа, и на нас начинают шикать. – Дальше некуда! – говорит она уже тише, и в глазах у нее снова появляются слезы. – Ты не хочешь оправдаться?
– Зачем? Зачем мне оправдываться? И в чем?! Кто тебе сказал, что я изменил?
– Разве об этом обязательно должен кто-то сказать? Не хватало еще, чтобы мне об этом сказали! Я это почувствовала.
– Слушай, Наташа…
– Вот! Вот! Ты уже называешь меня ее именем! Ее зовут Наташа?!
Я вдруг понимаю, что передо мной стоит не бывшая жена, а просто жена, и зовут ее вовсе не Наташа, а Надя, и это открытие повергает меня в ужас.
– Прости, прости, – бормочу я в смятении. – Это все проклятая роль! Ну никак не могу из нее выйти! Наденька, прошу тебя, перестань. Эта твоя мнительность сведет меня с ума. Опять ты вообразила бог весть что.
– Меня не проведешь! – Она пристально разглядывает меня, пытаясь на лице увидеть доказательства того, что виной всему только ее мнительность. – Я чувствую, – говорит она потерянно, очевидно, не обнаружив этих доказательств.
– Вот как. Ты чувствуешь. Ты что – экстрасенс? Ты ясновидящая? Она чувствует, видите ли! – Я раздражаюсь все больше оттого, что она говорит правду – я ведь действительно ей изменил.
А я вот чувствую, что у меня скоро премьера, мне нужно учить роль, вживаться в образ, но мне не дадут! Нет, не дадут! Меня будут допекать беспочвенными подозрениями на том основании, что, видите ли, что-то там чувствуют! Мало того, что меня мучают дома, так приходят еще и в театр и допекают здесь! Мыслимое ли дело!
Краем глаза замечаю, что каким-то непостижимым образом мы оказались на сцене, а в кулисах сверкают восхищенные глаза…
– Послушай, Ната… Надя, – я смущаюсь от этих взглядов. – Это все не более чем твои страхи, раздутые богатым воображением. Поверь мне, я тебе не изменяю.
Надя всхлипывает, достает платочек, прикладывает к глазам.
– Ты меня любишь?
– Люблю, конечно, люблю!
– Скажи не так!
– Как не так?
– Без раздражения. Ну пожалуйста!
– Я тебя люблю, – говорю я, пытаясь подавить раздражение. – А теперь иди, не мешай мне.
– Поцелуй меня, – просит она.
Я целую ее в губы, мысленно воздев очи горе.
– Ну иди же!
Она уходит в одну сторону, я иду в другую, и тут на меня сваливаются аплодисменты. Аплодируют все. В кулисах я попадаю в объятия, меня тискают, жмут руку, похлопывают по плечам, женщины оставляют у меня на щеках следы помады.
– Николай, это было гениально! – восклицает Агнесса Павловна. – Вы настоящий актер. Браво! Браво!
А Павел Сергеевич пожимает мне руку и говорит:
– Не ожидал, не ожидал. Только почему вы решили, что я заставлю вас играть совсем по-другому? Именно так я и видел вашего героя!
Я в растерянности принимаю поздравления и вижу, как в противоположной кулисе так же поздравляют Наташу… Нашу Наташу, а не мою бывшую жену. Вот как, оказывается, сходят с ума… Проклятая пьеса! Ну что же, мы славно отыграли свой эпизод, пусть другие попробуют сыграть лучше.
Я вдруг чувствую слабость в коленках, нахожу стул, усаживаюсь, краем уха прислушиваюсь к тому, что происходит на сцене. А там Инна Андреевна объясняется со своим мужем. Мужа играет Григорий Самуилович. Ну еще бы, Алексей Прокопьевич ни за что не согласился бы на такую роль – роль обманутого мужа, он предпочел вообще не участвовать в спектакле, и Григорию Самуиловичу ничего не оставалось делать. В принципе, и он мог отказаться, но не устоял перед обаянием Агнессы Павловны, которая сказала ему своим неподражаемым голосом: «Гриша, голубчик, ну что вы? Вам эта роль очень к лицу. Не подумайте плохого, голубчик, это же только роль!» И он стал играть.
Я подхожу поближе посмотреть, как играет Инна Андреевна. Она играет великолепно, и если бы не измятые и потрепанные листки пьесы в руках, в которые она, впрочем, и не заглядывает, можно подумать, что она на самом деле объясняется с мужем. Она краснеет, смущается, мнет листки, негодует, возмущается… Она просто прекрасна! Я смотрю на нее, открыв рот. Вот именно такую женщину я и мог полюбить! Настоящая, живая женщина, а не такая, которая уже при рождении понимает, что никакой любви нет на свете, есть только секс, инстинкт продолжения рода и желание жить богато. Инна Андреевна способна краснеть и долго корить себя за неблаговидный поступок, она живет, а не существует от постели к постели…
Она не замечает моего взгляда, она играет свою роль, и я понимаю, что никакая это не роль, точно так же, как было у меня в моей сцене… И я счастлив от того, что меня любит ТАКАЯ женщина. Нет, нет, только любовь имеет значение. Счастье – в любви. Даже не тогда, когда тебя любят, а когда ТЫ любишь. Одно это уже счастье, а если предмет твоей любви еще и любит тебя в ответ, это вообще нечто такое…
Чем плох театр? Тем, что приходится говорить громко, так, чтобы тебя слышали зрители из последних рядов, и не только слышали, но и понимали, ЧТО ты говоришь. Ты не можешь бормотать себе под нос, шептать и говорить невнятно – каждое слово должно быть произнесено громко и отчетливо. В жизни никто так не разговаривает. Поэтому театр плох своей театральностью: когда надо шептать – мы говорим, когда надо говорить – мы кричим, ну, а уж когда надо кричать, мы лезем из кожи вон, и брызги слюны долетают до пятого ряда.
Чем хорош театр? Тем, что он объединяет совершенно невозможных, невероятных людей, немного сумасшедших, не от мира сего. Тем, что твое сумасшествие никому не бросается в глаза – считается, что ты вжился в роль, перевоплотился и уже не играешь, а живешь на сцене. Тем, что тебя тянет и тянет приходить сюда, в здание театра, даже тогда, когда твое присутствие здесь совсем не обязательно. Тем, что вся твоя жизнь – здесь, а не там, в убогой квартирке в восемнадцать квадратных метров, снятой за тысячу рублей в месяц.
Ничего страшного не произошло, я имею в виду чтение пьесы всем составом. Никто не свихнулся, не преставился и не прыгнул с крыши (подозреваю, что этот прыжок оставлен мне, но тут уж мы поборемся!). Кажется, жизнь вошла в колею, тем более, что Павел Сергеевич прочитал эту пресловутую пьесу на самом деле и не нашел в ней ничего сверхъестественного. Другое дело я и Инна. Я люблю ее и там, и здесь, и от этой удвоенной любви мне так хорошо, что я на многое не обращаю внимания. Я не обращаю внимания на то, что Инна и не думает уйти от мужа, на то, что нам приходится прятаться и скрываться (а зачем, собственно, если и так все про нас давно уже знают?), на то, что любовь украдкой унизительна и аморальна, на то, что я для Инны не более чем очередной любовник, не знаю, какой по счету. В слове «любовник» мне чудится что-то унизительное, хотя многие склонны видеть в нем совсем другой смысл и даже потешаются тайно или явно над обманутыми мужьями. Но заговаривать об этом с Инной я не хочу, у меня просто нет на это времени, да я и знаю, что у нее тут же начнется мигрень и никакого разговора не получится.
После объяснения с мужем Инна избегает меня, во всяком случае, мне так кажется. По отношению ко мне муж не предпринял никаких действий, хотя я и опасался встречи с ним. Не потому, что боялся его, а потому, что боялся объяснений. Оправданием моего поступка может служить только любовь, и для меня этого достаточно, но для мужа, конечно, это не аргумент, хотя я никак не могу понять – почему.
А моя Надя? Она пришла в театр и устроила мне сцену на виду у всех – мыслимое ли дело! И ведь мы на самом деле с ней не разведены… Или разведены? Наверное, нет, развод я бы запомнил. Но мы давно не живем вместе, какое она имеет право ревновать меня? Значит, я не свободный человек? Она спрашивала – люблю ли я ее, и я был вынужден солгать. Дурдом… Вся жизнь – дурдом, как сказал Петька.
Я слоняюсь по театру, стараясь не подходить к гримерной Анны Макаровны, но меня так и тянет туда, и чем дольше я хожу, тем сильнее эта безумная тяга. Хоть бы Петька появился, что ли! А что я жду? Вон Викентьич с Сашкой, сейчас схожу в магазин, деньги у меня есть, наберу пива на троих и все. Так я и делаю, и когда возвращаюсь в театр, в дверях сталкиваюсь с Анной. Сердце стучит так, как будто это его последний стук на долгую оставшуюся жизнь.
– Мишенька? – Анна останавливается, беспомощно смотрит на меня. – А я ухожу.
– Вот как? – глухо говорю я. – Совсем?
– Совсем, – она смущается, порывается что-то сказать, но не говорит.
– Анна Макаровна, – я растерянно заглядываю ей в глаза. – Как же так – совсем? И я сегодня вас больше не увижу?
– Да, Мишенька, совсем. Мы стоим перед дверью и лепечем, как подростки на первом свидании.
– Ну что ж, совсем так совсем. До завтра, Анна Макаровна.
– Вы обиделись на меня, Мишенька?
– Что вы, как можно? – бормочу я. – Ничуть не обиделся. – А самого разбирает такая досада, что хоть плачь. Вот уйдет она сейчас, я возьму и напьюсь. Пакет с бутылками звякает. – Анна Макаровна, а хотите пива?!
– Пива?!
– Да. Вы пьете пиво?