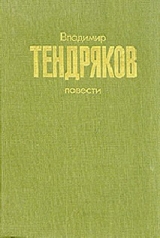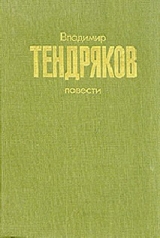сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
— Для всех! Сво-боды?! Очнись, толпа! Подлецу свобода — подличай! Убийце свобода — убивай! Для всех!… Или вы, свободомыслящие олухи, считаете, что человечество сплошь состоит из безобидных овечек?
В пренебрежении к слушателям и состояла обычно ораторская сила Игоря Проухова. Расправив плечи, с темным подбородком и светлым челом, он принялся сокрушать:
— Знаете ли вы, невежи, что даже мыши, убогие создания, собираясь в кучу, устанавливают порядок: одни подчиняют, другие подчиняются? И мыши, и обезьяны-братья, и мы, человеки! Се ля ви! В жизни ты должен или подчинять, или подчиняться! Или — или! Середины нет и быть не может!
— Ты, конечно, хочешь подчинять? — спросил Генка.
Повторялось то, что тысячу раз происходило в стенах школы, — Игорь Проухов вещал, Генка Голиков выступал против. У философа из десятого «А» был только один постоянный оппонент.
— Кон-нечно, — с величавой снисходительностью согласился Игорь. — Подчи-нять.
— Тогда что ж ты возишься с кисточками, Кай Юлий Цезарь? Брось их, вооружись чем потяжелее. Чтоб видели и боялись — можешь проломить голову.
— Ха! Слышишь, народ? — Нос Игоря порозовел от удовольствия. — Все ли здесь такие простаки, что считают — кисть художника легка, кистень тяжелее, а еще тяжелее пушка, танк, эскадрилья бомбардировщиков, начиненных водородными бомбами? Заблуждение обывателя!
— Виват Цезарю с палитрой вместо щита!
— Да, да, дорогие обыватели, вам угрожает Цезарь с палитрой. Он завоюет вас… Нет, не пугайтесь, он, этот Цезарь, не станет пробивать ваши качественные черепа и в клочья вас рвать атомными бомбами тоже не станет. Забытый вами, презираемый вами до поры до времени, он где-нибудь на мансарде будет мазать кисточкой по холсту. И сквозь ваши монолитные черепа проникнет созданная им многокрасочная отрава: вы станете радоваться тому, что радует нового Цезаря, ненавидеть то, что он ненавидит, послушно любить, послушно негодовать, окажетесь в полной его власти…
— А ежели этого не случится? Ежели черепа обывателей окажутся непроницаемыми? Или такого быть не может?
— Может, — согласился Игорь спокойно и важно.
— И что тогда?
— Тогда произойдет в мире маленькое событие, совсем пустячное, — сдохнет под забором некий Игорь Проухов, не сумевший стать великим Цезарем.
— Вот это я как-то себе отчетливей представляю. Игорь вознес над головой стакан.
— Я, бывший раб школы номер три, пью сейчас за власть над другими! Желаю вам всем властвовать кто как сможет!
Священнодейственно навесив над стаканом нос, Игорь сделал опустошающий глоток, царственным жестом не глядя отвел стакан к Сократу, уже держащему наготове бутылку, дождался, пока тот дольет, протянул Генке:
— Старик, ты оттолкнешь протянутую руку?
Генка принял стакан и задумался. Невнятная улыбка блуждала у него на лице. Наконец он тряхнул волосами:
— За власть?… Пусть так! Но извини, Цезарь, я выпью не с тобой.
И он шагнул к Натке.
— Пью за власть! Да! За власть над собой!…— Генка выпил до дна, с минуту глядел повлажневшими глазами на невозмутимую Натку. — Сократ! Наполни!
Но Сократ скупенько плеснул до половины — девчонке хватит, бутылка-то не бездонная.
— Ну, Натка…— попросил Генка. — Ну!
Натка поднялась, распрямилась, переняла стакан — в движениях картинная лень. Лицо ее было в тени, освещены только лоб да яркие брови. И рука — оголенная до плеча, бескостно-белая, струящаяся, лишь бледные пальцы, обнимающие черный сгусток вина в стакане, в беспокойном изломе.
— Натка, ну!
Игорь Проухов наблюдал со стороны с едва сочащейся снисходительно-мудрой улыбкой.
Натка пошевелилась, со строгой пеленой в потемневших глазах, подняла стакан:
— Когда-нибудь, Гена, за власть… Не за свою. За чью-то… над собой… Сейчас рано. Сейчас…— Вскинутый стакан в белой струящейся руке. — За свободу!
И запрокинула голову, показав на мгновение ослепительно колыхнувшееся горло.
Генка сразу поскучнел, а в мудрой улыбке Игоря появился новый оттеночек — столь же снисходительное сочувствие.
А Сократ уже хлопотал возле Веры.
— Мне — за власть? — У Веры блаженно раздвинуты румяные щеки.
— Не стесняйся, мать, не стесняйся.
— Надо мной всегда кто-нибудь будет властвовать.
— За них, мать, за них хлебай. Приходится.
— За них! Пусть их власть не будет уж очень тяжелой.
— Виват, мать, виват! Честный загибон… Юлька, твоя теперь очередь… Эй, Цезарь с палитрой, слушай, как тебе Юлька перо вставит!
Юлечка приняла стакан, долго разглядывала черное вино.
— Власть…— произнесла она, — Игорь, ты сказал, даже мыши подчиняют друг друга. И ты собираешься перенять — живи по-мышиному, сильный давит слабого?… Не хочу!
Юлечка оторвала взгляд от стакана, уставилась на Генку — беспокойно-тревожные глаза пойманной птицы, сжатые губы. Генка невольно поежился, а Юлечка двинулась к нему.
Ей пришлось обогнуть Натку, неподвижно-величественную, как богиня в музее.
— Гена…— подойдя вплотную, запрокинув лицо, дрогнувшим голосом. — Вот я сегодня перед всеми… призналась: не знаю, куда идти. Но ведь и ты еще не знаешь. Давай выберем одну дорогу. А? Я буду хорошим попутчиком, Гена, верным…
Генка растерянно молчал.
— Пойдем вместе, возьмем Москву, любой институт. А?…
Генка стоял, пряча глаза, с порозовевшими скулами. Даже Игорь озадаченно замер. Сократ с бутылкой сучил ногами. Для всех откровение Юлечки — неожиданность.
А с бледного лица — тревожно блестящие, требовательно ждущие глаза.
Генка смотрел под ноги, молчал. И Натка возвышалась в стороне изваянием.
— Ладно, Гена…— Замороженный голос. — Я знала — ты не ответишь. Сказала это, чтоб себя проверить: могу при всех, не сробею, не дрогну…
И вызывающе решительное личико Юлечки сморщилось, она отвернулась. В неловкой судороге тонкая рука, обхватившая стакан.
— Почему?! — сдавленный выкрик в сторону. — Почему я все эти годы — одна, одна, одна?! Почему вы меня сторонились? Боялись, что плохое сделаю? Не нравилась? Или просто не нужна?… Но поч-чему?!
Вера Жерих надвинулась на Юлечку всем своим просторным, мягким телом, обняла:
— Юлеч-ка!… Тебя кто-то за ручку… Да зачем? Ты сама других поведешь.
Игорь со стороны обронил:
— А ты, оказывается, отчаянная, Юлька. Вот не знали.
Сократ засуетился:
— Слезы, фратеры! Сегодня! Я вам спою веселое!
— Не надо. Уже все…
Юлечка отстранила Веру и улыбнулась, и эта улыбка, жалкая, дрожащая, осветила ее серьезное лицо.
— Можно, я выпью за тебя, Натка? За твое счастье, которого у меня нет. К тебе тянутся все и всегда будут тянуться… Завидую. Не скрываю. Потому и пью…
Натка не пошевелилась. Натка не возразила. Сократ ударил по струнам.
5
Зоя Владимировна устала считать, сколько раз в своей жизни она провожала выпускников из школы, и почти всегда эти праздничные выпускные вечера оставляли в ней столь тягостный осадок, что казалось — все кончено, дальше нет смысла жить.
Почтительно удивлялись: она учит уже сорок лет! На самом деле еще больше, почти полвека, хотя ей самой было не столь уж и много от роду — шестьдесят пять.
Ее родная деревня, холщовая и лапотная, имела до революции только двух грамотеев — бывшего волостного писаря, который требовал от мужиков, чтоб его называли барином, и спившегося дьячка-расстригу. Даже местный богатей Панкрат Кузовлев, крупно торговавший льном и кожами, не умел расписываться в казенных бумагах.
В начале двадцатых годов в деревню прислали учителя, бойкого парнишку с покалеченной на польском фронте рукой. Он принялся не только за детишек, но и за взрослых, вошло в уличный быт повое слово «ликбез».
Детишки быстрей баб и мужиков осваивали букварь, сами становились учителями. Зойка, шестнадцатилетняя дочь Володьки Ржавого, деревенского коновала и лихого балалаечника, натаскивала потеющих от натуги бородачей читать по слогам: «Мы не рабы. Рабы не мы».
Через два года сельсовет направил ее в учительское училище, после него она попала в лесной починок, еще более глухой, чем родная деревня. Там ее ждал пустой, оставшийся после сосланного кулака пятистенок — его надлежало сделать школой.
Сначала эта школа состояла из одной первой группы, в ней рядом с малышами сидели починковские парни и девки, пытавшиеся женихаться на уроках. Потом стало четыре группы: все в одной комнате, перед одной доской, и учительница на всех одна — Зоя Владимировна.
После годичных курсов усовершенствования ее перебросили в рабочий поселок. Он на ее глазах стал городом. Сносились старые дома и старые школы, строились новые, светлые и просторные, понаехали педагоги с институтским образованием. А Зоя Владимировна, как прежде, билась с учениками, больше всего сил отдавала самым ленивым, самым неподатливым, не любящим ни школу, ни учителей-мучителей.
Педагоги с институтским образованием поглядывали на нее свысока, но она забивала их своей добросовестностью — до самоотречения. Она не вышла замуж, не обзавелась семьей: до того ли, когда все время, все силы — ученикам, только им! Неподатливым — в первую очередь.
И каждый раз, когда эти ученики оканчивали школу, приходили на прощальный вечер, нарядные, казалось выросшие со времени последнего экзамена, Зоя Владимировна оставалась в одиночестве. Ученики толпились вокруг других учителей, с другими обнимались, целовались, пили, спорили, и никому в голову не приходило подойти к ней, обняться, поговорить по душам, кинуть хотя бы торопливое: «Прощайте!»
Все силы, все время, из года в год, из десятилетия в десятилетие, забывая о себе, — только для учеников! А ученики забывают о ней, не успев переступить порог школы. Так ради чего она бьется как рыба об лед? Ради чего она жертвовала своим?… Не хочется жить.
Но она жила, не уходила на пенсию, потому что без школы не могла. Без школы совсем пусто.
Неуважение учеников к себе она еще как-то переносила — попривыкла за много лет. Но вот неуважение к школе… Выступление Юлии Студёнцевой казалось Зое Владимировне чудовищным. Если б такое отмочил кто-то другой, можно бы не огорчаться, но Студёнцева! На руках носили, славили хором и поодиночке, умилялись — предательство, иначе и не назовешь. А Ольга Олеговна выгораживает, видит какие-то особые причины: «Повод для тревоги…»
Зоя Владимировна оборвала молчание.
— Уж не считаете ли вы, Ольга Олеговна, — с нажимом, с приглушенным недоброжелатель-ством, — что тут виноваты мы, а не сама Студёнцева?
И Ольга Олеговна искренне удивилась:
— Да она-то в чем виновата? Только в том, что сказала что думает?
— Я вижу тут только одно — плевок в сторону школы.
— А я — страх и смятение: ничем не увлечена, не знает, куда податься, что выбрать в жизни, к чему приспособить себя.
— Вольно же ей.
— Ей?… Только одна Студёнцева такая? Другие все целенаправленные натуры? Знает, по какой дороге устремиться, Вера Жерих, знает Быстрова?… Да мы можем назвать из всего выпуска, пожалуй, только одного увлеченного человека — Игоря Проухова. Но его увлечение возникло помимо наших усилий, даже вопреки им.
— Лично я никакой своей вины тут не вижу! — отчеканила Зоя Владимировна.
— Вы никогда не требовали от учеников — заучивай то-то и то-то, не считаясь с тем, нравится или не нравится? Вы не заставляли — уделяй не нравящемуся предмету больше сил и времени?
— Да ребятам нравится собак гонять на улице, в подворотнях торчать, в лучшем случае читать братьев Стругацких, а не Толстого и Белинского. Вы хотели, чтоб я потакала невежеству, дорогая Ольга Олеговна?
Ольга Олеговна разглядывала темными загадочными глазами лицо Зои Владимировны, неизменно сохранявшее покойный цвет увядшей купальницы.
— Что же…— проговорила Ольга Олеговна. — Придется объясниться начистоту.
— А вы, значит, что-то скрывали от меня? Вот как!
— Да, скрывала. Я давно наблюдаю за вами и пришла к выводу — своим преподаванием вы, Зоя Владимировна, в конечном счете плодите невежд.
— К-как?!
— Очень извиняюсь, но это так.
— Думайте, что говорите, Ольга Олеговна!
— Попробую сейчас доказать. — Ольга Олеговна повернулась к директору: — Иван Игнатьевич, вы не против, если я ради эксперимента устрою вам коротенький экзамен?
Директор устало опустился на стул: он понял, что короткого разговора уже не получится — придется терпеть долгий спор, один из тех, которые вызывают взаимное раздражение, ломают устоявшиеся отношения и почти никогда не дают ощутимых результатов.
— Не припомните ли вы, Иван Игнатьевич, в каком году родился Николай Васильевич Гоголь?
— М-м… Умер в пятьдесят втором, а родился, представьте, не помню.
— А в каком году Лев Толстой закончил свой капитальный роман «Война и мир»?
— Право, не скажу точно. Если прикинуть приблизительно…
— Нет, мне сейчас нужны точные ответы. А может, вы процитируете наизусть знаменитое место из статьи Добролюбова, где говорится, что Катерина — луч света в темном царстве?
— Да боже упаси, — вяло отмахнулся директор.
И Ольга Олеговна с прежней решительностью снова обратилась к Зое Владимировне:
— Мы с Иваном Игнатьевичем забыли дату рождения Гоголя, почему она должна остаться в памяти наших учеников? А ведь из таких сведений на восемьдесят, если не на все девяносто девять, процентов состоят те знания, которые вы, Зоя Владимировна, усиленно вбиваете. Вы и многие из нас… Эти сведения не каждый день нужны в жизни, а порой и совсем не нужны, потому и забываются. Девяносто девять процентов из того, что вы преподаете! Не кажется ли вам, что это гарантия будущего невежества?
У Зои Владимировны на увядшем лице проступили мученические морщинки.
— Я напрасно преподаю…— выдавила она с горловой спазмой.
— До недавнего времени и я так думала, — не спуская недобро тлеющих глаз, ответила Ольга Олеговна.
— Странно… Теперь не думаете?
— Теперь пришла к убеждению, что такое преподавание не проходит безнаказанно. И не только невежество его последствия.
Зоя Владимировна, напряженно вытянувшись, встречала прямой взгляд Ольги Олеговны — ждала.
— Преподносим неустойчивое, испаряющееся, причем в самой категорической, почти насильственной форме — знай во что бы то ни стало, отдай все время, все силы, забудь о своих интересах. Забудь то, на что ты больше всего способен. Получается: мы плодим невнимательных к себе людей. Ну, а если человек невнимателен к себе, то вряд ли он будет внимателен к другим. Сведения, которыми мы пичкаем школьника, улетучиваются, а тупая невнимательность остается. Вас это не страшит, Зоя Владимировна? Мне, признаться, не по себе.
У Зои Владимировны побелели тонкие губы.
— И на меня…— тихо, с внутренней дрожью. — Почему-то на одну меня — обличающим перстом, я больше всех виновата! А может, вы… вы все-таки виновнее? Вы же завуч, и много лет. Кому, как не вам, и карты в руки?
— Вы прекрасно знаете, какими картами мне приходится играть. У вас, Зоя Владимировна, козыри в руках покрупнее. Любые мои замечания вы с легкостью отбивали: мол, полностью придерживаюсь утвержденных учебных программ. С одной стороны — устаревшие программы, с другой — косные привычки самих преподавателей, а посередине — школьный завуч. Более беспомощной фигуры в нашей педагогике нет.
— Вы даже против программ! Вы хотите перевернуть обучение в стране? Не много ли вы хотите?
— Я просто хочу, чтоб учителя, с которыми я работаю, открыли глаза на опасность… Грозную опасность, Зоя Владимировна! Я ее и раньше чувствовала, но сейчас она для меня открылась с особенной отчетливостью. Так ли уж редко мы выпускаем людей ничем не интересующихся, ничем не увлеченных? Но должны же они занять чем-то себя, свой досуг. Хорошо, если станут убивать время безобидным забиванием козла, ну а если водкой… Мало ли мы слышим о пьяных подростках! Вспомните нашумевшее два года назад судебное дело. Три подгулявших сопляка семнадцати-восемнадцати лет среди бела дня на автобусной остановке пырнули ножом женщину. Так просто, за косой взгляд, за недовольное слово — трое детей остались без матери.
Директор досадливо крякнул:
— Ну, знаете ли!
— Они же не с нашей улицы, из чужой школы. Вы это хотите сказать, Иван Игнатьевич?
— И на солнце бывают пятна. Не связывайте патологическое уродство с нашим обучением.
— А вы забыли, что в прошлом году уже нашего ученика Сергея Петухова милиция задержала в пьяном виде. Он не убивал, да! По к водке-то потянулся! Почему? Семья испортила? Нет, семья хорошая: мать — врач, отец — инженер, оба уважаемые люди, в рот не берут спиртного. Товари-щи дурные сбили с пути? Но эти товарищи, как оказалось, тоже бывшие ученики, их-то кто испортил? Был пьян, попал в милицию. Можно ли поручиться за пьяного недоросля, что он не совершит преступления?