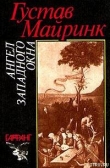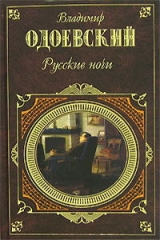
Текст книги "Русские ночи"
Автор книги: Владимир Одоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
В искусстве давно уже истребилось его значение; оно уже не переносится в тот чудесный мир, в котором, бывало, отдыхал человек от грусти здешнего мира; поэт потерял свою силу; он потерял веру в самого себя – и люди уже не верят ему; он сам издевается над своим вдохновением – и лишь этой насмешкою вымаливает внимание толпы... искусство погибает.
Религиозное чувство на Западе? – оно было бы давно уже забыто, если б его внешний язык еще не остался для украшения, как готическая архитектура, или иероглифы на мебелях, или для корыстных видов людей, которые пользуются этим языком, как новизною. Западный храм – политическая арена; его религиозное чувство – условный знак мелких партий. Религиозное чувство погибает!
Погибают три главные деятели общественной жизни! Осмелимся же выговорить слово, которое, может быть, теперь многим покажется странным и через несколько времени – слишком простым: Запад гибнет!
Так! он гибнет! Пока он сбирает свои мелочные сокровища, пока предается своему отчаянию – время бежит, а у времени есть собственная жизнь, отличная от жизни народов; оно бежит, скоро обгонит старую, одряхлевшую Европу – и, может быть, покроет ее теми же слоями недвижного пепла, которыми покрыты огромные здания народов древней Америки – народов без имени.
Неужли в самом деле такая судьба ожидает это гордое средоточие десяти веков просвещения? Неужли как дым разлетятся изумительные произведения древней науки и древнего искусства? Неужли заглохнут, не распустившись, живые растения, посеянные гениями-просветителями?
Иногда, в счастливые мгновения, кажется, само провидение возбуждает в человеке уснувшее чувство веры и любви к науке и искусству; иногда долго, вдалеке от бурь мира, хранит оно народ, долженствующий доказать снова путь, с которого совратилось человечество, и занять первое место между народами. Но один новый, один невинный народ достоин сего великого подвига; в нем одном, или посредством его, еще возможно зарождение нового света, обнимающего все сферы ума и общественной жизни. {[** Внимательный читатель заметит, что в этих строках вся теория славянофилизма, появившегося во 2-й половине текущего столетия.]}
Когда азийские царства, которых имена, как грозные привидения, являются нам на страницах истории, в кровавой борьбе спорили о первенстве мира, свет истины тихо возрастал в пустыне евреев; когда науки и искусство Египта погасли в разврате, – Греция обновила их силу в своих объятиях; когда дух отчаяния заразил все общественные стихии гордого Рима, – христиане, этот народ народов, спасли человечество от погибели; когда в конце средних веков ослабевшая деятельность духа готова была поглотить сама себя, – новые части света дали новую пищу и новые силы ослабевшему старцу и продлили его искусственную жизнь.
О, верьте! будет призванный из народа юного, свежего, непричастного преступлениям старого мира! Будет достойный взлелеять в душе своей высокую тайну и восставить светильник на свешницу, и путники изумятся, каким образом разрешение задачи было так близко, так ясно – и так долго скрывалось от глаз человека.
Где же ныне шестая часть света, определенная провидением на великий подвиг? Где ныне народ, хранящий в себе тайну спасения мира? Где сей призванный... где он? Куда увлекло нас высокое чувство народной гордости? Не этим ли языком говорили все народы, вступавшие на поприще жизни? Они также мечтали видеть в себе разрешение всех тайн человека, зародыш и залог блаженства вселенной!
Что, если?.. страшная мысль! но позабудем о ней! полководец, готовясь на смертный бой, не говорит о погибели! он вспоминает предания мудрых, заблуждения неудачных.
Много царств улеглось на широкой груди орла русского! В годину страха и смерти один русский меч рассек узел, связывавший трепетную Европу, – и блеск русского меча доныне грозно светится посреди мрачного хаоса старого мира... Все явления природы суть символы одно другому: Европа назвала русского избавителем! в этом имени таится другое, еще высшее звание, которого могущество должно проникнуть все сферы общественной жизни: не одно тело должны спасти мы – но и душу Европы!
Мы поставлены на рубеже двух миров: протекшего и будущего; мы новы и свежи; мы непричастны преступлениям старой Европы; пред нами разыгрывается ее странная, таинственная драма, которой разгадка, может быть, таится в глубине русского духа; мы – только свидетели; мы равнодушны, ибо уже привыкли к этому странному зрелищу; мы беспристрастны, ибо часто можем предугадать развязку, ибо часто узнаем пародию вместе с трагедиею... Нет, недаром провидение водит нас на эти сатурналии, как некогда спартанцы водили своих юношей смотреть на опьянелых варваров!
Велико наше звание и труден подвиг! Все должны оживить мы! Наш дух вписать в историю ума человеческого, как имя наше вписано на скрижалях победы. Другая, высшая победа – победа науки, искусства и веры – ожидает нас на развалинах дряхлой Европы. Увы! может быть, не нашему поколению принадлежит это великое дело! Мы еще слишком близки к зрелищу, которое было пред нашими глазами!.. Мы еще надеялись, мы еще ожидали прекрасного от Европы! На нашей одежде еще остались знаки праха, ею возмущенного. Мы еще разделяем ее страдания! Мы еще не уединились в свою самобытность. Мы струна не настроенная – мы еще не поняли того звука, который мы должны занимать во всеобщей гармонии. {[* Теперь с этим, может быть, другие славянофилы не согласятся, – но тогда сомнение еще дозволялось.]} Все эти страдания – удел века или удел человечества? мы еще не знаем! Несчастные, мы даже готовы верить, что таков удел человечества! Страшная, ледяная мысль! она преследует нас, она проникла в кровь нашу, она растет, она мужает вместе с нами! мы заражены! один гроб исцелит нашу заразу.
Тебя, новое поколение, тебя ждет новое солнце, тебя! – а ты не поймешь наших страданий! ты не поймешь нашего века противоречий! ты не поймешь этого столпотворения, в котором смешались все понятия и каждое слово получило противоположное себе значение! ты не поймешь, как мы жили без верований, как мы жили одним страданием! ты будешь смеяться над нами! – Не презирай нас! мы были скудельным сосудом, который провидение бросило в первое горнило, чтоб очистить грехи отцов наших; для тебя оно сохранило искусный чекан, чтобы возвести тебя на свое пиршество.
Соедини же в себе опытность старца с силою юноши; не щадя сил, выноси сокровища науки из-под колеблющихся развалин Европы – и, вперя глаза свои в последние судорожные движения издыхающей, углубись внутрь себя! в себе, в собственном чувстве ищи вдохновения, изведи в мир свою собственную, непрививную деятельность, и в святом триединстве веры, науки и искусства ты найдешь то спокойствие, о котором молились отцы твои. Девятнадцатый век принадлежит России!"
– Если бы их устами, да мед пить, – сказал Ростислав.
– Разумеется, – возразил Вячеслав, – но согласитесь, господа, что за пафос!..
– Фразы и фразы, вот и все! – произнес Виктор диктаторским тоном.
– Согласен, что фразы, – отвечал Фауст, – но мои покойники жили в веке фраз, – тогда не говорили иначе; нынче те же фразы, только с претензией на краткость, на сжатость; сделались ли они оттого яснее? – Бог знает. Со времени Бентама фразы мало-помалу все сжимались и наконец обратились в одну гласную букву: я. Что может быть короче? но едва ли фраза в этом виде сделалась яснее десятка бентамовых томов, где она выражена на каждой странице длинными периодами. – Я, признаюсь, люблю фразы; в фразах человек иногда забудет свое ремесло актера и проговорится от души, а что проговаривается от души, то бывает иногда истиной, хотя часто сам говорящий того не заметил.
Виктор. Да что ж истинного в филиппике твоих покойников? в самом деле что ли Запад погибает? что за вздор! Напротив, когда, в какую эпоху он был так богат силами и средствами жизни, как в нынешнюю? Все в нем движется: железные дороги пересекают его из края в край; промышленность дошла до чудесного; война сделалась невозможностию; личная безопасность ограждена; школы размножаются; тюрьмы смягчаются; науки идут исполинскими шагами; съезды ученых делают малейшее открытие достоянием всей Европы; а сила, вещественная сила такова, что весь мир преклоняется пред Западом. Где же признаки падения, погибели?
Фауст. Я бы на это мог тебе отвечать словами натуралистов, политиков, медиков – о том, что высшее развитие сил какого бы то ни было организма есть начало его конца; но я лучше хочу согласиться с тобою, что мнение моих друзей о Западе преувеличено; я собственно не вижу в нем признака близкого падения, но потому только, что не вижу и того высшего развития сил, о котором ты говоришь; подождем аэростата – и тогда увидим. Касательно оценки текущего времени я буду несколько невежливее моих друзей; они характер настоящей эпохи назвали синкретизмом, я осмелюсь сказать, что ее характер просто – ложь, какой еще не бывало в прежней истории мира.
Виктор. Нечего церемониться; Шлецер прежде тебя сказал в детской книжке, "что род человеческий еще вообще очень глуп". {* Шлецерова история для детей, кн. 2. {7}}
Вячеслав. То есть, Шлецеру этими словами хотелось сказать: "как я умен" или "я один умен".
Ростислав. Это тайный смысл каждого слова, произносимого человеком...
Вячеслав. Оттого и Фауст уверен, что он один в свете искренен...
Фауст. Нет, к сожалению, я еще далек от этой уверенности, я еще не имею на нее права, ибо считаю эту уверенность высшим благом, которое может быть доступно человеку. Ложь столькими покровами охватывает его с первой минуты рождения, что борьба с нею поглощает все его силы. Эти покровы кровяными жилами приросли к человеческому организму. Часто, с плачем и воплем срывая их с своей внутренности, после долгих, неизмеримых страданий, истомленный, обессиленный – думаешь, что достигнул до сердцевины души своей, – ничего не бывало! там новый покров, кровавый, безобразный, пятнающий чистоту воли, и... снова начинается та же работа. У меня притязание на одну привилегию: я бы хотел не обманывать и не обманываться; но, еще раз, не знаю, имею ли и на нее право!
Вячеслав. Успокойся. Эту привилегию ты разделяешь со всем родом человеческим.
Фауст. Полно, так ли? всегда человек обманывал себя и обманывал других, но лишь в наше время он достигнул до такого совершенства, что желает быть обманутым.
Виктор. В наше время? Напротив! Когда, в какую эпоху действительность, очевидность, правда были в таком ходу, как ныне? Уж теперь ничего не выиграешь поверхностными соображениями, аналогиями, приблизительными наблюдениями: ныне требуют точности, цифр, фактов – они одни обращают на себя внимание...
Фауст. То есть, соскучив толковать, как бы поправить свое зрение и вычистить очки, – больные оттолкнули от себя это досадное, беспокойное подозрение и без околичностей решили, что их зрение совершенно здорово и очки совершенно чисты; оттого один видит предметы зелеными, другой красными, пока не придет третий и не станет уверять, что предметы ни зеленые, ни красные, а синие. За ними приходит человек, который или тщательно соберет все эти показания, так, просто для справки, или заключит, что в предмете соединено все вместе: и зеленое и красное и синее; тот и другой в полном убеждении, что из собрания многих лжей может, наконец, составиться истина, точно так же, как физики прошедшего века доказывали, что солнечный свет состоит из всех грубых цветов, им порождаемых. В этом я и вижу беду; нет опаснее сумасшедшего, который вовсе не подозревает, что он сумасшедший. Нет опаснее обманщика, который имеет вид откровенного человека.
Виктор. Но где же эти обманы? и преимущественно в нашем веке?
Фауст. Повторяю: не только люди обманывают друг друга, но даже знают, что они обмануты.
Вячеслав. По крайней мере, в этом знании ты не отказываешь нашему веку?
Фауст. В том беда, а не шутка. [Мы нашли искусство обманывать и, что еще страннее, обманываться – сознательно.] Было время, когда, если человек оскорблен другим, то они подерутся и убьют друг друга очень просто. Теперь, в наш век, просвещенные люди точно так же оскорбляют друг друга, точно так же дерутся и точно так же убивают, но с прибавкой: один почитает другого подлецом, но, вызывая на поединок, уверяет в своем искреннем почтении и преданности. Было время, когда человек напивался вином и опиумом – не зная их гибельного влияния на здоровье; теперь человек это очень хорошо знает и, однако, напивается тем и другим. [Древний грек или римлянин верил или не верил оракулу, Палладе, Зевсу; теперь мы знаем, что оракул лжет, а все-таки ему верим. Девять на десять так называемых римских католиков не верят ни в непогрешительность папы, ни в добросовестность иезуитов, и десять на десять готовы хоть на ножи за то и другое.] Мы так свыклись с ложью, что эти явления кажутся нам делом отнюдь не странным. Не угодно ли посмотреть их братцев и сестриц на земном шаре. Например, хоть в представительных государствах, – не говорим о других, – только и речи, что о воле народа, о всеобщем желании; но все знают, что это желание только нескольких спекуляторов; говорят: общее благо – все знают, что дело идет о выгоде нескольких купцов или, если угодно, акционерских и других компаний. Куда бежит эта толпа народа? – выбирать себе законодателей – кого-то выберут? успокойтесь, это все знают – того, за кого больше заплачено. Что это за скопище? говорят о злоупотреблениях, о необходимости новых мер... о гибели отечества, – толпа волнуется вокруг ораторов... ничего! это врачи без больных и адвокаты без процессов, им нечем жить, а вот заварится кровавая каша, то, может быть, и им достанется ложка: это и сами ораторы и все слушатели знают. Куда идут эти почтенные мужи? в далекие страны, для просвещения полудиких. Какой подвиг самоотвержения! ничего не бывало; дело в том, чтобы сбыть бумажные чулки несколькими дюжинами больше, – это все знают, и сами миссионеры. Вот произносится вечная обоюдная клятва, страшное дело! – ничего, все знают, что при совершении брачного обряда с намерением упущено то, без чего брак, при случае, может почесться небывалым. Мирный судья захватил в таверне несколько человек, все спокойны, ибо все знают, что свидетели при деле сродни судье и получат за явку узаконенную плату и что только из того были все хлопоты; где-то говорят горячо о необходимости поддержать хлебную промышленность, какие факты! какие доводы! – но все знают, что дело идет лишь о пользе нескольких монополистов, вокруг которых соседи умирают с голода; философ с кафедры обещается открыть всю истину, но все знают, что он ее не знает и не скажет, а между тем его слушают; в гостиной являются чета супругов, братья, члены семейства и говорят друг про друга величайшие нежности, но и они и все знают, что они друг друга терпеть не могут и дожидаются, как сказал Пушкин:
Когда же черт возьмет тебя? {8}
Журналист до истощения сил уверяет в своем беспристрастии, но все читатели очень хорошо знают, что во вчерашнем заседании акционерской компании журналу определено быть того мнения, а не другого. {[* Намек на "Times".]} Человек, вынесенный невежественною толпою на первое место страны, говорит этой толпе невероятные комплименты – все знают, что это неправда, все знают, что он так говорит потому только, что иначе ему бы не усидеть, но однако слушают с удовольствием. Один мой знакомый говорил в шутку: "что за льстец этот Б++; в глаза льстит без малейшего стыда; но что будешь делать! знаю, что лжет, а приятно!". В этих немногих словах вся характеристика века. Когда необходимость доводит до откровенности, тогда ее нагота прикрывается из благоприличия словами, часто совершенно противоположного значения; один государственный муж выразился так: "наши отцы касались этого вопроса с такою мудрою терпимостию (tolerance), что до сих пор он никогда не возмущал общего спокойствия, и я равно никогда не допущу в этом деле нововведений". {* Прокламация фан-Бурена {9} 4 марта 1837.} К чему относилось это прекрасное слово: терпимость? вы подумаете – к вероисповеданиям или к чему-нибудь подобному. Нет! просто к возмутительному рабству негров и беспощадному самоуправству южных американских плантаторов! – Терпимость в этом смысле! образец изобретательности! Неоцененная игра слов! и, к сожалению, не первая и не последняя. Если все это, господа, не ложь – то мы понимаем что-то совершенно различное под этим словом.
Виктор. Нет! но ты смешиваешь ложь с словом приличие, которое, конечно, играет важную роль в нашем веке, – и тем лучше – это признак его просвещения...
Вячеслав. Умный человек сказал: лицемерие есть невольная дань уважения, которую порок приносит добродетели. {10} {* Рошфуко.}
Фауст. Я знаю изречение еще лучше: язык дан человеку на то, чтобы скрывать его мысли... {* Талейран. {11}}
Виктор. Уж если пошло на цитаты, то я напомню о весьма глубокой мысли, ныне опростонародившейся: toutes les verites не sont pas bonnes a dire – я не знаю, как перевести это по-русски; переводят: не всякая правда кстати, но это не то...
Фауст. К счастию, не то! наш девственный язык не позволил растлить себя этой развращенною нелепостию; {[*** Фауст в своем увлечении забывает, что наш язык принял же в себя выражения: законная взятка, честный доходец, забывает и всю терминологию крепостного права.]} он не дал места ее общему, безусловному смыслу, – наш язык, насильно приняв иноземную гостью, стеснил ее в случайность: некстати – не в пору, – и бережно сохранил свое самобытное, врожденное, глубокое, хотя и простое слово: "хлеб-соль ешь, а правду режь". На эту пословицу можно написать целый курс нравственности, которая, разумеется, не войдет в бентамовы рамки; в них место только первой, хлебной половине нашего честного присловья. – Так вот до чего вы дошли, господа эмпирики, господа фактисты, люди положительные! вы спрятали слово ложь под словом приличие, как ребенок голову в подушки, и думаете, что вас не видно! что в слове, когда смысл его уничижает, пугает душу человека? где же ваша любовь к очевидности, к ясности, к фактам, к цифрам? эта любовь только до некоторой степени, – а там – да здравствует ложь! – о! вы правы! спрячьте вашу ложь, закройте ее, закрасьте, замажьте ее, – потому что если кто вам покажет ее лицом к лицу, то вы возненавидите себя за ваше безобразие...
Виктор. Все, что ты говоришь, очень справедливо в некотором смысле...
Фауст. В некотором смысле! еще платьице на ложь! рядите, рядите, господа, вашу воспитанницу, или воспитательницу...
Виктор. Да как ни называй, ложь, приличие, дух времени – все равно; дело в том, что при пособии этого снадобья Запад вышел из мрака средних веков, возвысился до той степени, где мы его видим теперь; сделался рассадником изобретений, искусств, наук... главное – цель, а не средства...
Фауст. По крайней мере ты соглашаешься, что рассадник завелся при пособии синкретического снадобья, чтобы сказать благоприличнее, – добрый знак! – Цель достигнута, ты говоришь?
Виктор. Достигается...
Фауст. Посмотрим же, чего достигли, – древо по плоду познается. Повторяю, мысли моих покойных друзей о Западе преувеличены, – но... прислушайся к самим западным писателям, приглядись к западным фактам, – не к одному, но ко всем без исключения; прислушайся к крикам отчаяния, которые раздаются в современной литературе...
Виктор. Это ничего не доказывает; как можно ссылаться на показания самых болтливых людей в человеческом роде, на литераторов? им, известно, нужно одно: произвести эффект чем бы то ни было – правдой или неправдой...
Фауст. Так! но нельзя отрицать, что в произведениях литературных, особенно в романе, отражается если не жизнь общественная, то по крайней мере состояние духа пишущих людей, хотя и болтливых, как ты говоришь, но все-таки составляющих цвет общества.
Вячеслав. О! без сомнения, – что ни говори, печать – дело великое, это оселок и весьма верный! Сколько людей считались умными в свете, даже гениями, – казалось, они проглотили всю земную мудрость, – но их личина спадала при первых строках, ими напечатанных; нежданно открывалось, что предполагаемые глубокие мысли не что иное, как пара ребяческих фраз, остроумие – натянутый набор слов, ученость – ниже гимназического курса, а логика – хаос...
Фауст. Я согласен с тобою, но с некоторыми ограничениями... впрочем, это в сторону; я говорил о литературе, как об одном из термометров духовного состояния общества; этот термометр показывает: неодолимую тоску (malaise), господствующую на Западе, отсутствие всякого общего верования, надежду без упования, отрицание без всякого утверждения. Посмотрим на другие термометры. – Виктор упоминал о чудесах промышленности нашего века. Запад есть мир мануфактурный; Кетле {12} был невольно приведен своими добросовестными статистическими таблицами до следующих заключений: 1-е, что число преступлений гораздо значительнее в промышленных, нежели в земледельческих местностях; {* Quetelet, "Sur l'Homme, ou Essai de Physique sociale", Bruxelles, 1836, t. I, p. 215 .} 2-е, что нищета гораздо сильнее в странах мануфактурных, нежели где-либо, ибо малейшее политическое обстоятельство, малейший застой в сбыте повергает тысячи людей в нищету и приводит их к преступлениям. {* Ibidem, t. II, р. 211.} Современная промышленность действительно производит чудеса: на фабриках, как вам известно, употребляют большое число детей ниже одиннадцатилетнего возраста, даже до шести лет, по самой простой причине, потому что им платить дешевле; как фабричную машину невыгодно останавливать на ночь, ибо время – капитал, то на фабриках работают днем и ночью; каждая партия одиннадцать часов в сутки; к концу работы бедные дети до того утомляются, что не могут держаться на ногах, падают от усталости и засыпают так, что их можно разбудить только бичом; честные промышленники, чтобы помочь этому неудобству, сделали чудное "изобретение: они выдумали сапоги из жести, которые мешают бедным детям даже падать от усталости...
Виктор. Это частный случай, который ничего не доказывает...
Фауст. Имей терпение хоть пробежать парламентские исследования с 1832 по 1834 год и другие документы, {* Factories inquiry. First report; second report; supplementary report , 1832-1834, 4 v. in-folio.} то ли ты найдешь там? везде один ответ: десятилетние дети на работе по одиннадцати часов в сутки; усталость до утомления; распухнувшие ноги; спинная болезнь; недостаток сна, от которого всегдашнее полусонное состояние; {* Кажется, это полусонное состояние очень удобно для фабрик. Новейшие газеты наполнены описанием снотворного состава, которым западные фабриканты усмиряют детей слишком резвых.} наконец, что всего важнее – невозможность какого-либо воспитания, какого-либо образования, тем менее нравственного, ибо после одиннадцатичасовой работы нет времени для школы; а если бы и нашлось это время, то физическое и нравственное состояние детей таково, что ученье для них бесполезно; комиссары парламента открыли, что большая часть фабричных работников не умеют ни читать, ни писать – и прежде времени поражены старческою немощью; это уж не сказка, а официальное дело.
Виктор. Однако же доктор Юр доказал, что самое пребывание на фабрике способствует образованию работников...
Фауст. Я помню это место – это такой пуф, что его нельзя читать без смеха и без сожаления. Многоученый доктор Юр, горячий поборник бумажных мотков, хватается за все, чтоб защитить предмет своего обожания: он говорит о необходимости для работника смотреть на термометр, который будто бы "вместе с гигрометром открывает ему тайны природы, закрытые другим людям; он каждый день имеет случай, – продолжает филантроп-мануфактурист, – наблюдать расширение твердых тел, происходящее от возвышения температуры, на огромных паровых трубах, нагревающих комнаты... получать сведения в практической механике из самой прядильной машины...". {* "Philosophie des manufactures", par Andrew Ure, 2 vol. in-12ь, Bruxelles; traduit sous yeux de 1'auteur; ch. I, p. 36 et sqq. .} Вот образец положительности! мануфактурный философ полагает, что можно знания ввернуть в голову человека, как винт в стену, без всякого предварительного приготовления, которое бы могло развить умственные понятия человека до той степени, где отдельные знания делаются ему доступными...
Виктор. Но ты должен согласиться, что ежедневное обращение с машинами, с термометром не может несколько не развить умственных способностей человека...
Фауст. Так: если он гений; пред другими же целый век будет вертеться колесо и висеть термометр – и они ничего не поймут ни в том, ни в другом. Тысячи людей смотрели, как паром поднимается крышка с чайника, – но одного Уатса {13} это наблюдение привело к паровой машине" Англичанин Гельс {14} (Hales), один из знаменитейших химических ремесленников семнадцатого века, даже изобрел снаряд для собирания газов; он их, так сказать, щупал руками, но не узнал их, принимал их за один и тот же воздух с некоторыми примесями. Для гения не нужно школы; но все не гении не могут обойтись, по крайней мере, без первоначального воспитания. Да и все это мечта! стоит взглянуть на прядильную мануфактуру! ты знаешь, есть ли возможность тому, кто должен ежеминутно смотреть за сотнями обрывающихся ниток, – производить наблюдения над термометром и углубляться в механику? уже не говорю о тех несчастных, которых единственное занятие в продолжение полусуток – ползать на четвереньках под машиною и подбирать хлопки, – ибо в этом состоит вся работа детей; каким образом они в это время занимаются термометрическими и гигрометрическими наблюдениями – это известно одному доктору Юру! Впрочем, кажется, глубокое размышление над винтами и колесами самопрядильни не открыли и самому доктору Юру тайн природы, довольно известных другим смертным; на замечание одного умного" лондонского врача, который без церемонии сказал, что ночная работа – гибель для здоровья и особенно в детском возрасте препятствует правильному развитию тела, доктор Юр насмешливо и с чувством оскорбленного достоинства доказывает медицинскому факультету, что машины сильно" освещены газом и, следственно, ночная работа не может быть вредна детям...
Ростислав. Неужели ты не шутишь?
Фауст. Загляни во вторую главу второго тома "Философии мануфактур"; {* Ibidem, pag. 149.} этот ответ показывает, что доктору Юру вовсе не известно одно и" самых простых положений физиологии о влиянии ночи на организм животных. Только мануфактурному философу дозволено такое невероятное, непростительное невежество – зато доктор Юр человек положительный и считается авторитетом в прядильном и вообще мануфактурном мире...
Ростислав. Хоть упоминает ли он о нравственном образовании несчастных детей на фабриках?..
Фауст. Он вообще очень хвалит фабричное нравственное воспитание, чему я нашел у него и доказательство: "если главный работник на шерстяной фабрике, – говорит он, {* Ibidem, t. I, p. 13.} – человек трезвый и порядочный, то он не имеет нужды мучить (harasser) своих маленьких помощников... на если он предан горячим напиткам или вспыльчив, то поступает с ними тирански... когда он, возвращаясь из трактира, запоздает, то, чтоб нагнать время, пускает машину с такою быстротою, что его помощники неуспевают ему помогать... тогда он немилосердно бьет их длинным катком (billy rollet)..." – чем не воспитание? бедные дети в полной власти у взрослого пьяного негодяя – но ведь это лишь в продолжение одиннадцати часов в день! Впрочем, доктор Юр не шутя уверяет, что это случается только на шерстяных фабриках, но отнюдь не на бумажных, {* Там же.} и надеется, что новые усовершенствования на шерстяных фабриках устранят эту маленькую неприятность.
Виктор. Но ты берешь только случайности...
Фауст. Эти случайности на всех фабриках Запада...
Виктор. Ты указываешь лишь на одну сторону...
Фауст. Тебе угодно другую; вот она: Карл Дюпень {15} торжественно объявил с парламентской трибуны, что "на 10000 рекрут в мануфактурных департаментах Франции представляется 8900 больных и уродов, а в земледельческих лишь 4000". {* См. газеты тридцатых годов.}
Виктор. Это все темная сторона; должно брать в расчет и силу обстоятельств, как, например, огромную производительность Запада, которая, естественно, понижает цены на фабричные произведения и заставляет производить дешевле и в меньшее время; оттого все эти ночные работы, употребление детей, утомление... без того большая часть фабрикантов бы разорились...
Фауст. Я не вижу нужды в этой непомерной производительности...
Виктор. Помилуй! ты хочешь ограничить свободу промышленности...
Фауст. Я не вижу нужды в этой беспредельной свободе...
Виктор. Но без нее не будет соревнования...
Фауст. Я не вижу нужды в этом так называемом соревновании... как? люди алчные к выгоде стараются всеми силами потопить один другого, чтобы сбыть свое изделье, и для того жертвуют всеми человеческими чувствами, счастием, нравственностию, здоровьем целых поколений, – и потому только, что Адаму Смиту вздумалось назвать эту проделку соревнованием, свободою промышленности – люди не смеют и прикоснуться к этой святыне? О, ложь бесстыдная, позорная!
Виктор. Я согласен, что настоящее состояние западной промышленности представляет много странного и печального, – но не в ней одной заключается Запад. Вспомни, что Запад – колыбель нашего просвещения, что на Запад ходят учиться, что Запад истинный храм наук...
Фауст. Обширный вопрос! об нем можно говорить до завтрашней ночи! Чтоб не распространяться вдаль – я спрошу только: какие именно науки подвинулись в этом храме? Я вижу движение на Западе, вижу безмерную трату сил, вижу множество приемов полезных и бесполезных – им не худо учиться; думать, что новая наука далеко оставила за собою древнюю, – это вопрос другой; новая наука увеличила ль хоть на волос благоденствие человека? это вопрос третий.
Виктор. Послушай: отрицать просвещение Запада – дело невозможное; ты этого не докажешь...
Фауст. Я не отрицаю его и даже признаю, что нам еще многому остается учиться на Западе, но я хотел бы привести это просвещение в настоящую оценку. Успехи в политической экономии и общественном благоустройстве мы уже видели и видим каждый день; дело дошло до того, что один добрый чудак {16} предложил перевернуть весь общественный быт и испытать, не лучше ли будет, вместо обуздания страстей, дать им полный разгул и еще подстрекать их; а этот чудак был человек неглупый: нелепость, до которой дошел он, доказывает, что уже нет выхода из того круга, в который забрела западная наука. В науках физических приложений много, но что именно принадлежит новому веку... сомнительно.