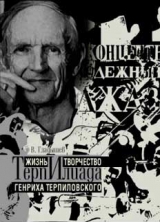
Текст книги "ТерпИлиада. Жизнь и творчество Генриха Терпиловского"
Автор книги: Владимир Гладышев
Жанры:
Музыка
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
«Во всей своей гармоничности и свежести»
Легенда об «авторе одного произведения»
Не многое было способно так радовать творца, как оценка профессионала. Например, известного дирижера, народного артиста России Бориса Афанасьева. Приведем фрагмент его характеристики, написанной для сборника сочинений Г. Р. Терпиловского. Строки эти были названы так: «Вместо предисловия».

Дирижер Борис Афанасьев
«…Композитор Генрих Романович Терпиловский получил музыкальное образование в Ленинградской консерватории в классе профессора М. О. Штейнберга. К сочинению музыки приступил очень рано, и первая же его оркестровая пьеса «Джаз-лихорадка» стала общепризнанным боевиком конца 1920-х годов. Недавно эта пьеса исполнялась в Москве на юбилее советской джазовой музыки.
Песни Терпиловского мелодичны и легко запоминаются. Многие страницы этого сборника, вероятно, известны пермским любителям музыки. В сборник вошли ряд песен, созданных в разное время, – от патетической песни-баллады «Коммунары» на стихи Е. Евтушенко до озорной «Рыжей девчонки», исполнявшейся и по Центральному телевидению.
В своей творческой деятельности Г. Терпиловский не ограничивается жанром песни… Композитором написаны три одноактных балета… оперетты «Девушка-гусар» и «Я вам пишу». Хочется отметить кантату «Урал», «Мексиканскую рапсодию», симфониетту «Амок», балладу «Таинственный трубач» и музыку не менее чем к двенадцати театральным спектаклям.
Генрих Романович ведет большую общественную работу, являясь председателем правления объединения композиторов Прикамья и музыкальным критиком.
В лучших песнях Терпиловского запечатлен мир простого советского человека. Откройте сборник, друзья, проиграйте ноты, и мир этот предстанет перед вами во всей своей гармоничности и свежести…»
Слова эти – «во всей своей гармоничности и свежести» – можно повторить и сегодня.


Программки пермских театров. Музыку к этим спектаклям написал Г. Терпиловский
Однако у некоторых моих земляков остается убеждение, что Терпиловский – автор одного произведения. Как, например, из всех поэтических опусов А. Суркова всенародно известен один – «В землянке». Ассоциация с фамилией Терпиловского – о! «Джаз-лихорадка!»
Да, именно на этом произведении молодой композитор получил «боевое крещение» в одном из первых джазовых оркестров Ленинграда, созданном инженером Георгием Ландсбергом. На концерте перед исполнением «Джаз-лихорадки» Ландсберг сказал, обращаясь к публике (приводим его конферанс по воспоминаниям самого композитора):
– Не умолкают споры на тему, здоровое или больное искусство джаз? Несомненно, больное. Наш молодой земляк Терпиловский принес нам свое сочинение, мы попробовали его сыграть – не смогли! Мы заболели, нас колотило, правда, со временем…
Тут неожиданно дирижера перебивает ударник, имитируя приступ. Ландсберг подбегает к нему и, находясь спиной к зрителям, помогает: тушит руками звучание тарелок… Затем он дирижирует группой саксофонистов, лишь изредка укоризненно поглядывая на барабанщика, когда того вновь охватывала лихорадка. И так, сквозь очередные приступы озноба отдельных музыкантов или целых групп ансамбля Ландсберг благополучно довел пьесу до конца.
Обычно пьеса повторялась на бис, хотя, описывая свой первый успех на публике, Генрих Романович не забывал повторять, что обязан им прежде всего виртуозности музыкантов: ударника Козловского, великолепного трио саксофонистов – Рукавишникова, Кандата, Котлярского.
Между тем споры вокруг джаза не утихали, и противников его никак не становилось меньше. В то время к джазу было принято относиться свысока, а то и с предубеждением. Это отлично почувствовал на себе Генрих Терпиловский в 34-м, когда отправился «туда». Это решило судьбу его друга Сергея Колбасьева, дипломата, писателя, капитана, который «пробил» на Ленинградском радио цикл получасовых бесед о джазе. Увлекательные радиобеседы Колбасьева оборвались в 1937 году, когда к негодующим выкрикам критиков чуждой музыки – «Уджазно!» («Ужасно!») – стало вполне привычным делом присоединять свинцовый аргумент в виде пули в затылок…
Если долго жить в Перми…
Легенда о местном патриоте
Остается один важный вопрос: почему Терпиловский не уехал в свой любимый город на Неве? Ведь ясно же, что композитор многие годы мечтал о нем, рвался в Питер, видел его во снах. Возможно, временами он даже ощущал свою обделенность, когда, к примеру, читал слова, случайно вырвавшиеся в письме Л. О. У. (Утесова), – мол, как жаль, что Вы живете «на отшибе»…
Однажды на прямой вопрос приятеля, почему не уехал в Ленинград, Генрих Романович ответил: «Я опоздал…»
Судя по всему, он вкладывал в этот короткий ответ не только невозможность получить квартиру. Квартирный вопрос еще можно решить. Он опоздал в чем-то более важном для его профессионального статуса. Собственно, порою Терпиловский так и жил – между двумя городами.
В списке его творений встречается немало произведений, связанных с Ленинградом. Еще в 1942 году он написал песню на стихи Ив. Мороза «С Васильевского острова» и посвятил ее «Героическому городу Ленина». Про веселого гармониста с завода «Металлист», ушедшего защищать любимый город. У него был свой Ленинград… После многолетних невольничьих сроков, после ограничений в правах, в передвижении, в выборе места жительства Генрих Романович одно время даже боялся отправиться в город своей юности, был такой период в его жизни. Потом съездил, погулял по знакомым местам. Возобновил контакты с однокашниками и по техникуму, и по школе.
Постепенно он проникался теплыми чувствами к другому городу, к тому, в котором обрел крышу над головой, семейный очаг. Жить на разрыв между двумя городами долго нельзя. В творчестве Г. Р. Терпиловского одна за другой появлялись песни, посвященные Перми. Одна из них, на стихи Льва Кузьмина, прозвучала в кинофильме «Капризка – вождь ничевоков» (1969). Композитор, выбрав эти стихи, словно продолжает разговор на сокровенную, корневую для себя и других тему:
…Но я обошел вокруг земли,
Переплыл я океан и понял:
Самый лучший город – не за морем,
Самый-самый лучший город там,
Где с дугою-радугой в соседстве
Расположен солнечный квартал
Нашего безоблачного детства.
Проникнувшись местными настроениями, композитор не только писал серьезные вещи, классику, джаз, но сочинял и шуточные песенки, как, например, «От Перми второй до Разгуляя» (на стихи Н. Воробьева). Простой сюжет о любви юной пары, которая, намыкавшись на трамваях, обрела наконец общий адрес. Так что в Перми надо жить долго, тогда обязательно чего-то добьешься (выделено ред.).
Пермская общественность по достоинству оценила вклад Терпиловского в развитие культуры города. Авторский вечер композитора прошел в театре оперы и балета с участием ведущих артистов, музыкантов. И все бы хорошо, но… Журналист, написавший в областной газете статью к 75-летнему юбилею композитора (см.: Коробков С. Искусства и музыки рыцарь. – Звезда, 1984, март), даже не представлял, как он задел Генриха Романовича, когда решил «классифицировать» его творчество таким образом:
«В этот вечер в зале театра было много молодежи. И мало кто из них знал, что Генрих Романович приехал в наш город в середине 1930-х из Ленинграда и с Пермью связан новый этап в его творческой биографии».

Свой авторский вечер Генрих Романович готовил долго и ждал с волнением
Если в главной газете региона приходилось в ту пору идти на такие уловки, допускать столь гнусные умолчания, то… можно представить, как жилось пермякам в «эпоху развитого социализма». И что за «человеческое лицо» было у этого пресловутого передового строя.
Подытоживая все сделанное композитором, обозреватель «Звезды» С. Коробков выразился точно, когда сказал, что пермские слушатели разных поколений давно считают Терпиловского своим земляком. Ведь «тема Урала, тема города на Каме, росшего и мужавшего на его глазах, давно стала магистральной в творчестве композитора». Называя «Юбилейную кантату» на стихи В. Радкевича, газета напомнила, какую огромную общественную роль сыграл ее автор в становлении музыкальной культуры Прикамья:
«…Любовь его к пермскому краю нашла свое выражение не только в таких известных произведениях, как «Уральская рапсодия», кантаты «Урал» и «Сад декабристов», но и в той поистине подвижнической деятельности, которой славится композитор на ниве музыкального просветительства и пропаганды лучших произведений культуры и искусства».
В тот вечер, помимо теплых слов и благодарностей, верный рыцарь музыки был награжден Почетной грамотой облисполкома с пожеланиями творческого долголетия. Не ясно было только, зачем было желать то, что уже свершилось и к тому же совершенно не зависело от властных органов. Творческое долголетие – оно вот, у всех на виду. Только, к сожалению, жить юбиляру оставалось всего ничего…

«Пермский дон кихот» с близкими людьми у Деда Мороза

Такая визитка, случалось, открывала новые горизонты для молодых творцов
А город на Неве тоже не забывал о нем. Еще в 1986 году Генрих Романович получил письмо из Ленинграда от своей однокашницы Наташи, Натальи Сергеевны, которая сообщала о подготовке к юбилейной встрече выпускников их родной школы. Она же поведала о том, как сложились судьбы бывших соучеников. У многих – ученые звания, труды, книги, а сколько уже ушло из жизни… Не смог приехать на встречу и Генрих Романович.
После кончины композитора в Пермь еще шли из Питера письма…
Прислал письмо с соболезнованием и руководитель «Ленинградского диксиленда» Олег Кувайцев со товарищи.
На отшибе Генрих Романович Терпиловский никогда не жил, даже оказавшись не по своей воле в Магадане. Все дело в том, что он относился к тому типу творчески сильных, самодостаточных индивидов, которые в жизни руководствовались постулатом: столица – во мне. Он сумел наполнить свое бытие всеми ветрами, всем спектром потребностей, необходимых для существования духа.
Что касается его «искусства жить долго» – тайна сия великая была, есть и останется. Видимо, гены. Видимо, порода. Столько пережить – и столько прожить… ну, как это объяснишь?
Он жил нацеленным на творчество – и работа, «смешная дудочка моя» (по Ю. Левитанскому), спасала. Он просто жил полной жизнью. Изучал языки (вдова передала в Горьковскую библиотеку около тридцати книг на иностранных языках, в основном, конечно, на польском, некоторые с автографами авторов). Болел за ленинградский «Зенит» (вырезал сообщения о его играх, восхищался Павлом Садыриным, бывшим пермяком, приведшим зенитовцев к званию чемпиона страны!). А если просто болел, в житейском смысле, то переносил свои хвори стоически. Иногда не мог разогнуться – так прихватывало… Но все равно он упрямо возвращался к жизни и всегда шутил, улыбаясь сквозь силу.
«Да здравствует синкопа, долой Вайнкопа!»
Об искусстве жить весело
Верно говорят: юмор – спасательный круг на волнах штормящей жизни. Юмор – один из краеугольных камней мировосприятия Терпиловского. Случалось, привычка «позубоскалить» подводила его.
Вспомним его первое выступление «на публике». Было это в конце 1920-х, когда он принес свою «Джаз-лихорадку» в капеллу Г. Ландсберга. «Полиглот и остроумец Генрих Терпиловский, – пишет историк джаза, – молниеносно отвечает коротким матчишем маститому музыковеду на его критику джаза: «Да здравствует синкопа, долой Вайнкопа!»
В этом остроумном выпаде весь Генри, с его юмором, умением играть словами и… известной безоглядностью. Ведь ясно же, что в критике он наживет себе злопамятного врага.
Стоит ли удивляться тому, что даже в лагерной ситуации, в положении подневольного, Терпиловский был способен появиться в роли, в которой трудно представить другого в обычной жизни. На фотографии, запечатлевшей участников оперетты (музыка к спектаклю написана Терпиловским, а постановка осуществлена силами гулаговского коллектива на Дальнем Востоке), композитор-зек – в роли ксендза.
Но вот он выпущен на волю. Послевоенные годы, мирная жизнь только налаживается. Удалось трудоустроиться (благодаря лагерному знакомству с Павлом Дудиным) в городе Грозном, «нефтяной столице», руководителем заводского джаза ДИТРа – Дома культуры инженерно-технических работников. Терпиловский подбирает такой репертуар, который способен бодрить и мобилизовать массу на новые трудовые успехи. И развлекает слушателей, в том числе, опять же, в качестве конферансье. В своих заготовках Генрих Романович предлагает шутки, скетчи, сценки, в которых высмеивает самые разные пороки тогдашней жизни: бюрократизм, рвачество, социальное неравенство, тупость…
Приведу некоторые из использованных в джазовых концертах заготовок.
СМЕХ НЕ К МЕСТУ
…Режиссер отчитывает актера:
– И что это вам пришло в голову рассмеяться на сцене, когда царь эфиопский вручал вам пять тысяч дукатов? Это же было совсем не к месту!
– Согласен с вами, – отвечает актер. – Но я вспомнил о своей месячной зарплате…
(О, наши зарплаты, вечный повод для шуток! Меняются правители, режимы, а ситуация в культуре остается прежней.)
О ДИРЕКТОРАХ ТЕАТРОВ
Это был сверхосторожный директор. Афиши он заказывал не раньше, чем пьеса (или концерт) сходили с репертуара.
ОБ АВТОРАХ
Одного из них спрашивают после провалившегося спектакля:
– Что это вы вместе со всеми освистывали свою пьесу?
– Чтобы меня, чего доброго, не приняли за автора…
Перебравшись в Молотов, то есть в Пермь, Генрих Романович и на новом месте не изменил себе. Вот несколько его записей из раздела «Самое забавное».
ОБ АКТЕРАХ И АРТИСТАХ
– Вы опять мне навязываете роль матери! Еще сам Станиславский лично говорил, что я создана для ролей любовниц!
В РЕСТОРАНЕ «КАМА» – СОВСЕМ НЕ ТОТ.
– Я видел в «Каме» Н-ва.
– Ну и что?
– Он выглядит совсем не так, как в жизни!
«ЧТО ТОГДА БУДЕТ?»
80-летний актер не оставлял без заигрывания ни одну интересную женщину. Молодая актриса в ответ на его приставания заметила:
– А вдруг я отвечу «да», что тогда будет?
О ЗРИТЕЛЯХ
Одна «музыкальная» особа, сидя в ложе театра оперы и балета, обращается к мужу:
– Знаешь, по-моему, я уже слышала эту оперу, что-то эти декорации кажутся мне знакомыми.
ДЕКАДА ТВОРЧЕСТВА
Во время декады самодеятельного творчества Дворца культуры им. Свердлова по радио передавали выставку картин, а по телевидению – эстрадный оркестр.
– Ну, и что! – воскликнула невеста одного из оркестрантов. – Не мешает и увидеть то, что слышишь…
Генрих Романович всегда ценил работу конферансье, он придавал роли ведущего концерта огромное значение. Не каждый справится с этой ролью. Не случайно, видимо, не находя человека с подходящими способностями, композитор брал на себя эти функции.
Еще работая в Грозненском ДИТРе (напомним: идут послевоенные трудные годы!), Терпиловский разработал концепцию успешного конферанса. И написал текст в необычной стихотворной форме! А что же оставалось делать?
«…Все современные литераторы с эстрадою нашей почти не знаются – пишут охотно они для театра, а вот для эстрады не могут, стесняются… Поэтому нам приходится быть и поэтами. Мы вместе пишем, вместе играем, вместе грешим и вместе каемся».
Ясно осознавая, с какой стороны ждать нападок за неудачу, руководитель оркестра сочинил текст на два голоса, на эстрадную пару ведущих. Вот фрагмент их диалога:
– Это о вас закулисные слухи:
Вы держитесь слишком развязно на сцене!
– А вы жужжите, как сонные мухи,
Вас слушать для публики – просто мученье.
– Все говорят, и певицы, и джаз,
Что нет у вас актуального репертуара.
– Но это же можно сказать и о вас…
О чем же в ту пору можно было и писать и играть, ради чего и грешить и каяться?
Краткий перечень тем и адресов для критики можно извлечь из того же конферанса второй половины 1940-х:
…Веселой шуткой, словцом ядовитым
Мы боремся с пятнами нашего быта,
Мы говорим о пустышках манерных,
Разбавленном пиве, панелях нечистых.
Порой говорим и о более скверном:
О международных авантюристах…
Обратим внимание на то, что даже в то время Терпиловский, прошедший суровую школу лагерей, не утратил оптимизма, бодрости духа и он не боится острых политических тем. Тогда начиналась холодная война – и он откликается на фултонскую речь Черчилля в своих стихах, написав «о том, что советский народ, поверьте, не испугается ни черта, ни Черчилля». При этом поэт-композитор любит поиграть со словом, например, пишет про «англо-саксонскую даму томную», придумав для этого рифму из омофонов: «а томная – атомная».
Часть своих заготовок Терпиловский использовал сам или подбрасывал ведущим концертов. Шутки встречали с одобрением. Хотя придирчивые критики, бывало, склонны были усматривать в таком конферансе «пошлость и заигрывание со зрителем».
Нужно сказать, композитор, прошедший через репрессии, не испытывал благоговейного ужаса перед «пошлыми песенками» и забористыми солеными шутками. Скажу больше: он их сам сочинял! В лагере – от нечего делать или чтобы позабавить товарищей по несчастью. За этот дар его очень уважали заключенные, особенно уголовники, хотя он и представлял собой отряд «социально-чуждых».
В запасе у маститого композитора была, к примеру, «Одесская холерная». Это своеобразный призыв к половой и всяческой гигиене. В этой песенке про то, как боролись в Одессе с эпидемией, перепало всем: и проституткам, и врачам, и «интеллигентам».
В подобном сатирически-эротическом стиле написан целый ряд стихотворных творений лагерного периода. Это поэмы «Не-Овидий» (1939) «ЦИЗО» (1939), «Новые метаморфозы, или Лагериада», «Сказание о старце Абросиме и 30 красавицах», «Гибель Логараула», «Епистим и Антинея», «Где кончается Дальний Восток», «Графология», «Случай из жизни Роя Фокса», «Пазо-Добл», «Незнакомка из «Савоя»», «Беличья шубка», а также стихи, появившиеся в послевоенный период (когда Терпиловский был уже на положении расконвоированного).
В своей музыке композитор также умел «прикинуться», перевоплотиться, как многорукий Шива. Можно представить, как забавлялся он, когда писал, а еще более – когда читал рецензии на балет «Чудесница», поставленный в 1961 году на сцене Пермского театра оперы и балета. Это был типичный социальный заказ, точнее – социально-политический. Партия (устами Никиты Хрущева) сказала: «Надо!», культура ответила: «Есть!»

Были и в Молотове хорошие денечки…
(Генрих сидит под чашей, у ДК им. Сталина)
Для композитора воплощение самого сумасбродного замысла просто творческая задача. И он с ней, судя по всему, справился. Как писала областная газета, он создал к спектаклю «легкую и прозрачную, местами совсем современную музыку».
Но каково было читать такие перлы о танцующих початках и каково танцевать? «…Думаете, просто исполнить партию «Ноги вагона» или «Ноги тучек»? Мы не видим самих актеров, их фамилий даже нет в программе. Только ножки в белых чулках старательно танцуют перед нами, унося паровоз, выпускающий клубы дыма…»
Одно хорошо: у сказки был счастливый конец. Усатый Колос справил праздник дружбы с Кукурузой… В жизни, как известно, кукурузе не так повезло, все получилось несколько иначе. Генрих Романович рассказывал потом об этом «романе с кукурузой» с веселыми подробностями.
Он умел, как говорится, расставаться с прошлым, смеясь. В этом отношении Терпиловский был очень похож на другого композитора, Никиту Богословского. Они были в приятельских отношениях еще с далеких 1930-х. Двух пересмешников сближало многое: и любовь к джазу, и мировосприятие. Однажды мне попалась на глаза фотография Никиты Владимировича, где он сидел в своем кабинете в окружении тех же фотопортретов, что висели и в кабинете Генриха Романовича! Тут и Дюк Эллингтон, и Утесов, и Шостакович. Кстати, критиковали двух приятелей одни и те же лица, а редкие похвалы они получали также из одних адресов. Например, уже на склоне жизни (1988) Терпиловский отметил для себя цитату в публикации из «Литературки», в которой говорилось:
«Песенка Дженни» (муз. Н. Богословского, текст В. Лебедева-Кумача) из фильма «Остров сокровищ» претендует на мелодичность и доходчивость, но она имеет весьма малопочтенную родительницу – блатную песню…» Написано это было в 1938 году И. Дунаевским. И в те же 30-е годы доброе слово о молодом талантливом композиторе Богословском по поводу его оперы «Аристократы» сказал Дмитрий Шостакович, который в свое время поддерживал и Генриха.

Никита Богословский, композитор, весельчак и знаменитый пересмешник
Не случайно в архиве Терпиловского немало юмористических творений Богословского, его фотографии, телеграммы. В 1968 году Генриху Романовичу прилетело из Москвы поздравление с 60-летием, подписанное так: «Твои друзья», а фамилии подписавших – Н. Минх, А. Цфасман, А. Эшпай, И. Якушенко и Н. Богословский.
Как и Генрих Романович, Никита Владимирович Богословский страшно любил розыгрыши, причем объектами становились не исключительно знакомые и друзья дома. Одна из анекдотичных историй связана с автором гимнов Сергеем Михалковым. Ему якобы предложили по телефону от имени патриарха написать гимн Русской православной церкви. Михалков после некоторых колебаний согласился обсудить вопрос, но на этом этапе обман раскрылся. Приписывали байку Богословскому; правда, Никита Владимирович от этого авторства в одном из своих последних интервью открестился (может быть, слегка слукавил), но Терпиловский этого уже не узнал. (Он, кстати, был старше Богословского всего на пять лет.)
Мелким бисерным почерком Терпиловского переписаны в одну тетрадку песни московского коллеги: «Темная ночь», «Любимый город может спать спокойно», «Спят курганы темные» и тут же «Песня Кости-моряка», сочинение, за которое Богословского сильно критиковали в то время. Но мало этого: Генрих, судя по списку, разучивал и исполнял со своими музыкантами куплеты «Капут!», своеобразное продолжение песни про Костю-моряка, на ту же мелодию. Начинается песня так:
Шаланд не знает заграница,
Кефали нет в ее воде,
Искали фрицы путь к пшенице,
А смерть нашли себе везде.
И припев был соответствующий:
«Мы вам не споем за всю Европу,
Вся Европа очень велика,
Но и Гитлеру и Риббентропу
Надавали крепко под бока!
Автор этого популярнейшего в те годы произведения не установлен, но то, что к нему приложил руку и сам Терпиловский, не вызывает сомнения. В его литературном архиве сохранились музыкальные фельетоны, скетчи, юморески, афоризмы, шутки, диалоги, репризы различных авторов – Н. Богословского, Ю. Звягинцева и др. Некоторые из них он выписывал из книг, журналов, а часто придумывал, сочинял, приспосабливал к сцене сам. Пробовал себя и в жанрах байки и басни, с непременной моралью в конце («Дегустатор», «Городская сказка» и др.)
Можно сказать, пик его литературного творчества пришелся на вторую половину 1950-х годов. А затем стремление писать, сочинять как-то приугасло, композитор все больше уходил в журналистику и публицистику, стал писать музыкально-критические статьи, рецензии.
Своеобразным отражением некоторого разочарования в своих возможностях или пересмотра приоритетов в творчестве стал эпиграф, который Терпиловский предпослал к тетради со стихами того периода:
«Если рифмовать прозу, она от этого не станет поэзией. Подлинная поэзия может обойтись без рифм» Г. Т. 16 марта 57».
А еще он переводил с иностранных языков, выбирая полюбившихся ему поэтов, юмористов, сатириков. Сохранилась тетрадь с переводами Генриха Романовича Терпиловского с польского, английского. Нужно отдать должное вкусу и чутью композитора: темы он выбирает вечные, сюжеты – бродячие, которые не устаревают и поныне. Хоть сейчас бери и используй в выступлениях со сцены.







