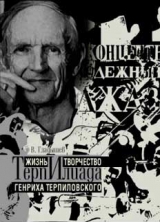
Текст книги "ТерпИлиада. Жизнь и творчество Генриха Терпиловского"
Автор книги: Владимир Гладышев
Жанры:
Музыка
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Терпиловский + Терпсихора=…
Легенда о неврученном ордене
Удивительно это сочетание яркого и одновременно незримого существования Терпиловского в нашем джазе…
Список творческих удач начат им с упомянутого цикла песен на слова Ленгстона Хьюза. Генрих Романович создавал его дважды: сначала молодым, в 1934 году, по заказу Ленинградского радио, а затем вернулся к Хьюзу спустя два с лишним десятка лет, после перенесенных испытаний и ударов судьбы.
И когда я услышал, что наш известный актер М. Козаков записал пластинку «Черные блюзы Ленгстона Хьюза», то обрадовался несказанно: значит, оценили по достоинству произведение Терпиловского, ведь он столько души вложил в него! Однако рано радовался: пластинка создана Михаилом Козаковым в содружестве с молодым джазменом Борисом Фрумкиным. Неплохо все сделано, с чувством, задиристо… Но жаль, что наш патриарх и в этом случае по-джентльменски остался в тени. Ей-Богу, у него не хуже…

Музыкальный обозреватель пермских газет Г. Терпиловский не пропускал ни одного заметного события в своей сфере.
А вот из той же оперы случай. Скорее, не из оперы, а из балета, а если еще точнее – случай, связанный с балетом. Про то, как композитора обошли правительственной наградой.
На фотографиях Генрих Романович нередко запечатлен в пиджаке, на лацкане которого – знак, похожий на лауреатский. Но это не правительственная награда, это знак признательности джазистов (иногда композитор носил значок, выпущенный к юбилею своего родного ленинградского вуза). Но при Никите Сергеевиче Хрущеве, говорят, композитор чуть-чуть ордена не получил.
В 1961 году написал Терпиловский балет… «Королева полей». Да-да, это все о ней, о кукурузе!
Либретто к новому труду Генриха Романовича сочинила пермский хореограф Клавдия Есаулова. Спектакль пользовался поразительным успехом. Ну, как же: неожиданное решение, оригинальная музыка, прихотливая хореография, милые юные солисты, резвившиеся на сцене… Позднее по «Чудеснице» – так стал называться балет – был снят и телефильм, а спустя десять лет композитор включил сюиту из балета в программу своего авторского вечера.
Как вспоминала вдова Генриха Романовича, на волне успеха пермскую «Чудесницу» повезли в Москву. Руководство заговорило о том, что «сам Никита Сергеевич…» и прочее, авторам в шутку предлагали уже крутить на лацканах дырки для орденов. Но тут – первый полет человека в космос! Хрущева отвлекли космические торжества, и в театр на пермский спектакль он так и не попал. Правда, работа пермяков была замечена известным столичным специалистом В. Вансловым, который, раскритиковав в целом балетную труппу из Перми за отсутствие самостоятельных спектаклей, написал в рецензии[2]2
В 2007 году, когда доктор искусствоведения директор НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской Академии наук В. В. Ванслов приезжал в Пермь (он участвовал в Международных VII Дягилевских чтениях), я подарил гостю копию той самой статьи. Оказалось, Виктор Владимирович впервые увидел свою статью напечатанной, но он и сегодня придерживается того мнения, что творчество Генриха Терпиловского относится к самым ярким страницам музыкального наследия России.
[Закрыть]:
«В актив театра следует отнести лишь (!) привлекательный детский балет «Чудесница» Г. Терпиловского (балетмейстер К. Есаулова)».


Программы балетов на музыку Г. Терпиловского: «Выстрел» и «Чудесница».
По тем временам такие дифирамбы в центральной прессе дорогого стоили. Оценка В. Ванслова – вот его орден пермскому композитору.
Впрочем, сам Генрих Романович редко расстраивался из-за недостатка знаков внимания. Ведь и в том, «кукурузном» балете, первом из его четырех сочинений для Терпсихоры, Терпиловского увлекла необычность творческой задачи, возможность по-новому выразить себя.
Потом он «разохотится» и сделает еще два «Выстрела»: так назывался балет по рассказу «Сорок первый» Б. Лавренева (постановка М. Газиева) и «Лесная сказка, или Выстрел в лесу».
Но баловнем судьбы автора нельзя назвать, тут его верная подруга Нина Георгиевна была права на все сто процентов.
В лодке провинциального искусства
Легенда о «героических усилиях» Марка Захарова и Генриха Терпиловского «продать Родину»
Во времена хрущевской «оттепели» судьба свела Генриха Терпиловского с молодым режиссером и актером Марком Захаровым, который приехал в Пермь после окончания ГИТИСа по распределению. Можно сказать, они вместе раскачивали лодку провинциального искусства, пытаясь поднять паруса. Им так хотелось хотя б дуновения свежего ветерка со сцены! И однажды вместе получили за это… на орехи.

Марк Захаров в роли Лещева в спектакле «Товарищи-романтики» (пьеса М. Соболя).
Пермь, конец 1950-х годов.
Нынешний руководитель театра «Ленком» уже и забыл, наверно, про тот случай. Но время, когда все происходило, Марк Захаров воспроизвел в своей книге «Контакты на разных уровнях» довольно точно. Он признается, что впервые почувствовал себя режиссером именно в Перми, причем не на сцене местного драматического театра, где получал зарплату, как он пишет, «поразившую его своим великолепием – аж 690 рублей (по старому курсу)».
Тогда Захаров «стал заниматься всем сразу: писать детские стихи для местного издательства, рисовать и печатать карикатуры для молодежной и областной газет, сотрудничать на радио, организовывать в театре «капустники» и выпуски юмористической стенной газеты…». Приходилось и подхалтуривать. Одна из концертных программ, поставленная им во Дворце культуры имени Сталина в 1957 году для эстрадного оркестра, подверглась сокрушительной критике со страниц областной газеты «Молодая гвардия». А оркестром руководил, до своего вынужденного ухода в том же 57-м, Терпиловский. В программу была включена и одна из его песен, «Камское море».

При А. Г. Солдатове, слывшем покровителем искусств, заводской оркестр достиг апогея популярности.
(Маэстро Терпиловский в центре)
В корреспонденции «Под видом художественной самодеятельности» некто И. Любимов, в частности, писал, что «напрасно бы наша молодежь ожидала услышать полюбившиеся ей новые песни Соловьева-Седого, Лепина и Мокроусова». Совсем плохо, с точки зрения рецензента, что не нашлось места ни для одной мелодии шестого Всемирного фестиваля молодежи, «обогатившего сокровищницу народного творчества».
«…Вместо этого слушателям преподносится лоскутная программа, которую не спасают ни развязный «парный» конферанс, ни совместные героические усилия режиссера М. Захарова и художника Г. Навознова». Не понравилось критику прежде всего то, что «патриотической тематике отведено скромное место (два оркестровых произведения и одна песня), слишком скромное, если вспомнить, что эстрадный оркестр готовил программу к сорокалетию Великого Октября!»

Программа первого концерта джаз-оркестра под управлением Генриха Терпиловского.
Молотов, 1949 год
Партийные идеологи, испугавшись резво ворвавшегося свежего ветра, особенно после Московского всемирного фестиваля, решили «закручивать гайки». Со страниц газеты прозвучала острая критика по поводу фиктивного устройства на рабочие специальности музыкантов и других дарований. Джаз-клуб при заводе имени Сталина был организован еще до приезда Терпиловского. При этом специально подчеркивалось, что участники его – «работники завода и члены их семей». Нужно было растить свои кадры, свою «худсамодеятельность». Вот и Терпиловский был принят на предприятие «п/я 211», он же «завод № 19», на должность мастера (!), хотя пригласили его с видами на руководство эстрадным оркестром.
Но когда гром и молнии исходят из ЦК партии… Тут уж пощады не жди, тут «полетел» и свой композитор. Как пишет Марк Захаров, «в то далекое время на разоблачение страшных признаков западной цивилизации – жевательных резинок, безалкогольных напитков типа кока-колы, ритмических танцев, джазовых оркестров, зауженных мужских брюк и ботинок на микропоре – тратились большие усилия, уходило много типографской бумаги и авторского гонорара…».
К идеологическим проработкам Терпиловский был привычен. Но нельзя сказать, к сожалению, что столь частые «промывания мозгов» проходили бесследно. Увы, композитор постепенно отходил от джаза, все чаще ему приходилось зарабатывать сочинением «датских», посвященных торжественным календарным датам, произведений, среди которых редко-редко сверкает бриллиант. Скучно было распевать (сам помню по школьным годам) и «патриотические» песни про то, как «смотрит в Камское море Пермь, наш город родной», и тому подобное гимнообразное…
Тем не менее творец-бунтарь жил в душе Терпиловского…
Под псевдонимом
Терпиловский против Терпиловского
В феврале 1958 года в областной газете «Молодая гвардия» появилась критическая корреспонденция И. Любимова «Под видом художественной самодеятельности». Проходит всего несколько месяцев, и в той же газете публикуются довольно ехидные заметки А. Иванова под названием «Джазы и их покровители» (апрель 1958 года). В них автор прошелся по чиновникам из городского управления культуры, которые грубо и некомпетентно тасовали составы и репертуар джазовых оркестров, игравших в кинотеатрах «Художественный», «Октябрь, «Красная звезда» и «Победа». Впрочем, не поздоровилось и некоторым музыкальным коллективам, которые гнали халтуру. Текст заметок выдавал музыкальную эрудицию автора, знание им предмета разговора и обстановки в оркестрах изнутри. Корреспондент едко прошелся по чинушеству, вкусовщине и капризам, в том числе директоров кинотеатров, выступающих в роли покровителей джаза.
«…Директор кинотеатра «Октябрь» т. Белкин, например, прямо заявил:
– Я люблю джаз. У меня работу получит только джаз-оркестр!»
А. Иванов заступается за оркестр кинотеатра «Художественный», который, начиная с 1949 года, последовательно пропагандировал русских и зарубежных классиков. В репертуаре этого небольшого оркестра были произведения Чайковского, Бородина, лучших советских композиторов.
Но одним росчерком пера у «Художественного» отбирают две штатные единицы и передают их другому кинотеатру. В результате и в фойе «Красной звезды» теперь «…оглушают слушателей лихие фокстроты». Та же обстановка в «Октябре». Критик отмечает также, что оркестры пермских кинотеатров не включаются в работу перед кинопремьерами. «Почему бы, например, перед демонстрацией таких фильмов, как «Коммунист», «Балтийское небо», не исполнять музыку революционных песен тех лет? Между тем дело доходит до курьезов: в зале кинотеатра «Октябрь» идет фильм героического содержания, а в фойе в это время оркестр играет ресторанную музыку типа пресловутого «Каравана»…»
Каково? «Пресловутого «Каравана»! Это о джазовой классике, вечно живой, вечнозеленой…
В итоге все же автор статьи в «Молодой гвардии» приходит к выводу вполне взвешенному. «Нашим слушателям, – пишет А. Иванов, – нужны разные оркестры: и джазовые, и «салонные», и струнные, отличные друг от друга по исполнительской манере и по репертуару. Не надо запрещать джаз, но нельзя же все оркестры кино превращать в джаз!»
В начале января 1959 года появился материал «Критика помогла», под рубрикой «Маленький фельетон». Редакция сообщала, что корреспонденция И. Любимова «Под видом художественной самодеятельности» была перепечатана ежемесячником «Художественная самодеятельность», органом ВЦСПС. И – очередной фельетон. Его автор П. Глебов прошелся по фокусникам из Дворца культуры имени Сталина, которые продолжали заниматься очковтирательством…
Кто же этот фельетонист, кто этот «таинственный трубач»? Оказывается, И. Любимов, А. Иванов и П. Глебов – одно лицо, и этим критиком был… сам Терпиловский.
Что же могло случиться в его уже мирной, пермской жизни, чтобы решиться на смену вида оружия, чтобы добродушный юмор, столь обычный для натуры Терпиловского, ожесточился и заматерел? Чтобы поэт превратился в гневного публициста? Чтобы он решился бичевать недостатки, да еще не под своей фамилией?!

Почетная грамота «тов. Терпиловскому Г. Р.» – в честь 10-летнего юбилея эстрадного оркестра ДК им. Сталина
Во-первых, весной 1958 года он получил полную реабилитацию. Это обстоятельство придавало смелости его критике. Во-вторых, он вынужден был уволиться из Дворца культуры имени Сталина, и случилось это чуть раньше, в конце 1957 года.
Ушел он, вроде бы, тихо и мирно, «по собственному желанию». Незадолго до этого, 11 января 1956 года, в день десятилетия эстрадного оркестра Дворца культуры имени Сталина, от имени тогдашнего руководства «участнику художественной самодеятельности тов. Терпиловскому Г. Р.» даже была вручена Почетная грамота. Грамота роскошная, с барельефами Ленина – Сталина, подписана всей тройкой руководителей завода.
Историю с увольнением Терпиловского хорошо помнят некоторые из музыкантов, работавших с ним. То время помнится в деталях и Анатолию Афанасьевичу Черемных, бывшему саксофонисту оркестра.
– Причин было, наверное, несколько, – размышляет ветеран пермского джаза. – Сменилось руководство завода и самого Дворца. У городских властей появилось желание «навести цензуру» в нашем репертуаре. Люди, не имевшие к культуре и музыке никакого отношения, начали диктовать, навязывать свой вкус. Все это не нравилось Генриху Романовичу, и он ушел.
Музыкант-ветеран вспоминает такой случай. Участница оркестра скрипачка и певица Злата Дубровина, уходя со сцены, помахала залу газовым шарфиком. Все это было вполне в стиле исполняемого номера. Но даже такая деталь не понравилась высокому руководству, посетившему концерт…
Записи в трудовой книжке Терпиловского (документ хранится в ГАПО, в личном фонде В. Ф. Гладышева) подтверждают всю сложность ситуации, все перипетии с трудоустройством недавнего ссыльного в годы так называемой оттепели.

Помимо морального поощрения была и материальная поддержка: путевка на курорт
«…Образование высшее, профессия музыкальный руководитель… Пенсия назначена с 19 мая 1950 г. (по инвалидности. – В. Г.). После приезда в г. Молотов принят на должность мастера в п/я 211 с 1 декабря 1954 г.»
Удивительное совпадение: ровно двадцать лет назад именно в первый декабрьский день был убит С. М. Киров. Это событие все перевернуло в судьбе Терпиловского, как и тысяч других ленинградцев, и не только их…
Далее на страницах трудовой книжки следует пропуск: ссылка, начиная с 1950 по 1954 год, просто не внесена в сей документ. А послессыльный период начинается со строки:
«1954, декабрь. Переведен во Дворец культуры пом. директора по кадрам».
И тут же:
«…принят на работу в качестве руководителя эстрадного оркестра Молотовского Дворца культуры им. Сталина».
И следующая запись:
«1957 год, 22 марта. Уволен по собственному желанию».
Затем идут записи о работе в кинотеатрах «Победа», «Октябрь» – по году, по два. Уволили руководителя оркестра кинотеатра «Октябрь» в июне 1960-го «по сокращению штатов». Терпиловский перешел на работу в областной драмтеатр. Но работал, жил, и смыслом жизни оставалась музыка.
…Авторство резких статей несомненно: композитор собственноручно засвидетельствовал это в списке критических публикаций и рецензий. Список озаглавлен им так: «Свои сочинения». Генрих Романович вел его аккуратно, все годы, начиная с 1958-го и заканчивая 1988-м. Пропущены только два года, 1967-й и 1968-й, но с 1969 года в областном центре начинает выходить газета «Вечерняя Пермь», и музыкальный критик Г. Терпиловский часто выступает со статьями и заметками на ее страницах. Последняя запись сделана им о публикации воспоминаний «Джазовый рассвет над Невой», незадолго до кончины: «Сов. эстрада и цирк. 1988. № 6».
Все три публикации, с которых мы начали данную главу, внесены им в список с пометкой «Под псевдонимом». Это было только трижды, больше он ни разу не скрывал свое имя, критиковал так сказать с открытым забралом. Но, видимо, почувствовав себя в амплуа злого сатирика не очень уютно, Генрих Терпиловский к этому виду журналистского творчества больше не обращался.
Главное достоинство критического наследия Генриха Романовича Терпиловского заключается в том, что он считал своим долгом не только критиковать – делать замечания, указывать на ошибки, но и поддерживать молодых исполнителей, советовать опытным музыкантам, независимо, был ли рожден музыкальный коллектив на пермской земле или приехал на берега Камы с гастролями.
В 1960–70-х годах самой широкой известностью пользовался ленинградский джаз-оркестр под управлением Иосифа Вайнштейна. Генрих Терпиловский написал в местной газете об этих талантливых музыкантах в статье «Цитадель джаза» (январь 1971 года):
«Для исполнителя-профессионала самое главное – не что он играет, а как он играет. Опытному джазовому солисту аранжировка служит лишь трамплином для свободной импровизации…»
Оценки музыкального критика были точны, а советы исполнителям вполне доброжелательны и стратегически выверены. Судя по всему, отклик из Перми дошел до Ленинграда. В фонотеке Г. Терпиловского появился диск с записями оркестра. На конверте – автограф руководителя: «Ветерану советского джаза нашему большому другу Генриху Романовичу Терпиловскому в знак искреннего уважения. И. Вайнштейн. Ленинград – Пермь, 1971–1973».
«Уджазно!»
Легенда об измене джазу
Били его в течение всей жизни немало. Генрих Романович иногда отшучивался: мол, за битого двух небитых дают. Никто не сможет сегодня сказать, сколько он претерпел и за свою любовь к джазу. В Советском Союзе эта «неродная» музыка подвергалась гонениям неоднократно, ее поклонников преследовали – то как космополитов, то как стиляг. Однажды мне довелось услышать странное утверждение, что Терпиловский-де не случайно стал писать песни, гимны и балеты. Под влиянием перманентно повторявшихся атак композитор отказался от своей первой любви в музыке, фактически изменил джазу.
В стихах Терпиловскому удавалось выразить свои пристрастия в музыке иногда естественнее, чем в других сферах искусства. Он писал, как дышал:
Песни легкие, как газ,
Песни знойные, как пламень,
Песни мощные, как камень,
Вот что значит слово «Джаз»…
Терпиловский не изменял джазу, нет. Он в нем работал, хоть и с вынужденными перерывами, серьезно, на крепком профессиональном уровне. Не случайно его произведения любили исполнять оперные певцы. До войны, как уже говорилось, бас Борис Фрейдков в Ленинграде пел песни Терпиловского на стихи Ленгстона Хьюза. После войны, уже в Перми, песню-балладу о королеве блюза Бесси Смит исполняла солистка оперного театра Клавдия Кудряшова, народная артистка СССР. Позднее полюбил творчество Терпиловского и артист пермской оперы бас Михаил Кит, ныне солист Мариинки.
На пермской почве нападки на джазистов тем не менее продолжались. В конце 50-х при местной филармонии был создан небольшой джаз-ансамбль. Впервые! Но просуществовал коллектив очень недолго: как оказалось, его расформировали «за отсутствием штатного расписания». Эстрадные коллективы, группы могли существовать, играть легкую музыку, пропагандировать песни советских композиторов. Для джаза «штатного расписания» не существовало.
Расстроенный композитор написал после такого фиаско:
«Профессиональные круги города не могут гордиться сколь либо серьезным вкладом ни в джаз, ни в развлекательную музыку. «Лучше плохая опера, чем хорошая оперетка» – такое, с позволения сказать, эстетическое кредо обнародовали в 19-м веке «Пермские губернские ведомости». Теперь, конечно, никто такого не сказанет, да еще в прессе. Но кое-что от «пуританизма» дореволюционных отцов города осталось. Сметами предусмотрены симфонический и камерный оркестры (и это очень радостно), но джаз в коммерческом отношении полностью беспризорен. Его питательной средой в Перми служат широкие любительские круги…»
Так вот, этому «беспризорному» джазу Терпиловский не изменял и тогда, когда возраст, здоровье уже не позволяли ему творить в полную меру как композитору. Он служил музыке верой и правдой как журналист, музыкальный обозреватель. Огромный список публикаций (который Генрих Романович вел очень скрупулезно) способен поразить воображение любого (см. Приложение).
О незыблемом пристрастии к легкой музыке свидетельствует и такой факт. Однажды Терпиловский провел собственное расследование (закопавшись в архивы), решив распутать дело по обвинению Аркадия Гайдара. В годы НЭПа писатель работал в «Звезде» и в одном из фельетонов позволил себе поиздеваться над следователем, который играл по ночам в оркестре ресторана «Восторг». Позднее все исследователи защищали Гайдара. Суд (следователь привлек фельетониста «за клевету и оскорбление») приговорил тогда Голикова (Гайдара) к лишению свободы сроком на одну неделю, но посчитал возможным заменить срок на общественное порицание. А в отношении следователя-музыканта было вынесено решение: копию приговора направить в дисциплинарную коллегию для привлечения к ответственности как судебного работника.
Подобное «совместительство» (народный следователь играет в ресторане!..) всем казалось немыслимым. Всем. Кроме Терпиловского. Он сделал свои выводы из той давней истории, но, конечно, лишь для себя. То, что его симпатии оказались не на стороне ставшего знаменитым писателя, можно, наверно, и не добавлять. Опубликовать свои результаты расследования ему, конечно, не удалось…

С молодыми единомышленниками.
Крайний справа – Олег Плотников, руководитель «Уральского диксиленда»
(Челябинск)
В архиве музыканта сохранились и газетные вырезки о нашумевшей истории с семейным джаз-ансамблем «Семь братьев», или «Семь Симеонов». Это когда юные вундеркинды, уже известные на просторах Отечества музыканты, ведомые родной матерью, решили перебраться за границу. Угнали самолет, пошли на кровавое преступление. Много позже, два десятка лет спустя, об этих драматических событиях снимут психологический триллер «Мама», с Нонной Мордюковой в главной роли. Ансамбль назван в картине «Веселая семейка». Не знаю, что думал Генрих Романович по этому поводу, к каким выводам пришел, изучая трагедию, потрясшую «весь советский народ». Записей он на эту тему не оставил. Но мне почему-то думается, что выводы Терпиловского были более глубокие, более выстраданные, чем у прокуроров и журналистов. Видимо, потому-то и не записал он свои соображения, что казались они слишком несовременными, не в духе обстановки тех лет.
Медленно, но верно музыка Терпиловского находит своего ценителя. Выберем из списка крупных сочинений композитора (списка, весьма критично и собственноручно им составленного) работу под названием «Молодость Кубы» (1980), жанр – симфоническая фреска. Вдохновенная вещь. Но, помимо вдохновения, от автора потребовались немало знаний, большая музыкальная эрудиция. Творческая кухня Терпиловского позволяет понять, как основательно он подходил к творческому заданию и сколь уважительно относился к наследию других народов. В его архиве сохранился обстоятельный труд по истории кубинского фольклора, по народным инструментам. Он обращается к своему брату Лешеку с просьбой поделиться впечатлениями от поездки на Кубу…
В путевых записках о посещении «острова Свободы», как называли в те годы Кубу, Лешек пишет о многом, и все в своем ироничном тоне (перевод с польского Е. Капелюша):
«…Трудно, пожалуй, согласиться с Эдвардом (попутчик, также джазмен. – В. Г.), который философски констатировал, что в таких условиях даже автор книжечки «Четыре танкиста и собака», если бы поднапрягся, доработался бы до славы Хемингуэя. Послушать же – если кто-то еще на этом свете верит в неприукрашенный фольклор – можно немногое и лишь под свою ответственность. Посетили запущенную хату-бунгало, в которой, кажется, двери прогнулись из-за вони (прямо какой-то заповедник времен правления Батисты, нагло нарушающий порядок!). И старый кубинец ангольского происхождения (так сам себя представляет), некий народный артист Эмилио, принадлежащий вместе с сыновьями, дочерью и дедушкой к «обществу сыновей праздника Хуана», выдает нам образцы игры на конгах (ударные инструменты. – Прим. ред.), танца и пения. Из этого юмористического мероприятия мы запомнили припев: «А ла вила ай-ай!» И грозное урчание: «La palumba!» («Ла палумба!» Ну, блин, это бомба!»

Перед первой записью на телевидении в передачу «Голубой огонек»
Вот из «такого сора», говоря словами Ахматовой, рождалась симфоническая фреска.
А еще в багаже Г. Р. Терпиловского есть «Мексиканская рапсодия», пьеса «В мексиканской деревушке». Можно только догадываться, почему композитора неудержимо «потянуло на экзотику», но поиск новых музыкальных красок, средств выражения чувств, как дуновение ветерка, придал свежесть его творчеству.
И – представьте себе! – через много лет тот самый напев, услышанный Лехом Терпиловским в кубинском бунгало, куда перенесся силой воображения и наш композитор, с «грозным урчанием» La palumba! и немыслимыми танцевальными па, был исполнен почти сразу после перевода текста на русский язык на встрече членов клуба «Пермский краевед» с обществом польской культуры. Поистине зажигательные ритмы увлекли всех присутствовавших.
Говоря о многогранном творческом наследии Г. Р. Терпиловского, до сих пор мало востребованном, нужно обязательно отослать будущего исследователя к циклу критических статей, очерков, написанных им для различных газет и журналов, а также к книге об истории джаза, над которой он работал последние двадцать с лишним лет и которую так и не успел закончить. В том, что книга у него могла бы получиться, убеждают многое из того, что он успел написать, «обкатать» через газету, и отзывы первых читателей и коллег.
Композитор Игорь Якушенко, руководивший в 1980-е годы популярным эстрадно-симфоническим оркестром, в письме от 13 апреля 1982 года признается Терпиловскому, с которым дружил много лет:
«…Сажусь писать – и исчезает эта атмосфера общения с аудиторией, дающая мне тонус, и чувствую: моя писанина – казенная и скучная. Вот так и мучаюсь. Все же я больше исполнитель-импровизатор (и в музыке, и в слове), чем ученый-исследователь.
А вот у тебя статьи хорошо получаются, и язык свежий, и образы, аналогии убедительные. Это относится и к статье о нас (о гастролях оркестра. – В. Г.), и в особенности к статье о Лукьянове, где ты убедительно вскрыл его сильные и слабые стороны. Уверен, что если ты начнешь писать воспоминания, у тебя это здорово получится. Но ты прав, торопиться не следует, надо настроиться на это, внутренне созреть, тогда все пойдет как по маслу (которого у вас в Перми так мало!)».
В том, что Генрих Романович настроился на нужный лад, говорят фрагменты его воспоминаний «Джазовые рассветы над Невой» и «Мои встречи с Сергеем Колбасьевым» (см. Часть 3).







