Танец души:Стихотворения и поэмы.
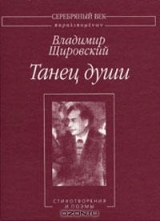
Текст книги "Танец души:Стихотворения и поэмы."
Автор книги: Владимир Щировский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
«В балетной студии, где пахнет как в предбаннике…»
В балетной студии, где пахнет как в предбаннике,
Где слишком много света и тепла,
Где вьются незнакомые ботанике
Живых цветов громадные тела.
Где много раз не в шутку опозорены,
Но всё ж на диво нам сохранены,
Еще блистают ножки Терпсихорины
И на колетах блещут галуны;
Где стынет рукописная Коппелия,
Где грязное на пультах полотно,
Где кажется вершиной виноделия
Бесхитростное хлебное вино,
Где стойко плачут демоны ли, струны ли,
Где больше нет ни счастья, ни тоски,
Где что-то нам нездешнее подсунули.
Где всё не так, где все не по-людски, —
В балетной студни, где дети перехвалены,
Где постоянно не хватает слов, —
Твоих ногтей банальные миндалины
Я за иное принимать готов.
И трудно шевелиться в гуще воздуха,
И ведьмы не скрывают ржавых косм,
И всё живет без паузы, без роздыха
Безвыходный, бессрочный микрокосм.
1939
«Осень, некуда кинуться нам со всех ног…»
Осень, некуда кинуться нам со всех ног.
Нет для нас подходящего сада.
Нет теплицы, где вырос бы желчный цветок –
Ботанической ереси чадо.
Осень. Звонко горланят по школьным дворам
Красноносые дошлые дети.
По квартирам не счесть оглушительных драм:
Здесь Монтекки, а там Капулетти.
Осень. Время призыва, отправки в войска,
Время поисков топлива, время
Желтизны у листвы, седины у виска
И презрительной дружбы со всеми.
О, душа, недотрога, возьми свой лорнет,
Запотевшее стеклышко вытри.
Видишь краски, которых подобия нет
На бессмертной фабричной палитре.
Серый полдень, сугубая плотность дождей,
Населенье в блестящих калошах,
Море выглядит Мафусаила седей.
Просит песен, но только хороших.
В эти дни я пленяюсь своей правотой,
Заурядной, бессовестной, гиблой,
Триумфальной, заветно-блистающей, той,
Что скрепляет незыблемость библий
1940,Керчь
ТАНЕЦ ЛЕГКОМЫСЛЕННОЙ ДЕВУШКИ
«Когда я был аркадским принцем»,
Когда я был таким-сяким,
И детским розовым гостинцем
Казалась страсть рукам моим.
Зашел я как-то выпить пива
В один неважный ресторан.
Носились официанты живо,
Качался джаз, потел стакан.
Сгибались склеенные пары,
Вперед вдвоем, назад вдвоем.
Как отдаленные гитары,
Звенели мысли ни о чем.
И стоит ли тому дивиться,
Что в томном танце надо мной
Одна румяная девица
Сверкнула голою спиной.
Так сладко стало мне и больно,
Что я, забыв свое питье,
Благоговейно, богомольно
Взглянул на рожицу ее.
Курносая, в прекрасном платье,
Вся помесь стервы с божеством…
О, как хотелось мне сказать ей:
– Укрась собой мой скучный дом,
Развесели меня скандалом
Со злой соседкой у плиты,
Дабы не завелись мечты
В житьишке каверзном и малом…
И губки лживые твои
Целуя тысячу раз кряду,
Здесь в мимолетном бытии
Я затанцуюсь до упаду.
1940
ТАНЕЦ БАБОЧКИ
Кончен день. Котлеты скушаны.
Скучный вечер при дверях.
Что мне песенки Марфушины,
Ногти дам, штаны нерях?
Старый клуб отделан заново –
На концерт бы заглянуть –
Выйдет Галочка Степанова
И станцует что-нибудь.
Дева скачет, гнется ивою,
Врет рояль – басы не те.
Человечество шутливое
Крупно шутит в темноте.
И на мерзость мерзость нижется,
И троится мутный ком,
И отверженная ижица
Лезет в азбуку силком.
Но я верю, что не всуе мы
Терпим боль и борем страх –
Мотылек неописуемый
В сине-розовых лучах.
Чучело седого филина
Не пугается обид,
Но, булавкою пришпилена,
Бабочка еще дрожит…
Что ж, кончай развоплощение,
Костюмерше крылья сдай.
Это смерть, но тем не менее
Все-таки дорога в рай.
Выходи в дорогу дальнюю,
Вечер шумен и игрист,
На площадку танцевальную,
Где играет баянист.
1939,Керчь
ТАНЕЦ ДУШИ
А.Р.
В белых снежинках метелицы, в инее,
Падающем, воротник пороша,
Став после смерти безвестной святынею,
Гибко и скромно танцует душа.
Не корифейкой, не гордою примою
В милом балете родимой зимы –
Веет душа дебютанткой незримою,
Райским придатком земной кутерьмы.
Ей, принесенной декабрьскою тучею,
В этом бесплодном немом бытии
Припоминаются разные случаи –
Трудно забыть похожденья свои.
Всё – как женилась, шутила и плакала,
Злилась, старела, любила детей, –
Бред, лепетанье плохого оракула,
Быта похабней и неба пустей…
Что перед этой случайной могилою
Ласки, беседы, победы, пиры?
Крепкое Нечто с нездешнею силою
Стукнуло, кинуло в тартарары.
В белом сугробе сияет расселина,
И не припомнить ей скучную быль –
То ли была она где-то расстреляна,
То ли попала под автомобиль.
Надо ль ей было казаться столь тонкою,
К девам неверным спешить под луной,
Чтоб залететь ординарной душонкою
В кордебалет завирухи ночной.
Нет, и посмертной надежды не брошу я,
Будет Маруся идти из кино –
Мне вместе с предновогодней порошею
В очи ее залететь суждено.
1 января 1941
ТАНЕЦ МЕДВЕДЯ
Перьям и белым страницам, кистям и просторным полотнам,
Нет, не завидую я, хоть участь свою и кляну.
В мире животных я стал неизящным животным.
Бурым медведем сижу я в дурацком плену.
В старом Париже я был театральным танцором.
Жил небогато, был набожен, сыт и одет…
Склокам актерским конец… Конец оркестровым раздорам –
Хитрый Люлли сочинил королевский балет.
Я танцевал в эти годы красиво и ловко,
Был на виду у придворных скучающих дам.
Ты мне была несравненной партнершей, чертовка,
Я и теперь тебе сердце медвежье отдам.
Помню я всё: как тебя увозили в карете,
В белой карете с опасным и громким гербом.
Помню, как ты возвратилась ко мне на рассвете…
Но почему-то не помню, что было потом.
Ты ли меня беззаветным враньем утомила,
Сердце ль мое разорвалось от горя любви…
Прутьями клетки моя обернулась могила,
Силы бессмертные мне повелели – живи!
Смотрят меня пионеры, студенты, зеваки,
Мужние жены мне черствые булки суют,
Натуралисты вторгаются паки и паки
В зоологический мой безлюбовный приют.
Изредка только под модной ужимкою шляпы,
Мнится, узнал я сиянье трагических глаз,
И поднимаюсь тогда я на задние лапы,
И начинаю забавный и жалобный пляс.
1940-1941
ВАЛЬС ГРИБОЕДОВА
А.Р.
Карету мне! Карету!
Завтра вечером в восемь часов
Заверну я к тебе попрощаться.
Ясен ум. Чемодан мой готов,
Завтра я уезжаю, как Чацкий.
Будет поезд греметь и качаться, –
Подвижной, неустойчивый кров.
Что сказать? Молви мне: «Будь здоров!»
Завтра я уезжаю, как Чацкий.
Кем я стану во мнении дам,
В завидущих глазах старушонок?
Не к лицу мне идти по следам
Душ кривых и сердец устрашенных.
Вот твой голос – он полон и звонок,
Вот твой облик, присущий пирам,
Говорливому множеству драм
Душ кривых и сердец устрашенных.
Ну, а я от живой мелюзги,
От приморского скучного сада,
От сердец, где не видно ни зги,
От тоски сведенборгова ада
Уезжаю – и плакать не надо.
В ресторанчике зарево вин,
Ходят воры и врут златоусты.
Я гулял и заметил один
Уголок оскорбленному чувству.
Шел снежок, не спеша и не густо…
Елки в святости зимних седин…
И трудящийся рыл гражданин
Уголок оскорбленному чувству.
Но до этого мне далеко…
От любви умирают не часто.
Балерина в телесном трико
Даст мне ручку белей алебастра.
Даст мне нежную ручку – и баста!..
Предрассветных небес молоко,
Дальний вальс утихает легко…
От любви умирают не часто.
1941
НИЧТО
Ничто… Пусть пролегло оно
Для любопытства грозной гранью…
Пусть бытие его темно
И заповедано сознанью.
Истлел герой – возрос лопух.
Смерть каждой плоти плодотворна.
И ливни, оживляя зерна,
Проходят по следам засух.
1941, Керчь
«Или око хочет, кои веки…»
Или око хочет, кои веки,
Не взирать на мрачные харчи,
Или Гитлер жжет библиотеки,
Или кот мурлычет на печи,
Или телу розовых царапин
Надобно. Какая чепуха.
Или снова голосит Шаляпин
«Жил-был король
И у него жила блоха…»
Нет, гряди в смиренную обитель,
В новый быт медвежьего угла,
Средних лет делопроизводитель,
И начни производить дела.
Средних лет, подержанный и близкий,
Днесь навеки ты любезен мне
Ловким слогом дельной переписки,
Верностью пенатам и жене.
1940-1941
«О, молодость моя невозвратимая!..»
О, молодость моя невозвратимая!
Невозвратима или невозвратна?
Нет, прежде чем рыдать, я руки вымою,
Чернильные смывая с пальцев пятна…
Из комнаты я выжну парфюмерию
И окись поцелуев из подушек,
Свою наличность взвешу и измеряю…
Но как скупца она меня задушит,
Она меня приспит, как мать младенчика,
Убьет заторможенным изобильем.
Я не спасусь не дачею бревенчатой,
Ни ваннами, ни молоком кобыльим.
Она меня сведет к сухому пению,
К запутанным и некрасивым невмам…
Как будто бы повержен на колени я
В богослуженье горестном и гневном.
Печаль отцов, молва ученых чижиков,
В кровавую кошелку полезай-ка.
Близь шашлыков, среди лимонов выжатых
Раскрыт «Подарок молодым хозяйкам».
1941
МОЛИТВА О ДИКОСТИ
От болот с огненосными торфами
Отлетит ночь.
Ужаснет исступленными арфами
Жителей дач.
На железобетонные нужники
Наляжет ночь.
И похабные тощие бражники
Воспляшут вскачь.
Ты меня византийскими ризами
Коснешься, ночь,
Старой девы над чахлыми розами
Раздастся плач.
И, чреватая блудом и кражами,
Иссякнет ночь.
И возблещет над свежими рожами
Рассвет удач.
Но кто не спавший выйдет на рассвете,
Перегорев от страсти, от водки или просто так перегорев,
Тот может вдруг отвергнуть штуки эти –
Веселые трамваи,
Гудки заводов,
Каблучки деловитых дев.
Тот не поймет – чему же тело радо?
Буддийской ломоте в костях –
Предвестию священных льгот?
Вдруг прянет пьяный бред – Голконда, Эльдорадо,
Но ничему не удивится тот.
Придя домой,
Он ляжет на диван и молвит: «Да уйдите ж,
Досадные коты и человеки! Я хочу спать…»
И, погружаясь в сон, в холодный чистый Китеж,
Еще не захлебнувшись, помолится так:
…………………………………………………
«Где над людской помойкой в гуле…»
Где над людской помойкой в гуле,
Звуча, присутствовали пули,
Зачем мне было иго баб,
Зачем я был смешон и слаб,
Зачем казались мне легки
Стихи, чулки и коньяки?
Страстной Четверг, страстной Четверг!
Ты улыбнулся и померк,
И я тебя опять отверг…
Но вдруг заметил я, как мало
Осталось юности в сердцах,
А только лишь смешно и ало
Флажки танцуют на домах.
Да, жизнь назвали новым бытом,
Корыто стало вновь разбитым,
И я заплакал над корытом…
………………………………….
Страстной Четверг. Кого проклясть.
В сем <…> и постыдном хоре.
Где иллюстрируется страсть
Рисуночками на заборе?
Был дом и был Страстной Четверг,
И это всё я вдруг отверг.
Как зачарованный Эдил,
Я переулками бродил,
Я в диких звездах ночевал,
И снился мне за балом бал,
За валом вал,
За лалом лал.
Как были некогда милы
Детей безгрешные балы,
Как были некогда светлы
В Крыму прибрежные валы,
Как горько губы охлаждал,
А сам мечтательно пылал
В кольце девичьем подлый лал…
Я свой разыгрывал финал,
Я ноги женщин заклинал,
Страдал – и отойти не мог
От незаклятых женских ног.
И губы, жёсток и жесток,
Терзал трагический чулок,
И было всё – коньяк и ночь.
А этому нельзя помочь…
О, где ты, всероссийский морг,
Где трупный теплился восторг?
Вдали, как маленький орешек,
Парит земля, на ней весна,
И бродят табуны усмешек
И вольной грусти племена.
А над предместьями тумана,
Над приголосом тихих птах
Всё ж неразгневанно, но рьяно
Скорбит Царевна-Несмеяна,
Храня сапфиры на перстах…
ВСТУПЛЕНИЕ
Через труд или торг – от лобзанья до праха.
Чудаку на земле – не сносить головы.
Дух Аспазии примет козловская ряха
И зеницами Лесбии глянете Вы.
Слесарям и доцентам, кокеткам и сводням –
Вавилонский уют, и чума, и сурьма;
Чистым варварским снегом, вином новогодним
Не стесняясь, для всех расшибется зима.
И стихи уврачует чернавка-помарка,
И с усталой конякой сдружится узда,
И сверх всех разумений, но ясно, но ярко
Загорится на небе дневная звезда.
Как бездумно. Как вольно. Да будет Вам сладок
Этот крохотный мир без добра и без зла,
Где незримых хозяев холодный порядок
Избавляет от смысла слова и дела.
Где дано нежноокой и ласковой кошке
Ближней мышью своею налопаться всласть,
Где дырявый чулок на девической ножке
Научает смиренному юмору страсть.
«Блуждают страстные собаки…»
Блуждают страстные собаки,
Приходит ветер от зимы,
Сребрятся смертной скорби знаки
В бровях не знающих сурьмы…
Пойду в надсовестные мраки
В твои, любовь, хмельные тьмы.
Не верю снам, гоню гадалок,
И в мире мне всего милей –
В ледащей комнате диалог
Двух полнозвучных хрусталей,
И торжество хмельного бреда
Над хамством следствий и причин,
И беспредельная беседа
Друг другу снящихся личин…
Вот правда: хруст каленых корок
И здравый голод едока.
А Вы – Вы только грех и морок
Осуществившийся слегка.
Ах, батюшки, плоха жар-птица,
Глупа лирическая Русь…
Вот – я попробую молиться,
Я крепким детством обойдусь –
Чтоб в церкви старенький пресвитер
Мне злую чару объяснил,
И причастил, и губы вытер,
И на тоску благословил.
ДИАЛОГ С ЛЮБОВЬЮ
А.Рагозиной
О, любовь, от души моей изгнанница,
Любовь моя,
Умиленная и припадочная –
Выйди вон.
Чадо тягостное, препоясанное сумерками
Вглядись в жизнь.
Испугайся индустриализации,
Увидь смерть.
Тяжкие службы, снежок, скандал, метелица,
Улица, метелица –
Ах!
Красных девиц фетровые боты поскрипывают –
«День ли царит,
Тишина ли ночная»…
– О Юдифях разных и Данилах
Возопишь ко мне издалека,
Заскорбишь, чудак – персты в чернилах,
Весь осыпан пеплом табака…
Но пока спокойною рукою
Ощути теплынь младой руки,
Я – тиха. Цени меня такою.
Сны мои блаженны и легки.
Душное взнуздай мечтой желанье,
Голову бессильно запрокинь
И, закрыв глаза, размерь дыханье…
Вдруг увидишь сказочную синь
Пышного неба над старомодный садом,
Геральдику звезд, завитушки барских куртин.
Дважды брехнет пес, сильнее сосредоточься:
Живет только робкая рука под твоею рукой.
Не отвлекаясь ничем, живи размеренно и безгрешно,
Сознавай возможное, но не торопись осуществить.
В купинах непролазных дремучего сада,
В на минуту даруемом этом бреду.
Будь бережен и медлителен…
А то смешно и грубо
В ночи прильнут к тебе
Целующие губы,
Подвластные судьбе.
Ничтожно и лукаво,
Кристаллы сна дробя,
Предвечная забава
Обрадует тебя.
И потаскухин ботик
Тебя надменно пнет,
И книжицей эротик
Твоя весна мелькнет.
И глупо, глупо, глупо
Посередине дня
Перед тарелкой супа
Ты плюнешь на меня.
– Завирается любовь, завирается.
Ничего не пойму.
Вот перегорит моя бессонница,
И опять –
Тяжкие службы, снежок, скандал, метелица,
Улица, метелица –
Ах!
Красных девиц фетровые боты поскрипывают –
«День ли царит,
Тишина ли ночная»…
«Мне голос был: “Я утомлен и…”»
Мне голос был: «Я утомлен и
Мне надоел твоих домашних плач:
Всю жизнь ты жил посредственным (влюбленным),
Воскресни и соседей околпачь».
Тогда, как Лазарь, вышедши из гроба,
Я стал ходить, волнуясь и куря,
И понял, что глядеть здесь надо в оба.
Не хныкать и не завираться зря.
Я поселился в девственном подвале –
Уступчивый, сонливый чародей,
И к ужину в окошко заплывали
Виденья феодальных стерлядей.
За жаркий пляж, за виноград и дыни,
За всех мещан, плодящихся окрест,
За пустоту в родительском камине,
За примуса космический оркестр,
За веянье высоковольтных юбок,
Не опаливших ни души, ни щек,
Из тьмы веков подняв Катуллов кубок,
Я пью испепеляющий глоток.
«Я хочу умереть, мне уже надоело…»
Я хочу умереть, мне уже надоело
Каждый день всё кого-нибудь разлюблять,
Одевать и кормить это скучное тело,
Вешать брюки на стул и ложиться в кровать.
Всё не ново и грустно, но всё же невольно
Я читаю стихи и пишу я стихи,
Будто мне пламенеть и зевать не довольно,
Будто в жизни бывают низы и верхи…
Ах, как скучно. Гремит дождевая баллада…
О, любезная крыша, живут под тобой.
Да и кроме тебя ничего мне не надо,
Ибо кончена битва, и сыгран отбой.
Засыпаю, усталый от красных и рыжих…
И единственный сон много лет берегу:
В белой шапочке девушка едет на лыжах,
Пахнет елкой и сумрак лежит на снегу.
ПОЭМЫ
НИЧТО
Был дом и был Страстной Четверг.
В.Щ.
Разве я плачу о тех, кто умер?
Плачу о тех, кому долго жить
М. Волошин. Бойня
Посвящается Е.Н. Щировской
I
Вблизи лесов и нив у ветреной речонки,
Средь сада нежного стоял прекрасный дом,
Бессчетно много раз лучился месяц тонкий
И годы двигались пристойным чередом.
Дыханьем бережным приветной Мнемозины,
Для старческой души целительным теплом
Здесь согревалось всё – и книги, и картины,
Все вещи вещие, все комнаты… Весь дом.
И дома милого касался ветер вьюги,
И трубы посещал, и вопиял в ночи,
И к окнам припадал, поспешный и упругий,
И демонов являл при темноте свечи.
И дома милого вокруг гостило лето,
И дому милому свежо цвели цветы…
Я много раз тебе рассказывал про это
И, может быть, теперь уже зеваешь ты.
Тот дом во мне живет, как роковая завязь
Всех склонностей моих, Любовей и красот,
У Пасхи розовой тихонько окровавясь,
Закатом мартовским тот дом во мне живет.
О время! Fin de siecle! Упадочные моды!
Единый Божий жест – и вдунута душа;
И юноша-студент берет дары свободы,
Лукавя старикам и милых дам смеша.
Ему слуга несет всё счастье тонкой пищи;
Он напивается, он весело блудит;
В запретные часы по ресторанам рыщет;
Сквозь умное пенсне в нездешнее глядит.
В театре бархат лож, прияв персону франта,
Покоит барский зад и тешит взор, когда
Свет рампы падает на ножки фигуранток
И шепчет Купидон: – глядите, господа…
Так младость протекла, успешно и банально.
И начались труды, чины и ордена…
И может быть, он знал, что это всё печально,
По крайней мере, он не разлюбил вина.
Но опыт на висках рисунками склероза
Многозначительно и грустно проступил.
Что ножки и чины, что алгебра и роза,
Когда приходят дни иссякновенья сил?
Люблю его таким: учтив, насмешлив, мрачен.
История же прет, томами громоздясь, –
Вот губернатором куда-то он назначен…
Вкруг – агитаторы, свободолюбцы, мразь…
В аспекте вечности – вся жизнь не стоит гнева,
А все-таки я злюсь и все-таки тоска.
Как скучно допустить, что испражнялась Ева!
Для скуки этакой и вечность коротка.
И стал он стариком. Устал, ушел в отставку,
Женился в старости и породил меня.
Бог нового в игрушечную лавку
Ввел покупателя, пленяя и дразня.
А мой отец тогда, надев косоворотку.
Нашел себе игру в работе столяра.
Он сотворил мне меч, и арбалет и лодку,
Он сотворил мне всё, к чему звала игра.
Таков был мой отец, а мать была иная,
Неведомая мне, и что о ней сказать,
Свежо любя ее, я до сих пор не знаю:
Неясная досель не прояснилась мать.
Я в детстве прочитал стихи из отчей книги:
«Есть упоение, – гласят они, – в бою».
С тех детских пор их смысл я набожно таю –
Предчувствия чумы незримые вериги.
Рожденные со мной, в один и тот же год,
Вы, сверстники мои, младенчики чумные,
Хромающие здесь на поприще свобод,
Танцующие здесь под мутным взором змия, –
Ничто вас не спасет, издохнете и вы,
Как издыхаю я – бесславно и вонюче.
О, как прекрасна смерть червя или травы,
Свободного цветка или звезды падучей!
Я в детстве был любим. Лелеяли меня.
Лилеями меня моя река встречала.
Шептали: «баловник… Ему деньского дня
Для баловства его как будто бы уж мало…»
Я прочно был внедрен в мои младые дни.
Куда как сладок был деньской полон дитяти.
А ночью ангел жил за пологом кровати.
Он был как девочка и прятался в тени.
Позднее я узнал могущество рояля.
Я в звук ушел, как в грех – ликуя и страшась.
Но звук был зол: он влек, восторжностью печаля
И горней чистотой затаптывая в грязь.
Так до сих пор меня еще гнетет Бетховен,
Мне ясный ближе Бах. Я полюбил Рамо.
Я внемлю и смеюсь: мир скучен и греховен,
Но в звуках «Coeur de Lion» отсутствует дерьмо.
Дни революции я встретил с красным флагом
Семи лет от роду. Младешенек и глуп.
Семейственным своим тогда ареопагом
Быв горько выруган, я скромно плакал в суп.
Почто над сумраком летал кровавый петел,
Что старшим виделось поверх юродств и бед,
К чему в младенчестве я смерть свою приветил
Кровавой тряпкою? Откуда мне ответ?
Кто умер, кто убит, кого обворовали,
Кто сам стал убивать, кто сам обворовал…
Ну, во все тяжкие! Империя в развале,
Сыны империи приветствуют развал.
Пошел здесь свальный грех. Созвали учредилку,
Пошли смердеть, кричать, насиловать сестер…
В златые эти дни я жил легко и пылко,
Как будто бы глаза для гибели протер.
Так строилась душа. Тифозными мечтами
Был свергнут Андерсен. Скончался мой отец.
Я стал читать Дюма. И пронеслась над нами
Румяная чума. И на крутое пламя
Людишки глянули зеницами овец.
А после всё прошло, утихло понемножку.
Торговкой стала мать. Я в школу стал ходить.
Жизнь пригласила: жри. Воткнула в руки ложку.
У современников поисплясалась прыть.
II
Я отрок, школьник и поэт,
Я декадент и эрудит,
Свинцовый привкус прошлых лет
Младые губы холодит.
В советской школе тех времен
Цвели свобода и сумбур.
В одну из краснощеких дур
Я, отрок, был тогда влюблен.
Как датский принц, я мрачен был.
Она была вельми курноса.
Ломился в вечность первый пыл,
Носился сердцем без износа.
О, Ксения, я умерщвлен:
Тебя целуют инженеры…
О, козлогласие племен
В отсутствие царя и веры!
О, Ксения, я горько сплю.
Тебя употребляют мрази…
О, вы, покорные рублю
Исчадья здешних безобразий.
А ты, от отроческих лет
Мой нежный друг, мой тихий Саша?
Тебе ли нашей муки чаша?
Не может быть, не верю, нет.
Ужели в ДОПРе ты сидишь,
Питая вшей и греясь чаем,
И изучаешь горний шиш,
Который все мы изучаем?
А помнишь, милый, помнишь те
Академические бреды?
О суете и красоте
Многоглагольные беседы?
Царит ли снег, течет ли грязь,
Блестят ли под дождем каменья, –
Поплевывая и виясь,
Спешит белесое виденье.
Он входит, он вошел… и вот
Учтивости немая сцена:
Вдруг поникает на живот
Чело поэта и джентльмена.
Люблю тебя, люблю в тебе
Сомученика и собрата,
Противоставшего судьбе
Мечтателя и элеата…
Я помню младость. Помню: младость
Пьянила… Пушкина прочтя,
Промолвило: «Какая гадость»
Сумасходящее дитя.
И мукой сладостных укусов
Пытал неясное мое
Младенческое бытие
В те времена Валерий Брюсов.
(О далекое утро на вспененном взморье,
Странно-алые краски стыдливой зари.
И весенние звуки в серебряном сердце,
И твой сказочно-ласковый образ, Мари.
В. Брюсов)
И вот, за первою любовью
Я первой страстью согрешил…
Я помню грацию коровью
И простодушный скотский пыл.
Моей возлюбленной… Впервые –
А было мне пятнадцать лет –
Я дюжую объемля выю,
Подумал: Беатриче нет
И быть не может. И отлично:
Нет Бога в мире, аз есмь зверь.
Всё радостно и неприлично
И всё дозволено теперь.
В те годы появилась водка,
Икра, говядина и нэп…
До времени поникла плетка,
Был мир противен и нелеп,
Как паралитик исцеленный,
С трудом учащийся ходьбе.
А опыт зверский, злобный, сонный
Я до сих пор сберег в себе.
Глядело солнце в школьный класс.
Цвела советская Минерва.
И тяжко допекали нас
Соцэк-болван и немка-стерва.
На снег, на лужи, на навоз
Вдруг упадали стаи галок,
Вдруг замечалось: пара кос,
Тетрадки и пучок фиалок.
Банально это. Вскую тя
Аз созерцаю, мире, мире?
Живу едя, грустя, шутя
В такой нешуточной квартире…
Конечно, я окончил школу
И, лица женщин возлюбя,
Их пошлости и произволу
Лирически вручил себя…
Зимою акварельный иней
Сиял на бледных небесах…
Не надо пьянствовать с богиней
О, людие, цените прах!
Я пил, влюблялся, голодал.
Всё было глупо, нежно, мило.
Лиясь в какой-нибудь бокал,
Вино алело и пьянило.
И жизнь мечтательно текла
В холодном пафосе развала
И мне для нежности совала
Несовершенные тела.
Но я не сразу, я не вдруг
Взглянул на всё глазами скуки
И смерти еле слышный звук
Услышал в каждом здешнем звуке.
Внезапен только перевал
Через хребет алчбы и торга,
Внезапен только крик восторга,
Которым я судьбу воззвал:
Пусть мне приснятся сны дневные,
Чтоб песни нежить и нести,
Пусть песни нежные и хищные
Слетят на подоконник вечности.
III
Лелеет тело вешнюю истому,
Отверсто солнцу узкое окно.
Я возвращен ничтожеству земному,
Я жив, я сыт, я облачен в сукно.
О, пошлость, ты – прекрасней всех красот.
Твои в веках бессмертны барабаны.
Ты – женщины беременной живот,
Тягучий вой отказа от Нирваны.
Кухарочкой ты видишься в окне,
Ты девкам сочиняешь туалеты,
В тебе живут блондины и брюнеты.
Всесильная, ты быть велишь луне.
Визжишь, горланишь на парадах мая,
Для Господа в кармане держишь шиш.
Бессмысленно моим стихам внимая,
«Как это поэтично» говоришь.
Итак – я жив. Чирикаю, как птица,
Поклевываю снедь. Живу! Живу!
И может быть, могу еще влюбиться,
Порхнув, хе-хе, в живую синеву.
Вообще туда, куда-нибудь к пределам.
Приобрету веселость и размах…
Всё растворится в розовом и белом,
В хрестоматийных девственных тонах…
IV
Бродит в ДОПРе мутный сон,
Часовой идет.
Тяжек глупый наш полон,
Скучен хлад и гнет.
Всё одно и то ж:
Закричит сосед во сне,
Не спеша по стене
Проползет вошь.
Но душа, живет она,
Неких свежих влаг
Предвкушением полна,
Уловляет, ясна,
Дальний лай собак…
Где застрял мой добрый сон,
Истощил свой хмель?
Почему замедлил он,
Мой тюремный Лель?
Жду – когда же с вышины
Вопль нездешних труб?
Я забыл лицо жены.
Я один. Я труп.
…………………………………
Но нет, живу. Дробится мир в зеницах,
Девятый вал пророчит мне авто.
В солдатиках и в девах круглолицых
Мне чудится буддийское Ничто.
Мой друг, мой друг! Ты видишь, я старею
Я озверел и смерть страшит меня:
Вот я встаю – и мир мне вяжет шею
Безумной, позлащенной петлей дня.
Вот я иду, от пошлости, как в детстве,
Бессмертным идиотством упасен;
Вот в мятеже привычных соответствий
Я нежный отдых нахожу и сон.
Ты утомлен, холодный Вседержитель,
Аристократ, не ценишь ты потерь:
На блюде золотом, в свином корыте ль,
Но всё равно, понятно мне теперь.
Я предан был на завтрак сатанинский,
Мои останки – ведьмам на обед…
… Ты Гамлет! Ты Евгений Баратынский!
О, где вы, «розы Леля»? Nihil. Бред.
1931, Харьков








