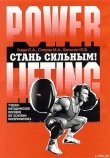Текст книги "Стань за черту"
Автор книги: Владимир Максимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
– Мамочка! Зачем вы мне все это говорите? – почти кричала Поля. – Я что Леша же!..
Но та не слышала ее. Сейчас она опять-таки, как и в прошлый раз, ощущала присутствие лишь того собеседника, что внимал ей там, за дверью.
– А как рубахи свои праздничные на пеленки рвал? А как сапоги свадебные загонял тебе на крестины? А как ночами пылиночки снимал с тебя, когда ты уже на ладан дышала, и как последнее из дому тащил не на водку – на лекарства тебе, на фрукты-ягоды разные?.. Ведомо ли это тебе, Поленька-а?
– Так ведь, – дочь не сказала, а еле сложила побелевшими губами, – и другое было...
Не дрогнул у Клавдии ни один мускул на лице, ни одна нота в душе не сфальшивила, когда она, не сводя с дочери спокойного взора, молвила:
– Было. Рабой я его была, рабой и осталась. Только раба рабе рознь. Бить бил, пить – пил. Зато на людях высоко мою честь держал. Словно и не он вовсе, а я дому голова. Почему, спросишь? Потому, что любил... Бывало, идем по городу – народ расступается: пара!.. И за это я отцу твоему благодарная!.. А на тебя мне, матери твоей, не обессудь, смотреть совестно. Будто и нет тебя совсем, а тень от тебя одна мужнина... Моя кровь, да вроде разбавленная... Взбунтуйся ты хоть раз. Посуду перебей, что ли! Или ночевать не прийди...
Та, уже полоненная ее напористой мощью, лишь вяло защищалась:
– Мамочка, и что вы такое говорите...
– А то и вправду любовника заведи. Или напейся до бесчувствия.
– Мамочка!
– Вот то-то и оно, что все тебе страшно. А жить тебе, Полина, как в сказке, чем дальше, тем страшней.
– Что я без него, мамочка!
– А что со мной сталось, когда Михей ушел счастья по свету искать? Трое вас у меня колготило. Всем была: и швец, и жнец, и на дуде игрец. А выжила, да не одна – с вами вместе. И отец знал, что выживу, не пропаду, потому и уходил всегда с легким сердцем. Верил: не сокрушится его благоверная... А твой нащупал в тебе слабину, вот и пользуется в свое удовольствие. Вот ты и подымись сердцем, скажи ему свое слово.
– Не послушает, мама! Бросит!
– Отец ведь, не дядя с улицы.
– Хоть убейте, мама, – не могу!
– Полина, не плюй в колодец...
– Не могу-у-у!
Пряжа соскользнула с Полиных взметнувшихся и тут же упавших рук, и она, как к спасению, бросилась к порогу, на котором уже сиял всеми своими пуговицами и просветами ее опора и упование – сам Алексей Иванович.
– Па-азвольте, Клавдия Андреевна! – Прикинуть обстановку ему, красе и гордости слободской оперкоманды, не составляло труда. – Это как же понимать? Мы с Полей вам, по-моему, определенно заявили. Что ж прикажете, к вам родную дочь не отпускать? Это крайность, но я учту. – С достоинством возмущаясь, он одной рукой легко и ловко переадресовал жену к себе за спину, а та теперь из-за плеча его жалобно постреливала в сторону матери заплаканными глазами. И нехорошо разбивать семью такими методами. Знаете, хоть вы и мать, а за такие дела у нас по головке не гладят.
– Ну что ж, зятёк! – Клавдия начала вкрадчиво, почти с искательностью. Поговорим-потолкуем... Иди к себе, Полина, не съем я мужа твоего, целым вернется...
Без слов тронула Поля кончиками пальцев плечо мужа: можно? И тот так же молча повел короткой шеей: разрешаю.
– Хорошо, Клавдия Андреевна, поговорим. – Гость прошел в комнату и, оседлав краешек стула, долго умащивал и все никак не мог умостить фуражку на округлом коротком колене. – Только некогда мне рассиживаться-то, дел невпроворот. Всё на мне. Бездельников тьма, а рыжий один я.
Всяким своим словечком и ужимкой Алексей Иванович явно кого-то с присущей ему во всем старательностью копировал, и, по его мнению, это у него получалось, и от этого он чувствовал себя еще внушительнее и строже.
– А я не задержу, зятек, – еще вкрадчивее успокаивала она, – не задержу... Мигом и порешим...
Пока Клавдия рылась в сундуке, перебирая ворох старых писем и открыток, каждое из которых она тщательно просматривала на свет, гость обстоятельно и веско излагал свое отношение к делу:
– Вы, конечно, женщина, жена, и вам, Клавдия Андреевна, я сочувствую, жалко! Но войдите и в мое положение. Я-то здесь при чем? У меня пост, уважение, виды. Согласись я – и все насмарку. Поймите же, что мои неприятности – это и Полины неприятности, а значит, и ваши. Иметь тестя с такой анкеткой все равно что взрывчаткой перепоясаться, того и гляди взлетишь на воздух. Заманчивая перспектива, нечего сказать! Я честный человек...
Наконец Клавдия нашла то, что искала. Но прежде, чем ответить зятю, она аккуратно, в прежнем порядке, сложила бумаги, вернула их на место, закрыла сундук и только после этого обернулась:
– Вот я и хочу с тобой нынче, как с честным человеком.
– Пожалуйста! – Зять взглянул на письмо, подвинутое к нему Клавдией, с подозрительным недоумением. – Ну и что?
– Не узнаешь руку, зятёк?
– С какой стати?
– Может, адресок знаком?
И по мере того как Алексей Иванович читал, ровное лицо его многократно сменило окраску, а круглый, без морщинок лоб занялся испариной.
– Зачем оно вам, Клавдия Андреевна...
– Мне-то оно ни к чему, письмо это, – бери. А хоронила я его и стерегла ради покоя Полининого. Счастье, думала, ее стерегу. Только мало ты ей счастья этого самого дал. Последнее, что было, отнял... Бери... Бери... Нести их начальству твоему мне без надобности, не пачкаюсь кляузой – не приучена. А дочь свою я все одно проворонила. Выпил ты ее всю до капельки. Так что бери, "честный" человек, пользуйся... Только хоть помогал бы, хоть по малости... Мало, знать, безотцовщине пенсионных рублей моих...
И намека не осталось в судорожно улавливающем ее руки человеке от внушительного слободского опера, блиставшего еще минуту назад всеми своими пуговицами и просветами: страх, один только страх наново взял сейчас еще минуту тому ровное, без морщинок лицо.
– Клавдия Андреевна!.. Клавдия Андреевна!.. Да я... Все переиначу... Пусть едет... И Полю я на руках носить буду... Мама!
– Поди с клятвами своими! – Не любила она слабых и брезговала унижением. Ради того ли отдала я тебе позор, чтоб на коленях тебя увидеть? Чести для тебя много! Только теперь я не за себя, за детей своих боюсь, и – насмерть. Коли дети зову моему не откликнулись, значит, одна я осталась, а одна, без них, троих, я вчетверо сильней. И не тебе, хилявому, меня свалить. Ступай себе...
И, отворотившись к окну, Клавдия как бы навсегда вычеркивала зятя из числа тех, с кем ей еще предстояло схватиться, чтобы одолеть их или поставить крест на самом главном и сокровенном для нее.
XI
Его второй сон
Тифозный карантин догнал Михея в Борске, куда он свернул, пробиваясь сквозь забитые составами дороги, к богатым рыбным промыслам Каспия, где, по слухам, за сезон можно было легко сколотить шальной и безопасный капитал.
Проев последние деньги, он ткнулся было в одно-два места, но получил отказ: лишних ртов в городе собралось невпроворот.
Голодный и грязный, бродил Михей по улицам в поисках угла или отлеживался в порожних "пульманах" у вагоноремонтного депо, пока не решился в конце концов на самый крайний для себя шаг: продать хромовые, даренные тестем ко дню свадьбы головки, что хранил он до лучших времен, какие, по его расчетам, обещали начаться сразу же после богатых каспийских заработков.
Загнав у привоза эти самые тестевы головки, Михей прямиком направился в ближайшую чайную. Там, за парой дешевого медку, судьба и свела его с невидного облика смешливым старичком, который назвался ему Ильей Степанычем. Между двумя сменами кружек Михей поведал новому знакомому о своих злоключениях.
Тот похлебывал медок, посмеивался в остренький, под рыжей щетинкой подбородочек и молчал. А когда, после доброй дюжины, Михей только что не вывернулся перед ним наизнанку, тот скосил парня скукотным зевочком:
– Ну и что? Вас нынче таких в городе знаешь сколько? Куда ни плюнь бедолага. А я что, поп али фершал? Папашкам своим кланяйтесь, они кашку заварили, а вы расхлебывайте, господа хорошие москали... Медок благодарствую...
– Знаешь, дед, – вяло сказал враз поскучневший Михей, и допил остаток, и поднялся, – врезал бы я тебе промеж зенок, да боюсь, хоронить будет нечего: весь выйдешь... Даже сидеть с тобой – и то муторно... Прощевай...
Но старичок попался ему с норовом: глядел себе спокойненько снизу вверх на него да посмеивался:
– А ты сиди, сиди, я тебе, сукиному сыну, и не этакое еще скажу. Ишь взбычился!.. Куда вот тебя, шелудивого, черт несет от гнезда теплого? Рупь твой длинный таким еще коротеньким обернется, что и срам не прикроешь. Богачество твое в тебе самом, а ты за ним по миру шастаешь. Думал плироду на коне объехать, урвать поболе, а она тебя обошла. Пой теперя лазаря всякому встречно-поперечному... Бога благодари, что на меня напал, а то бы идить тебе заместо фуража под тифозную вошь...
Веселые искорки так и прыгали из-под белесых, изреженных возрастом ресниц старичка. Михей чуть не подавился собственным вопросом:
– Вывезешь?
– Вывезу. Только уговор: в крайний раз из дому идешь. Заработаешь ворочайся и боле уж дале своего куреня носу не высовывай. Не ищи от своего добра чужого. Все одно не прибудет, только убавится.
– Отец родной!
– "Отец"! Сказал не подумавши. Был бы я тебе отец, ты бы у меня на задницу до Покрова не сел. Стронули вас ироды, вот вы и мечетесь... Тащи еще пару!
– Да хоть пять, папашка! – запутался Михей, бросаясь к стойке. Возможность выбраться из города, плотно окольцованного санитарными кордонами, удваивала его услужливость. – Уж ты прости меня, Илья Степанович, за Бога ради, сечь некому.
– Бог и простит.
– Пей, Илья Степанович, ангельский ты человек.
– Благодарствую. Садись слушай...
Из последующего разговора выяснилось, что возит старичок самого предрика товарища Савчука, и не всегда по делу, так как завелась у товарища Савчука краля, а проживает та краля в приспособленной для нее старорежимной усадьбе, что – на счастье Михея! – расположена за кордоном. Посему фаэтон Ильи Степановича пропускают туда и обратно беспрепятственно, чем старикан и пользуется, вывозя время от времени бедолаг вроде Михея.
А после у себя, в чистенькой каморке при исполкомовской конюшне. Илья Степанович вдруг открылся еще и в ином роде:
– Ты не смотри, что у меня виду нету. И смеюсь я завсегда не от своей райской жизни. Слезой душа исходит, глядючи на всеобщий разор и столпотворение. Куда только несет нашу матушку Расею! В самые, видать, тартарары. Мне чего, я отжил. Вас, сосунков, жальчее всего. За что вы только муки эти всевозможные принимаете? Отцовская шкода, а у детей чубы трещат.
– Век, отец, помнить буду. Сгинул бы я тут ни за грош без тебя. Дай тебе Бог того, чего хочется, – простодушно сказал Михей.
– А чего мне хочется, – взвился тот, и смешливые искорки вдруг погасли в его глазах, а лицо противу обычного еще более посерело и заострилось, – то и без твоих молений совершится. Не допустит Господь такого поругания над православной верой. – Он сорвался с места, одним рывком вытянул из-под кровати ковровый перемет и дрожащими от возбуждения руками стал рыться в нем. – На, смотри... Вот они все три – один к одному казаки. Всех вырубили, ироды, как спелый колос на корню. Старший уж до подхорунжего дошел... Ироды! – Старик часто-часто моргал, редкие белесые ресницы его увлажнились, и мутные слезки путались в частых морщинах. – Только не век боговать растоварищу Савчуку, дай срок, своими вот этими сокращу, прости меня, Господи, грешного.
И прежде чем обычная усмешливость вернулась к нему, он долго еще не мог успокоиться и все совал, все совал гостю в покорные руки пушкарского подела снимки сыновей во всех возрастах и положениях.
– Вот я и говорю: чего тебе по земле шастать, доли искать, когда вся доля-то твоя – дома? Я бы вот, к примеру, чтобы хучь помереть в родном курене... Только нету у меня его, куреня-то. Был, да весь вышел. Все под гребло. И самого изжили ироды!
– За что, батя!
– За что? Да за все: за верность мою царю и отечеству, за то, что Господа Бога почитал, за то, что надел свой, потом политый, с оружием супротив них, басурманов, боронил... Ах, Боже ж ты мой праведный. – Он, источаемый раздражением, забегал по комнатушке. – Да хучь бы за то, что глаза мои для них не того цвета... А ты говоришь: "За что?"
– А сейчас как – ничего, не трогают?
– А что я сейчас? Нуль. Дядька Ильюха до старости щенок. У идоловой кобылы хвост скребу. Только дай срок, дай только срок, поспустим кровя растоварищу Савчуку... И какую пустим! – Старик повернулся к гостю и спокойно округлил: И не тебе – первому встречному я об этом говорю, да не резон вам меня продать, соси посля лапу в карантине. Вот и неси, хошь не хошь, слово мое по Расее вместе с тифозной вошью.
– Облегчаешься, значит? – У Михея дух захватило от последних его слов, и в кончиках пальцев ощутил он знакомое покалывание, как за шаг перед обрывом. Не с кем больше?
– А с кем, с Савчуком, что ли? Он тебе враз облегчит на целую голову, а то и с обеих сторон.
– А Бог-то как же, батя?
– А это, брат, не твоя забота, это моя с ним забота... Вот так-то...
В ночь старик, благополучно минуя санитарные кордоны, вывез Михея из города и погнал пару в сторону моря, откуда седоку его предстояло добираться до ближних промыслов своим ходом. Моря они достигли на переломе ночи, когда горизонты Каспия тронуло первым молоком рассвета. Плоскую, как стол, блистающую поверхность его изредка подергивала ознобливая рябь. С моря тянуло холодком, и глубокий простор проникал Михея ощущением ровного и долгого покоя, очищая душу от шума и суетности того, что оставалось позади.
– Ну вот, – медленно и грустно проговорил Илья Степанович. Согбенная фигурка его в старой суконной поддевке пожухла и стала еще меньше. – Жми, брат, на все четыре. Не воротишься ты до дома, знаю. Не ты первый, не ты последний. Уговаривай тебя, не уговаривай, плирода свое возьмет. Корень из вас людской выдернули, а без корня душа, будто перекати, с любым ветром катится...
– Слушай, батя..
– Ступай, ступай! – не попросил, а скорее, простонал тот, и в блеклых глазах его зябко засквозила тоска тихая и неизбывная. – Непутевый...
И, поворачивая в прибрежные пески, Михей еще долго чуял между лопаток жгучий ожог стариковского взгляда.
Утро набирало знойную силу. Песок стремительно и уверенно раскалялся, глухое море, казалось, плавилось в солнечном мареве, и желтая даль впереди вязко плыла навстречу, ни намеком не предвещая путнику близкого избавления.
Совсем рядом, шагах всего в пятидесяти, дразнила доступностью и посулом утоления бесконечная вода. Но даже и продравшись к ней через пояс векового ила, он не мог бы взять ничего, кроме отчаяния и боли.
Все впереди принимаемое им за спасение уже через несколько шагов призрачно рассеивалось, чтобы через минуту снова воздвигнуться в поле зрения новой надеждой. Поэтому, когда в песчаном царстве у горизонта возник и стал, приближаясь, вырастать черный остов рыбацкого причала, Михей опять воспринял его как наваждение, горячечный бред, и только коснувшись пахнущих рыбой и сохнущим илом досок первого навеса, поверил, что спасен, и позвал:
– Братцы...
Ответа не последовало. Лишь в сухом до хруста воздухе все еще потрескивало усыхающее в полдневном пекле дерево навесов и коптилен.
Михей шагнул к открытой двери напротив, но едва он перешагнул порог, как перед ним, словно сотканная самой полутьмой, возникла женщина с протянутой к нему кружкой:
– Пей.
Жадно и шумно глотая теплую, чуть отдающую известью воду, Михей взглядом продирался сквозь темноту к ее лицу, постепенно выявляя перед собой сначала круглые и бездумные глаза, потом скулы, чуть поклеванные оспой, крепкие сухие губы над округлым подбородком.
И, привыкая к ней и к прохладной полутьме, окружавшей ее, он спросил:
– Одна тут?
Слова она роняла, словно отсчитывала: не передать бы.
– Одна.
– Давно?
– С карантина.
– А где все?
– В карантине.
– Застряли?
– Да.
– А что ты у них делаешь?
– Стряпаю.
– А сейчас?
– Жду.
– Их?
– Да.
– До Кара-Дага далеко?
– Пеше – два дня.
– А как еще?
– Морем.
– Долго?
– К ночи будешь.
– А где лодки?
– Бери любую.
Она кивнула куда-то поверх его плеча. Он обернулся: вытащенная на песок, аспидно маячила в белесом безмолвии стая лодок, и каждая из них виделась сейчас одинокой бескрылой птицей, умирающей на прибрежном песке.
И хотя путешествие в любой такой посудине через залив, готовый в каждую минуту вздыбиться шестибалльником, могло кончиться для него далеко не безмятежно, двухдневный поход по одуряющим жарой и видениями пескам совсем уже не светил Михею.
– Жару пережду.
– Пережди.
– Да, мать, с тобой не заскучаешь. И откуда ты только такая разговорчивая?
– Откуда все.
– А все откуда?
– Из земли.
– Все знаешь?
– На то есть Писание, – строго посмотрела она и, закрыв глаза, прочла на память: – "Из земли вышли, в землю войдете вы..."
– Так, – смущенно вздохнул он и, меняя тему, спросил: – Поесть найдется?
– Кулеш станешь?
Расстелив по земляному полу жилого сарая чистую мешковину, женщина наскоро собрала ему нехитрую снедь, поставила воду и, отступив в темь, словно растворилась в ней.
Еда разморила Михея, он во весь рост блаженно растянулся тут же, рядом с остатками еды, и душный полдневный сон оборвал его ленивые думы, а когда парень очнулся, колкие звезды уже подрагивали, наподобие рыбешек в сетях, в узких прорезях меж досок кровли, и чье-то неровное и явно бодрствующее дыхание обвевало его плечо.
– Ты?
– Я.
И в эту ночь они не сказали больше друг другу ни слова. Но зароненные ее случайной лаской не ведомая дотоле тоска по теплу и покою и страх перед грядущей неизвестностью вдруг коснулись Михеева сердца, уже не отпускали его до утра. И тогда он поднялся, чтобы вернуться. Там, за спиной, всего в дне мучительного пути, Михея стерег карантин, из которого еще вчера такой желанной виделась даль у Каспия. Теперь он не мог смотреть туда без жуткого содрогания, точь-в-точь как тогда, за мгновение перед отходом "Пирогова". Карантин был ему уже не страшен по сравнению с неизвестностью впереди. Прежде чем уйти, Михей в последний раз обернулся. Женщина, казалось, не спала, а просто закрыла глаза, закрыла, как закрывают их все женщины от материнства и удовлетворения. Тихой безмятежностью светилось ее лицо в скользящем по небу первом луче. Михею стало страшно оттого, что он больше уже никогда, ну, никогда не увидит ее, и, чтобы оторваться от этой остро поразившей его мысли и перешагнуть порог, ему пришлось сделать над собой предельное усилие.
И об этом не забывай, Михей Савельич, не забывай!
XII
Было в госте что-то от жука – шустрого и любопытного. Семеня короткими ножками, он перебегал от одной фотографии к другой, и быстрые пальцы его мягко ощупывали предмет за предметом.
– Орел, Михей Савельич, ей-бо, орел! – Заложив руки за спину, гость валко покачивался перед свадебным снимком хозяев. – Из этакого чуба полпуда каната навить можно. А какую кралю полонил! Губа, брат, у тебя не дура, Михей Савельич. – Под легкой ладонью его всякая вещь словно бы приобретала осязаемость. – Крепкая работа, так сказать, довоенного подела сундучок...
У встревоженно наблюдавшей за ним в полуотворенную дверь мужниного убежища Клавдии остро защемило сердце: еще один явился.
Лет пять тому получила она странное письмо, помеченное уфимским адресом. Просил ее некто по фамилии Плющ оповестить его о местонахождении Михея, объясняя свою просьбу давней, еще с войны, дружбой. Но сквозило между строк что-то такое, что сразу же заставило Клавдию насторожиться. Для действительной заинтересованности было это письмо слишком уже велеречиво-чувствительным. "Будучи стародавним другом Михея Савельевича в течение многих, богатых событиями лет, не могу, многоуважаемая Клавдия Андреевна, не обеспокоиться его многострадальной судьбой..." И так далее и в таком духе на пяти с лишним страницах. И внизу разлапистая, вроде кляксы, подпись: "Плющ".
Помнится, Клавдия ответила адресату в том духе, что-де тронута душевно его сочувствием, но, к сожалению, о муже своем она по сию пору знать ничего не знает и узнать не надеется.
Переписка продолжалась, приняв с обеих сторон характер затяжной разведки, хотя из множества писем, столь же суесловных, подобно первому, и больших, Клавдия так и не уяснила себе, что же за человек этот Плющ и с какой целью разыскивает он с таким тщанием ее мужа.
Но сейчас, едва взглянув на гостя, она без труда признала в нем своего давнего корреспондента: скорлупа его слов, словечек, присказок, какими пересыпаны были письма уфимца, пришлись точно впору всему его разбитному облику. Прикрыв дверь за собою, сказала тихо:
– Здравствуйте.
Обернувшись к ней, тот радушно заулыбался:
– Здравствуйте. Я – Плющ. Помните? Вы мне писали, как говорит Пушкин Александр Сергеевич, не отпирайтесь. Так какие у нас с вами новости?
– Какие нее у меня для вас новости? – чуть слышно сложила она. – И есть, и нету... Написал, а где он, кто его знает.
– А я не за новостями, собственно. Я – на вас посмотреть: какая вы? По письмам судя, женщина вы особенная. Даже за стилем вашим, – не совсем, извините, безупречным, – личность сказывается... Так и что Михей Савельич сообщает? – в глубине его маленьких, опушенных белыми ресницами глаз неожиданно засветились колючие льдинки. – Здоров ли?
– Пишет, здоров... Может, чаю с дороги?
– Давно не пью. Не тот напиток... Скоро ли встречать думаете? – льдинки становились все острее. – С чем едет, Михей свет Савельич?
– Так я вам водочки, – тяжелое предчувствие, все нарастая, перекрывало дыхание. – Сама не знаю...
– Благодарствую... Под закуску и поговорим...
Гость хозяйственно разместился, выправил перед собою скатерть, и, пока Клавдия собирала ему, он цепко осматривал комнату, легонько похлопывая круглыми ладошками по столу.
– Так... Так, Савельич... Подал, значит, голос... Так, родимый... Вот и доведется свидеться, как говорят...
– Вот и посоветуйте, – каждое его слово добавляло ей тревоги, – как быть?
– Не мне советовать, не вам слушать... Я вот и сам не знаю, как мне к этому отнестись... Здесь думать и думать надо, а главное – прощать уметь. Вы, женщины, эту тяжкую науку освоили, нам, мужскому сословию, тяжелее... Особенно если кровь замешана.
– Старый он и больной, видно. – Клавдия подливала и подливала гостю. – За все отплатил, отстрадал втрое... Выходит, – ее вдруг прорвало, – и вы неспроста за ним ходите... Так что ж, ему на себя руки наложить, что ли, коли всем он вам задолжал?
Гость поднял глаза и спокойно, уже без тени улыбки, сказал:
– Может быть.
И по тому, как он это сказал, Клавдия поняла, что давний ее адресат не так уж прост, каким хочет показаться, обряжая речь свою шутейными присловиями.
– Что же сделал он вам такое?
– Долго рассказывать. – Плющ выпил, понюхал хлебную корочку, снова взглянул в сторону хозяйки. – Только вы напрасно беспокоитесь... Я ведь ни мстить, ни счеты с ним сводить не собираюсь... У меня желание скромное, маленькое: в глаза ему посмотреть... Да-да, не удивляйтесь, только и всего.
– Затем и писали столько лет?
– Затем и писал. И еще бы пять раз по столько писал бы. Чуяло мое сердце: жив Михей свет Савельич! Не тот он человек, чтобы не за здорово живешь пропасть, порода не та.
– Вот и простили бы.
– Счетов, как я уже и сказал, сводить не буду и мстить тоже, а простить простить, извините, не могу.
– Прости, говорят, и сподобишься.
– Для этих баек, Клавдия Андреевна, слишком я много бит. Легко прощать, когда это вам ничего не стоит. Списали долг – и все. Но иногда простить значит дать уверовать в безнаказанность. А это ой как дорого аукается, если и не нам, так детям нашим. Наверное, и нам с вами не всегда сладко жилось только потому, что кто-то, когда-то, не подумав, кому-то что-то простил. Щедрость, так сказать, души проявил. А убытки от этого прекраснодушия приходится покрывать нам, и часто – кровью.
– На столько-то загадывать.
– Одним днем только бабочки живут.
– Да и не вольны мы...
– Во всем вольны, если захотим и не побоимся.
– В словах силы нет.
– Есть. Во всем, что истинно, – есть: и в слове и в деянии.
– Вашими бы устами да мед...
– Эх, Клавдия Андреевна, Клавдия Андреевна...
За этим неровным и внешне бессвязным разговором их и застал Андрей, вдруг появившийся на пороге.
– Общий бонжур. – Он вопрошающе окинул гостя трезвым оком и повернулся к матери: – Сеньку в городе встретил. Говорит – звала.
– Старший мой, Андрейка, – объяснила Клавдия Плющу, а сыну коротко кивнула. – Садись, не лишним будешь... Что Семушка?
– С попом нашим ходит. По физиономии судя, за жизнь философствуют... Чем могу?
– Вот отца твоего товарищ тоже про письмо спрашивает.
Мужчины коротко, как бы прицениваясь, взглянули друг на друга, и словно два проводка законтачило: от взгляда к взгляду потянуло светом общности и дружелюбия.
– Тяпнем на брудершафт, ребенок, – налил в обе рюмки Андрей. – Хоть ты и лыс, как яйцо, в тебе есть что-то от черта.
– А я и есть, в некотором смысле, сатана... Грешник только-только голос подал, а я уже тут как тут, с расписочкой.
– Не дави на меня, дитя, я не блокадник... Дай выпить, потом ты будешь исповедоваться.
– Не гони, дед, не гони... Еще успеем... С женщины что возьмешь, а с мужчины можно без околичностей...
– Льстишь, сосунок. Но в общем ты прав. У них, у женщин, всегда так: на глазах когда – убила бы, с глаз долой – в голос. Непонятный народ.
– Это и нельзя понять, это почувствовать надо, милый. У меня, извини, к твоему отцу ох как много претензий, больших причем претензий, а вот взглянул я на нее, только взглянул, по правде, даже и не слушал после, что она там лепетала, но сразу почуял: не смогу, не выдержу, сдамся.
– И сдался?
– Сдался.
И мужчины захохотали, захохотали раскатисто, в один голос, и слышалось Клавдии в их смехе что-то такое, чем они, словно бы враз и навсегда отчуждали ее от своих, лишь им одним доступных дум и разговоров, и потому на сердце у нее становилось тускло и неуютно. И, обидчиво уходя в себя, она уже не слышала последующего разговора. Да ей и незачем было слышать его: все, о чем здесь могло говориться, давным-давно известно ей от самого Михея...
– Рассказывай, маленький, рассказывай...
– А не пожалеешь?
– Не жалею, извини, не зову... Давай.
– Трудненько будет.
– Смотри, ты меня так заранее напугаешь, что и не страшно будет.
– Смотри.
– Ты что, с радио, из отдела "Угадай-ка"?
– Ну, будь по-твоему. Плесни еще для храбрости.
– Ох уж эти мне без пяти минут Матросовы. Пей...
Гость неожиданно отодвинул от себя стопку, посмотрел в сторону Андрея испытующе и с отеческой доверительностью накрыл его ладонь своею:
– Может быть, дед, без этого?
– Может быть.
И та трезвая серьезность, с какой это было сказано, то, присущее лишь вдумчивым и дельным натурам перед началом всякого доброго дела особое выражение, отметившее вдруг лицо сына, озарило душу Клавдии гордой уверенностью: не пропил ума ее старший, не сгинет в нем крепкая материнская закваска!
XIII
"Что же ты можешь рассказать ему, Плющ, – с брезгливой горечью думал, слушая их, Михей, – сверх того, чего ему хватило, чтобы еще до тебя возненавидеть отца родного? Что?"
Нет, он никогда не винил себя за тот поступок. Мало ли каких дел против совести не совершалось в то дымное и голодное время... Он раскаивался сейчас только в том, что пощадил тогда Плюща – не добил. Не пришлось бы ему – хочешь не хочешь – выслушивать теперь всю эту историю, от начала до конца.
Ну хорошо, а что сделал бы он, Плющ, в его, Михея, положении? Неужели улегся бы подыхать рядом с ним – с Михеем, вместо того чтобы выпутаться хотя бы самому? Как бы не так!
Когда там, под Ельней, "мессеры" разогнали их колонну по ближним перелескам и Михей после тягостных блужданий березняками и осинниками Смоленщины с обессилевшим Плющом на спине наконец сложил товарища в случайной лесной времянке и ушел один, он едва ли думал о том, что тот выживет. Потому и прихватил с собой, казалось, не нужные уже задыхавшемуся Плющу пожитки и документы, которыми потом и пользовался долгое время.
И откуда было знать Михею, как гоняли все-таки выжившего Плюща за чужие грехи по этапам и следственным комиссиям, пока показалась в конце концов полная непричастность его к тому давно и безуспешно разыскиваемому Плющу, которым жил все эти годы Михей. Не сладок, совсем не сладок был хлеб, каким по милости Михея столько времени давился брошенный им под Ельнею друг.
Но разве Михей мог предполагать, что все обернется именно так? Тогда почему же каждое случайно оброненное худое слово и всякий случайный, вгорячах сделанный шаг так больно и горько аукается ему сейчас, когда он впервые, наверное, в жизни почувствовал было себя свободным от прошлых грехов?
Слова по ту сторону двери вот уже третий день заставляли его заново переживать все, что он жадно хотел вычеркнуть из своей жизни и забыть. И в этой их неотвратимости таилось для него какое-то обязательное и жестокое предопределение, миновать которое ему было не дано. И у двоих в комнате за дверью не теплилось к нему ни жалости, ни снисхождения...
– Вот таким образом, Андрей свет Михеич.
– Повезло мне на папаню...
– Папаню, милый, не выбирают...
– И все-таки...
– В общем, конечно, прямо скажем...
– И что же теперь ты хочешь от него, сынок?
– Ничего.
– Так-таки и ничего?
– Нет.
– А как же насчет глаз? Насчет посмотреть, а?
– Уже и этого не хочу.
– Толстовец, баптист, так сказать, адвентист седьмого дня?
– Не в том дело.
– А в чем?
– Как тебе объяснить, старикашка, просто, я думаю, ты это сделаешь за меня... Ему и этого достанет.
– Это как понимать?
– Видишь ли, наказывать не так уж приятно... Ведь как там ни крути, грешит один, а отвечать приходится многим. Вот мать твоя да и ты сам вроде в стороне, а сколько непокоя уже вошло к вам хотя бы из-за меня. А твой непокой еще в ком-то сказывается, и пошло-поехало, не остановишь. Нет, уж пусть за все с него один спрос будет: здесь, дома. А мне и того хватит, что такая женщина, как Клавдия Андреевна, передо мною согнулась из-за Михея... До сих пор стыдно... Нашелся тоже командор-мститель!
– Может, и мне совет под занавес кинешь? Тебе что, взял обратный и поехал к жене на блины, а я – как?
– Один совет у меня – пусть едет. С такой-то ношей по земле ходить тоже не сахар. Ведь это там, так сказать, в прериях, ушел – и концы в воду. А здесь каждый грех его в вас за ним по следам ходит. Хуже кары не придумаешь... Проводи-ка ты меня, Андрей свет Михеич, до вокзала, и распорядимся-ка мы там с тобой в буфете на два куверта.
– Странный ты ребенок, Плющ.
– Странствовал много, вот и странный.