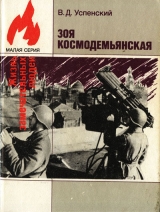
Текст книги "Зоя Космодемьянская"
Автор книги: Владимир Успенский
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
Учиться брат и сестра перевелись поближе, в только что заново отстроенную школу № 201, имевшую просторные, светлые классы, хорошую библиотеку, большой двор. Зоя и Шура, как и прежде, занимались в одном классе, но взаимоотношения между ними несколько изменились. Если прежде Шура пытался бунтовать, не повиноваться сестре, то теперь он полностью признал ее руководство, и если о чем и заботился, то лишь о том, чтобы никто и нигде не обидел Зою. А уж в этом на него, сильного, самолюбивого и смелого, можно было вполне положиться.
Приготовив домашние задания и проверив, как справился с этим брат, Зоя принималась за хозяйство. Убиралась в комнате, топила печь. Любовь Тимофеевна в своих воспоминаниях рассказывает:
– Ох, спалит нам Зоя дом! – говорили иной раз соседи. – Ведь ребенок еще!
Но я знала: на Зою можно положиться спокойнее, чем на иного взрослого. Она все делала вовремя, никогда ни о чем не забывала, даже самую скучную и маловажную работу не выполняла кое-как. Я знала: Зоя не бросит непогашенную спичку, вовремя закроет вьюшку, сразу заметит выскочивший из печки уголек. Однажды я вернулась домой очень поздно, с головной болью и такая усталая, что не было сил приниматься за стряпню. «Обед завтра сготовлю, – подумала я. – Встану пораньше…»
Я уснула, едва опустив голову на подушку, и… проснулась на другой день не раньше, а позже обычного: через каких-нибудь полчаса надо было уже выходить из дому, чтобы не опоздать на работу.
– Вот ведь беда! – сказала я, совсем расстроенная. – Как же это я заспалась! Придется вам сегодня обедать всухомятку.
Вернувшись вечером, я спросила еще с порога:
– Ну что, совсем голодные?
– А вот и не голодные, а вот и сытые! – победоносно закричал Шура, прыгая передо мной.
– Садись скорее обедать, мама, у нас сегодня жареная рыба! – торжественно объявила Зоя.
– Рыба? Какая рыба?..
На сковороде и в самом деле дымилась аппетитно поджаренная рыбка. Откуда она?
Дети наслаждались моим изумлением.
Шура продолжал прыгать и кричать, а Зоя, очень довольная, наконец объяснила:
– Понимаешь, мы, когда шли в школу мимо пруда, заглянули в прорубь, а там рыба. Шура хотел поймать ее рукой, а она очень скользкая. Мы в школе у нянечки попросили консервную банку, положили в мешок для калош, а когда шли домой, задержались на часок возле пруда и наловили… Пришли домой, зажарили, сами поели и тебе оставили. Вкусно, правда?
Можно себе представить, что это была за рыба, которую удалось выловить консервной банкой! С мизинец величиной. Но разве в величине дело…
Шура ворвался в комнату раскрасневшийся, возбужденный. При виде его Любовь Тимофеевна и Зоя замерли в изумлении. Всякое бывало, приходил он в ботинках, разбитых при игре в футбол, с синяком под глазом, в порванной рубашке, но сейчас!.. С ног до головы перемазан глиной, весь в копоти. А главное: что стало с его пальто, с почти новым пальто! Все пуговицы выдраны «с мясом», вместо них зияли дыры. И карманы вырваны с кусками материи, болталась неровная грязная бахрома.
– Где это ты? – спросила Зоя.
– Мы с ребятами пещеру выкопали, костер жгли, на нас напали, а мы отбивались, – постепенно утрачивая пыл, отвечал Шура, не сводя глаз с печального маминого лица. Пожал плечами, начал переодеваться.
Ни слова не сказала ему Любовь Тимофеевна. Боялась расплакаться от огорчения, от обиды. Взяла пальто, принялась его чистить. Достала нитки. Конечно, надо покупать новое, но сразу-то не соберешься. И весь вечер потом, ссутулившись, сидела в дальнем углу молча, спиной к детям, штопая и зашивая. Непривычная, давящая тишина воцарилась в комнате. В конце концов Шура не выдержал, остановился за спиной мамы, произнес невнятно и торопливо:
– Я больше не буду…
Нет, не раскаялся он, не понял.
– Хорошо, – вздохнула Любовь Тимофеевна. – Верю.
Холодно пожелала спокойной ночи, легла на кровать. И не слышала разговор, который состоялся между детьми. «Чего ты сердишься, – шепотом сказал Шура. – Ведь я же извинился, она простила». – «Разве так извиняются… Мама работает одна, ей трудно. А теперь мы целый месяц будем совсем мало видеть ее». – «Почему?» – «Чтобы заработать на новое пальто, ей надо провести пятьдесят добавочных уроков!» – «Сколько?» – ужаснулся Шура, для которого и один-то урок высидеть было пыткой. «Да-да, примерно пятьдесят уроков», – подтвердила Зоя.
Неизвестно, заснул ли в ту ночь Шура, о чем он думал… Во всяком случае, когда рано утром, еще до рассвета, Любовь Тимофеевна открыла глаза, сын стоял у ее изголовья. Наверно, давно стоял.
– Мама, прости, я больше не буду никогда-никогда!
И такая искренность, такая боль прозвучала в его словах, что Любовь Тимофеевна, приподнявшись, ласково погладила его волосы и поцеловала в щеку.
Замечательная молодежь вырастала в нашей стране в тридцатые годы: целое поколение, жившее не столько своими интересами, сколько интересами государства, стремившееся получить как можно больше знаний, чтобы принести пользу своему народу, своей Отчизне. Поколение революционных романтиков, борцов, оптимистов. Устремленное в будущее. Можно сказать светлое поколение.
А ведь время тогда было трудное, жесткое, сложное.
Забывая о собственных невзгодах, волновались за челюскинцев, оказавшихся на льдине, гордились советскими летчиками, первыми проложившими путь через Северный полюс в Америку. Теснясь в коммунальных квартирах, радовались появлению подземных дворцов метрополитена. В редкие свободные часы устремлялись в музеи, в библиотеки, в театры. Мечтали служить в военном флоте или осваивать дальневосточную землю, строить тракторный завод или возводить плотину. Сами не всегда сытые, сами нуждавшиеся во многом, с радостью помогали тем, кому было плохо. Фашисты Германии и Италии пытались в то время задушить испанскую революцию. Республиканцы мужественно сражались за свою свободу. Все помыслы советской молодежи были на их стороне. Тринадцатилетний Шура вздыхал: «Эх, черт возьми, поздно родился, не успею фашистов-то бить!» Зоя предложила: в банке открыт специальный счет, многие люди вносят туда деньги для женщин и детей сражающейся Испании. Давайте и мы, сколько сможем?!
– Хорошо бы, – неуверенно произнесла Любовь Тимофеевна.
– Мы все понимаем, мама! – горячо поддержал сестру Шура. – Знаешь, мы с Зоей на завтраки поменьше будем тратить.
– И заработаем немножко.
– Каким образом? – спросила Любовь Тимофеевна.
– Ты же сама говорила, что можно брать работу на дом, копировать чертежи, – напомнила Зоя. – А мы с Шурой хорошо чертим, особенно он.
Так и решили. И рады были Космодемьянские, что хоть совсем капельку, а все же помогали борцам за свободу! Пламенный лозунг Долорес Ибаррури: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» – был для Зои и Шуры так же близок и дорог, как и для тех, кто сражался в окопах Испании.
С седьмого и по девятый класс русский язык и литературу преподавала Вера Сергеевна Новоселова, она же была какое-то время и классным руководителем. Для брата и сестры Космодемьянских она навсегда стала своего рода идеалом, воплотив черты, которые Зоя считала лучшими в людях. Вера Сергеевна покоряла учеников увлеченностью, глубоким знанием своего предмета, любовью к нему. Она не просто вела уроки: сама горела, сама волновалась, зажигая и волнуя тех, кто слушал ее. Она не требовала, чтобы ребята заучивали, она хотела, чтобы они понимали.
Спрашивала: «Почему вам нравится этот литературный герой? Или не нравится? Правильно ли он поступает? А как надо было бы поступить?» И начинался спор-разговор, в который втягивался весь класс, высказывались мнения, цитировались отрывки из литературных произведений, доводы критиков, декламировались стихи. Неуютно чувствовали себя лишь те, кто не знал обсуждаемую повесть или поэму. Но таких с каждым разом становилось все меньше. А произведение, о котором шел спор, Зоя, как правило, перечитывала еще раз, и многое воспринимала по-новому.
Наверно, не было в Москве музеев или памятных литературных мест, куда не сводила Вера Сергеевна своих питомцев. И не просто водила. Подготовка начиналась заранее, учительница советовала, что прочитать предварительно, с какими картинами познакомиться, где найти различный подсобный материал. Много рассказывала о том или ином писателе, о его книгах, о его судьбе. Да еще экскурсовод… После похода ребята обменивались впечатлениями. Знания оставались глубокие и прочные.
Или так: на несколько часов уведет Вера Сергеевна свой класс в Тимирязевский парк или в Останкино. Ребята бродят по лесу, посидят у костра. Почитают стихи о весне (если это весной), о замечательной русской природе. Вспомнят, как писали о ней Пушкин, Тургенев, Толстой. И обязательное правило: после себя не оставлять в лесу никакого мусора, ни единой сломанной ветки.
Зоя довольно много читала и до прихода новой учительницы, а под влиянием Веры Сергеевны увлечение литературой становилось все серьезнее. Из записей в дневнике, который вела Зоя, видно, что в седьмом классе она прочитала много пушкинских произведений, среди них: «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Полтава», «Повести Белкина», «Арап Петра Великого». Значатся в дневнике «Ася» и «Рудин» Тургенева, целый ряд чеховских произведений, «Очерки бурсы» Помяловского, «Простая душа» Флобера. И это не только прочитано: высказано в дневнике и собственное мнение.
А на лето Зоя наметила: «Основное – Чехов: «Вишневый сад», «Ионыч»; Горький: «Старуха Изергиль», «На дне», «Мать», «Дело Артамоновых»; Фадеев: «Разгром»; Шолохов: «Поднятая целина»; Шекспир, Гёте, Конан Дойл»… И все, что планировалось, она, как правило, выполняла.
Даже непоседа Шура под влиянием учительницы и сестры постепенно увлекся художественной литературой. А вообще учился он легко, играючи, все давалось ему без напряжения. И математика, и география, и пение, и химия. Принесет «неуд» – не огорчался. Чуть-чуть поднажмет, и в дневнике отличная оценка. По физической подготовке – среди первых. Хорошо играл на гитаре, оставшейся после Анатолия Петровича. Много рисовал. Можно было только позавидовать его одаренности. Зоя-то часами просиживала над учебниками по химии или решая алгебраические задачи.
Подсказок не хотела. Шуре, бывало, надоест ждать ее, чтобы вместе пойти погулять, или жаль станет сестру, допоздна сидящую за столом. Напишет ей ход решения, положит листок возле локтя: «Погляди и кончай». – «Нет, сама разберусь». И не было случая, чтобы поддалась искушению. Ну и сама не подсказывала на уроках, не давала списывать. На нее обижались некоторые одноклассники, но она была непреклонна. Помочь после занятий – сколько угодно. А списывать – нечестно. Не в отметках же дело, а в знаниях. Так считает и Вера Сергеевна, она сама говорила об этом.
Каждая встреча с любимой учительницей доставляла Зое радость. Не только из-за того, что несла открытия, новые познания. Вера Сергеевна была обаятельна в самом лучшем понимании этого слова. Назвать ее красивой было трудно. Хотя бы потому, что крупноваты черты лица. Но какое одухотворение светилось всегда в ее глазах! Волосы были роскошные: тугие жгуты кос опоясывали голову. При любых обстоятельствах держалась Вера Сергеевна свободно, естественно, без всякой позы или надменности, но с сознанием собственного достоинства. Какая-то внутренняя сила чувствовалась в ней. Одно только ее присутствие исключало проявление хамства, при ней невозможна была ложь, хвастовство, фальшивая патетика. Люди, обладавшие подобными свойствами, инстинктивно старались держаться подальше от Новоселовой. Она ведь выскажет все и при всех, не считаясь со званиями, положениями, чинами. Да, эта учительница, даже не проводя специальных уроков принципиальности и благородства, могла много дать своим ученикам. Особенно таким, как Зоя, бравшим с нее пример.
После войны Вера Сергеевна работала в школе № 223, где резко выступала против оценки работы учителей по процентам. Сколько, мол, у вас пятерок, а сколько троек? Такой подход к делу связывал руки педагогам, толкал их на путь бездушной формальной отчетности, даже обмана. В Тимирязевском районе столицы против этого боролись три старейших учительницы, которых полушутя называли «корифеями российской словесности». Это прежде всего Мария Дмитриевна Сосницкая, преподававшая в школе имени Зои Космодемьянской, замечательный педагог и автор широко известных книг «Живое слово» и «Тропа к Пушкину». Это – Вера Сергеевна Новоселова. И еще Нина Николаевна Сечкина, бывшая тогда методистом районо и имевшая к тому времени большой педагогический стаж.
Так вот, Нина Николаевна, сама заслуженный и опытный педагог, не переставала восхищаться уроками Новоселовой, на которых ей по долгу службы приходилось бывать. Дает, к примеру, Вера Сергеевна несколько уроков подряд на одну тему в параллельных классах, и каждый из них не похож на предыдущий. Как артист чувствует зал, чувствовала Новоселова настроение класса, уровень его подготовки, сразу определяла, что надо сделать, чтобы заинтересовать ребят, «взять» в руки, провести урок с максимальной пользой. Менялось выражение лица, менялся тембр голоса, менялось все ее состояние и, если в одном классе она чуть ли не все сорок пять минут читала стихи, то в другом проводила строгую, почти университетскую лекцию.
А сколько внимания уделяла Вера Сергеевна проверке письменных работ, считая это очень важной, индивидуальной и даже в какой-то степени интимной формой общения педагога со своими подопечными. Она не просто выискивала ошибки и выясняла степень знаний. Она делала пометки на полях, уточняя смысл, заменяя в сочинениях негодные, неточные слова и фразы более уместными. Вера Сергеевна правила сочинения, как редактор правит рукопись, объясняя ученику, чем вызвано то или иное замечание.
«Помню, что Зоя особенно увлекалась трагическими биографиями Шевченко и Чернышевского», – вспоминала Вера Сергеевна.
Действительно, Чернышевским Зоя увлеклась, и не без содействия Веры Сергеевны, которая поддерживала ее интерес к этому замечательному революционеру, давала необходимую литературу. Зоя прочитала почти все, что можно было найти о Николае Гавриловиче, восхищаясь его мужеством во время гражданской казни, его стойкостью на каторге и в ссылке, которые отняли у него двадцать лет. Читала запоем все, что было написано Чернышевским или о Чернышевском. Шура забеспокоился почти всерьез:
– Знаешь, мама, она вчера как пришла из школы, так и утонула в книжке. Читает – и ничего не видит и не слышит. По-моему, она скоро начнет спать на гвоздях, как Рахметов.
Шутил, конечно, братишка, сам испытывавший глубокое уважение к стойкому революционеру. Не случайно же сделал он рисунок к сочинению Зои: воспроизвел тушью домик, в котором жил в ссылке Чернышевский. Хорошо передал окружающую пустоту, холод одиночества. И пообещал сестре: «Когда-нибудь обязательно напишу большую картину. Она будет называться: «Гражданская казнь Чернышевского».
К вступлению в комсомол Зоя готовилась очень серьезно и обстоятельно, как и вообще делала все, за что бралась. Внимательно прочитала «Манифест Коммунистической партии». Изучила речь Владимира Ильича Ленина на III съезде комсомола: некоторые абзацы помнила наизусть. Ну и конечно – основополагающие комсомольские документы, в том числе материалы X съезда ВЛКСМ, который состоялся в апреле 1936 года. Выписывала в свою тетрадь некоторые мысли, некоторые фразы. И даже по одним только этим выпискам можно судить, что интересовало, что тревожило тогда Зою.
«У нас развелись люди, которые различные мещанские атрибуты выдают за зажиточную культурную жизнь… Подобно попугаям, они блистают своим пестрым оперением, под которым скрыто убогое существо невежд!»
Такие «попугаи» встречались и Космодемьянским. Зоя с нескрываемым презрением относилась к ним, к их мещанскому быту.
Еще выписка:
«Забота и внимание к человеку заключаются вовсе не в том, чтобы давать ему все готовенькое, растить в нем чувство сытенького благополучия, за которым всегда следует пресыщение. Забота и внимание заключаются вовсе не в том, чтобы льстить и подлаживаться к молодому человеку, растить в нем маленькое обывательское самодовольство и этим вытравлять в нем чувство нашей гордой скромности… Советская власть открыла перед молодежью все двери, все пути – выбирай любой, иди! Но иди на своих ногах, твердо, смело, с упорством, настойчивостью, дерзай, добивайся, достигай честным трудом, учебой, умением!»
Именно таким путем и шла Зоя. Ее идейная убежденность, ее горячее стремление посвятить себя большим полезным делам не вызывали ни у кого, в том числе и у мамы с Шурой, никаких сомнений. Любовь Тимофеевну тревожило другое: отношение товарищей по школе, предстоящее обсуждение в райкоме комсомола. Примут ли Зою? Для такой тревоги у мамы и у Шуры имелись некоторые основания.
Дома она – обычная девчонка, в меру веселая и общительная, трудолюбивая, с чувством юмора. Любит повозиться с соседскими детишками, покрасоваться перед зеркалом, примеряя мамино платье (уже почти доросла!). А в школе, на людях, очень менялась, замыкалась в себе. Была резка, порой слишком прямолинейна. Учительница химии поставила ей за отметку «отлично», а Зоя вдруг попросила изменить ей оценку. «Почему?» – удивилась учительница. «Потому, что этот предмет я на «отлично» пока не знаю». И учительницу поставила в неловкое положение, и себя тоже. В классе долго потом спорили, права она или не права.
Что это? Свойства определенного возраста в различных проявлениях? Стеснительность, скованность… Но как-то уж слишком обостренно. Вот Шура тоже бывает и груб, и резок, но быстро отходит, мягчает. Он даже более стеснителен, чем Зоя. В гостях или при знакомстве с новыми людьми краснеет, теряется, не знает куда деть большие руки, что сказать. А глядишь, через полчаса он уже чувствует себя как дома. У него все мальчишки в классе – верные друзья. А у Зои только две подруги, Ира и Катя, да и то задушевными их не назовешь, скорее просто хорошие знакомые.
Любовь Тимофеевна беспокоилась: у Зои такое время, когда появляются у девушек секреты, тайны. Братцу-другу Шуре многого не скажешь, даже маме, пожалуй, не откроешь всего, а с подругой можно было бы поделиться, посоветоваться. Но не с кем.
Трудно Зое. Для взрослых она слишком молода и по возрасту, и внешне: худенькая девчонка в полудетских туфельках без каблуков. А со сверстниками ей неинтересно. Она чувствовала себя значительно старше их. Так сложились обстоятельства, что на ней с детских лет лежали настоящие, серьезные обязанности. Забота о Шуре, о доме, даже о маме – у нее не оставалось времени для шалостей, для болтовни, для забав. Она к этому привыкла. Пустяковые занятия, бесполезные разговоры раздражали ее. Зоя и не скрывала своего мнения. В классе, в школе это нравилось далеко не всем.
Казалось, обязательно найдутся ребята, которые выступят против приема Зои в комсомол, припомнят обиды. А получилось как раз наоборот: впервые открыто и ясно проявилось то уважение, с которым, оказывается, относились к Зое товарищи по школе. Комитет комсомола дал ей самую лучшую характеристику, в которой особенно подчеркнул ее честность, добросовестность, принципиальность во всем.
На общем собрании Зоя, борясь с волнением, коротко рассказала свою биографию (да и что рассказывать-то!), четко и точно отвечала на все вопросы. Потом кто-то поднял руку: «Чего ее спрашивать? Мы все вместе с Зоей готовились, и все бегали к ней советоваться: как это понять, как то; что надо прочитать? Лучше уж она пускай нас спрашивает!» А следующий выступавший, ее одноклассник, сказал так: «Сколько лет учился вместе, сколько раз обращались к Зое за помощью, наверно, тысячу раз». – «Ну, прямо уж тысячу!» – усомнились в президиуме. «Может, и больше, – ответил одноклассник. – И никому никогда не отказала. Будет сидеть с тобой, пока ты поймешь, не считаясь со своим временем. Надежный товарищ!»
Зое и неловко было от того, что ее хвалят, и приятно, конечно.
Перед обсуждением в райкоме комсомола Зоя чувствовала себя спокойнее, увереннее, чем в школе. Там ведь, наверно, задают вопросы более общие, теоретические, а к этому она долго готовилась. Пожалуй, на этот раз больше волновался Шура. Он проводил сестру в райком и потом долго, до самой темноты сидел на крыльце, бродил вокруг дома, ожидая сестру.
Принимали многих ребят. Очередь Зои подошла одной из последних. Секретарь райкома, веселый и молодой, спрашивал быстро. Каково сейчас положение в Испании? Читала ли Маркса?.. Ответами был явно доволен. Подумал, прищурившись:
– А что самое важное в нашем уставе, как по-твоему?
Неожиданный был вопрос. Зоя подумала, сказала:
– Самое главное: комсомолец должен быть готовым отдать Родине все свои силы, а если нужно – и жизнь.
– Ну, ладно… А хорошо учиться, выполнять комсомольские поручения?
Зоя даже удивилась:
– Это само собой разумеется.
Секретарь нахмурился, подошел к большому окну, увлекая за собой Зою. Резким движением отдернул занавеску, показал на небо:
– Посмотри, что там?
Зоя вгляделась, пожала плечами:
– Ничего нет.
– А звезды? – усмехнулся секретарь. – Видишь, сколько звезд и какие красивые! Но ты их не заметила, потому что они сами собой разумеются. Пойми: все большое и хорошее в жизни складывается из малого, вроде бы незаметного. Просто каждому надо хорошо делать обычное. Ты об этом не забывай!
Вполне доходчиво объяснил ей секретарь. Не щадить себя ради счастья Родины – важно и необходимо. Но не менее важно и в повседневной привычной жизни наилучшим образом выполнять свои обязанности. Собственно, Зоя всегда так и поступала, но очень уж приподнятое было настроение, когда отвечала секретарю.
Домой сестра и брат возвратились поздно, о многом поговорили, пока добирались от райкома до дома. Зоя плескалась под умывальником, а Шура, подойдя к столу, сказал маме:
– Знаешь, она у нас молодец! Большой молодец!
С этого времени Любовь Тимофеевна начала замечать, как меняется характер Зои. Не утратив принципиальности, она стала как-то добрее к людям. Особенно после того, как ее избрали групоргом. Одно это заставило Зою ближе познакомиться с одноклассниками. Надо было расспросить, кому какое поручение по душе, у кого какие предложения, кто за что возьмется… Сама Зоя взялась обучать неграмотных женщин в одном из домов на Старопетровском проезде.
Не только по школьным, но и по общественным, по комсомольским делам встречалась она теперь с новыми людьми, и с молодыми, и с пожилыми. Тут волей-неволей станешь разговорчивей, добросердечней, переборешь стеснительность, неуверенность, замкнутость.
Зоя, конечно, сама чувствовала, понимала, что с ней происходит. И когда однажды за чаем мама, внимательно посмотрев на нее, сказала: «Ты какая-то неузнаваемая, будто заново родилась!», Зоя ответила весело:
– Ты права! Давай познакомимся, комсомолка Космодемьянская!
И, поднявшись со стула, протянула маме узкую твердую ладошку.
Осенью 1940 года, едва начав заниматься в девятом классе, Зоя заболела. Простуда, потом осложнение. Была дома одна, решила вымыть полы. Набрала ведро воды, намочила тряпку. Дело-то вроде привычное. Наклонилась и потеряла сознание. Мама и Шура, вернувшись из школы, застали Зою в глубоком обмороке. Ее сразу же увезли в Боткинскую больницу. Несколько суток опытные врачи боролись за жизнь девушки.
Медиков удивляла и восхищала выдержка Зои. Высокая температура, сильные головные боли, уколы – а от нее не слышали ни крика, ни стонов, ни жалоб. Профессор, выйдя в приемную к Любови Тимофеевне, так и сказал ей:
– У девочки огромная выдержка… Самое трудное позади, можете не волноваться.
Хоть немного успокоилось материнское сердце.
Не меньше Любови Тимофеевны переживал и Шура, впервые в жизни надолго оставшийся без сестры. Он тосковал без Зои, каждый день готов был ездить к ней в больницу. И очень переменился за короткое время. До девятого класса он оставался мальчишкой. Рослый, с крепкими мускулами, до ледостава купавшийся в пруду, по утрам обтиравшийся снегом, красивый юноша, на которого заглядывались девушки, он в душе был ребенок ребенком. Сегодня мечтал стать летчиком, завтра – знаменитым футболистом, потом художником, потом вдруг агрономом.
Упрямый, задиристый, любивший похвастать, он стеснялся сходить в магазин за покупкой – девчоночье, мол, занятие, приятели засмеют. Легко ему было за сестринской-то спиной. А увезли Зою, и сразу повзрослел, отлетело все пустяковое, наносное, забылись развлечения, шумные игры на пустыре. Шура взял на себя все, что делала прежде сестра. Топил печь, мыл полы, убирал комнату, чистил картошку. Только в продуктовый магазин мама, щадя его самолюбие, ходила сама.
Раньше Зоя и Шура прирабатывали немного по вечерам, копируя чертежи и пополняя семейный бюджет. У Шуры получалось быстрее и лучше. А теперь он взял вдвое больше работы, просиживал над чертежами до поздней ночи, иногда трудился и по утрам, до школы. А получив деньги, сказал маме:
– Шапка мне не нужна, в старой прохожу, не развалится. Давай Зое платье купим. Красивое. Ведь она у нас девушка.
– Согласна. Сам и вручишь ей подарок.
Когда Зоя вернулась из больницы, она была еще так слаба, что с трудом ходила по комнате. Больше лежала. Глаза казались огромными – так она исхудала. Ей бы отдыхать, поправляться, а она взялась за учебники. Любовь Тимофеевна осторожно высказала свое мнение:
– Уже середина учебного года, а заниматься всерьез тебе еще рано. Не лучше ли подождать до сентября, набраться сил…
– Это что же, отстать от своего класса? Шура моложе меня, а школу закончит раньше?
– Тебе обещают путевку в санаторий.
– Я и там заниматься буду. А после санатория – тем более. Вся весна впереди. Догоню. Ни в коем случае не останусь на второй год! – Зоя заявила это так решительно, что Любовь Тимофеевна поняла: возражать бесполезно.
Очень любила Зоя книги Аркадия Гайдара. Перечитывала по нескольку раз. В повести «Школа» ее особенно волновало то место, где Борис, будучи в разведке, забыл об осторожности, об ответственности, самовольно решил искупаться и тем самым погубил своего старшего товарища – Чубука. Что мог подумать о нем Чубук? Только одно: Борис оказался предателем. Каждый раз, возвращаясь к этому месту, Зоя возмущалась: как же он мог? О чем же он думал? Что за несерьезность такая?
«Голубая чашка» радовала ее тонким мастерством. Вроде бы ничего не происходит в повести, никаких особых событий, а какое чудесное, светлое настроение она создает. Даже не верилось, что человек, способный создать такие произведения, живет поблизости, в Москве, ходит по тем же улицам, что и Зоя. Как бы хотелось увидеть его!
И получилось – словно в сказке. Хорошо запомнился ей весенний день в Сокольниках, в санатории. Быстро сбежала она с крыльца, пошла по аллее. Над вершинами деревьев ползли облака. Вот в одном месте они разорвались, появился голубой просвет, веселые, сверкающие лучи солнца упали на землю. Стало светлее вокруг. Под карнизом крыши заблестели сосульки. Едва успели облака затянуть этот разрыв, как солнце проглянуло сквозь хмурую пелену еще в двух местах.
Было тепло. Снег потемнел, сделался рыхлым. Зоя слепила комок и запустила его в дерево. На желтом стволе сосны появилось белое пятно.
– Прямо в цель! – засмеялась она. – Не разучилась, значит!
Безлюдно в парке. День будничный, гуляющих нет. Не видно даже лыжников – кому охота ходить по мокрому снегу! Издалека доносился приглушенный расстоянием шум большого города, гудки автомашин, трамвайные звонки.
Недолго царствовать холоду. Скоро побегут ручьи. Оденутся молодой листвой кусты и деревья, появятся первые цветы… А там, не успеешь оглянуться, экзамены в школе…
Странно все-таки устроена жизнь. Когда Зоя лежала в больнице, она думала, что самое главное – быть здоровой. И все будет хорошо. Но вот поправилась, много гуляет, катается на лыжах. И место здесь красивое, и книг в библиотеке много, и заботятся о ней. Но чувство неудовлетворенности не покидает ее… И не только по школе соскучилась. Ей всегда не хватает чего-то, тянет куда-то, а куда – не поймешь…
Свернула на узкую, глубоко протоптанную тропинку. Полы длинного, коричневого с меховой оторочкой пальто чертили на снегу причудливые зигзаги. По этой тропинке Зоя еще не ходила. Надо посмотреть, куда ведет.
На поляне остановилась от неожиданности. Здесь высилась огромная снежная баба. На голове вместо волос – тонкие прутики. Вместо глаз – угольки. А возле снежной бабы, спиной к Зое, стоял широкоплечий человек. Он достал из кармана щепку, воткнул в снежный ком. У бабы появился рот. Человек отступил в сторону, полюбовался своей работой. «Такой взрослый, а чем занимается!» – Зоя едва удержалась от смеха.
Но вот человек повернулся, и Зоя сразу узнала его. Высокий лоб, добродушное лицо, веселые и лукавые глаза – таким он был на портрете в книге. Пожалуй, только он один и мог так серьезно заниматься мальчишеским делом!
Зоя улыбнулась смущенно, не решаясь заговорить первой.
– Смотрите, это снежная королева! – сказал человек. – Хорошо получилось?
Зоя не ответила. Снежная баба сейчас меньше всего интересовала ее.
– А я знаю вас, – негромко произнесла она. – Вы – Гайдар, я все ваши книги читала…
Они разговорились.
– Я тоже отдыхаю здесь, приказано поправить здоровье, – сказал Гайдар. – Мы с вами летчики, сделавшие вынужденную посадку. Положение незавидное, правда?
– Чему уж завидовать!
– Ну, ничего. Бывает несчастье похуже. Раз мы сели – давайте проведем время так, чтобы и в строй поскорей вернуться, и чтобы весело было… Вы чем занимаетесь?
– Чтение, прогулки.
– А что вы умеете делать?
– Умею лепить снежных баб и строить крепости.
– Тогда давайте работать вместе.
– Идет! – согласилась Зоя.
Вдали послышался звон колокола, сзывающего на обед.
– Эх, не вовремя! – огорченно махнул рукой Гайдар.
– А мы, Аркадий Петрович, в другой раз сделаем.
Весь тот день она находилась под впечатлением встречи с любимым писателем. Зоя знала и о том, какой необыкновенный человек сам Гайдар. Четырнадцатилетним подростком оставил он родной город и ушел добровольцем на фронт. В пятнадцать лет командовал батальоном, в шестнадцать – полком. В боях с белыми был контужен и ранен. Пришлось покинуть Красную Армию, в которой Гайдар хотел остаться на всю жизнь. И, может быть, потому, что сам провел юношеские годы в борьбе за Советскую власть, смог он лучше других рассказать новым мальчишкам и девчонкам о тех горячих днях, о своих храбрых товарищах. Была у Гайдара повесть «Военная тайна». Очень нравилась эта повесть всем ребятам, не нравился только печальный конец, когда гибнет маленький Алька – смелый всадник первого Октябрьского отряда имени мировой революции. Многие ребята просили Гайдара изменить конец, оставить Альку в живых. А Гайдар не изменил. Он ответил ребятам, что победа над врагами дается нелегко и что самые лучшие люди отдают за нее жизнь. А то, что ребятам жалко Альку, – это хорошо. Значит, ребята будут еще крепче любить свою страну и ненавидеть ее врагов.







