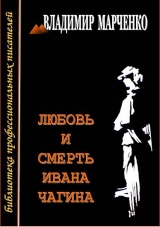
Текст книги "Любовь и смерть Ивана Чагина"
Автор книги: Владимир Марченко
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
5
С началом первых заморозков Чагин и Пожарская перетащились из своих кабинетов в большую приёмную, в которой две печи. Третий сотрудник редакции – пожилой дядя с большими запорожскими усами, в расстегнутой рубахе – исчез. Он и раньше исчезал, но возвращался – угрюмый и виноватый. Писал и фотографировал. Под столом у него стояла бутылка с квасом. А в фотолаборатории пахло брагой и дрожжами. Иван догадывался, что Поплавский страдает запоями. Редкин его держит за исключительную работоспособность и умение делать фотоснимки. А тут техничка-курьер сообщила, что журналиста обнаружили в Самаре. Будто он купил на базаре будку, где делает фотокарточки, пишет заявления малограмотным крестьянам.
Николай Абрамович зазвал к себе Ивана после обеда. Женщины заклеивали окна лентами из газетных полос. Штор – пыльных и выгоревших, не стало. Шторами редактор премировал всех сотрудников к Октябрьской годовщине. Инициатива вышла от Гребнева.
Тонкий бархат обрадовал Евлалию Игоревну Ситникову. Тётя выкрасила портьерину в чёрный цвет и за три ночи, как Василиса Премудрая, скроила и сшила племяннику куртку-пиджак с карманами на молниях, брюки флотского покроя. Обрезки пошли на элегантные перчатки, нарукавники и даже буржуйский галстук соорудила талантливая мастерица.
Кабинет редактора всё ещё походил на склад, но с дивана исчезли подушка и тощий матрасик. Шкафы перенесли в кабинет Пожарской. Длинный стол занимали подшивки, как и прежде. Редактор раскурил козью ножку, но отчаянно принялся её тушить в большой хрустальной пепельнице, которую обнаружили за шкафом.
– Написал информацию. Хотел поправить. А вместо этого начал её курить, – виновато говорил Редкин, качая головой. – Старею на собственных глазах. Газетная суета последнюю извилину выпрямляет. Для молодого – это ничего, а мне за сорок. Больше пяти лет нельзя заниматься газетным промыслом. Что я вызвал? Вот фотокамера. Английская. Разберитесь. Вот самоучитель по светографии. Пойдём в лабораторию. Перепишите, что есть, что надо. Объявления давали. Никто не пришёл. Вы – человек военный. С пулемётами обращались. Пистолеты, куда сложней, чем фотокамера, а ведь у тебя их два. Техника. Вам и карты в руки. Изучайте. Похлопочу, чтобы за вредность паёк добавили.
– Пулемёт – это техника. Фотография – химия, физика. Не смогу…
– Беспартийная Пожарская может? А коммунист не может? Она раньше всех нас приходит на работу. Помогает топить печи, заправляет и чистит лампы. Печатает на машинке, пишет, макетирует газету, вычитывает оттиски, правит письма трудящихся. Она тянет всю редакцию. Я, как простой завхоз, режу бумагу, бегаю в поисках дров, хожу на совещания разные, принимаю ходоков из деревень. Кого мне поставить? Без иллюстраций нельзя. Это будет не газета. Раз в месяц съездишь в Самару, привезёшь клише…
– Зачем ездить? Можно отправлять фотокарточки с почтой или со спецсвязью, – сказал раздражённо Чагин.
– Я – не додумался. Ты сразу решил эту проблему. Можно и фотоматериалы так заказывать. Вот, что значит молодость. Пошли фотолабораторию открывать. Ключ потеряли технички.
– Когда бы мы потеряли? – возразила пожилая женщина в чёрном платке. – Он ведь не давал нам убирать. Ключи прятал с собой.
– Позовите Волокрутова с ломиком, – приказал Редкин, вставая из-за стола. Иван понимал, что обязанности фоторепортёра придётся выполнять ему. Не научившись толком писать, нужно изучать фотодело. Был бы, кто опытный рядом, мог подсказать, научить, а то ведь старенькая книжка – самоучитель, чем поможет? Нужно идти к старику – фотографу, проситься в подмастерье. Не должен отказать. Жив ли?
Чагин и редактор вышли в приёмную. Вокруг стола Пожарской стояли и сидели сердитые женщины. По запаху, по одежде можно было понять, что работницы из овчиннно – шубной мастерской, которую почему-то называли заводом. Пришли жаловаться на горькую долю. Они верили, что им помогут, что-то изменится… Газета имела авторитет.
– …Сыро и сквозняки, – громко говорила высокая молодая женщина, теребя концы платка красными, будто обваренными в кипятке, руками. Её нестройно поддерживали другие. Донёсся возглас:
– Обещали детей устроить. Обещали столовую. Себе сделали, а нам…
Пожарская подняла голову от бумаги, на которой записывала просьбы работниц, увидев Редкина и Чагина, недовольно нахмурилась, отчего её лицо вдруг стало торжествующе злым и даже надменным. А может быть, это Ивану показалось. Екатерина Дмитриевна попросила говорить по-очереди. Иван ещё не видел, чтобы Пожарская на кого-то сердилась. Не слышал он и её смеха. Заметки писала быстро, почти что находу. А если не хватало строк, то присаживалась где-нибудь на минутку, другую, проводила пальчиком по лбу, словно хотела извлечь из головы необходимое, и вот кончик карандаша скользит по грубой бумаги, и вот бегут ровные округлые буквы, сцепляясь в слова, укладываясь в предложения. Иван в такие минуты был отчего-то счастлив. Если замечала его взгляд, тонко улыбалась, грозила пальчиком с шутливой гримаской на лице и уходила царственной походкой. Это походка его дразнила, вызывала бурю странных мыслей, заставляла волноваться.
Призывно и настойчиво затренькал телефонный звонок в кабинете, Редкин вернулся. Его звали женщины, оклеивающие окна, словно он должен сделать очень важное дело, а сами не брали трубку, считая, что от разговоров по аппарату обязательно заболит голова и в ушах заведутся уховёртки. Об этом ему рассказала как-то пожилая статная женщина, приносившая почту. Иван попробовал её разубедить, но она только снисходительно улыбалась, говоря, что о здоровье молодёжь не думает, часто звонит, хотя можно и нужно больше ходить.
– Ломайте дверь. Я – приду. – Сказал Редкин, коршуном устремляясь на звонок. Волокрутов – тщедушный печатник с большой головой и крохотными глазками, утонувшими в голом черепе – осмотрел висячий амбарный замок, посопел, вогнав в его ржавое нутро тонкий подковный гвоздь – ухналь, принялся потихоньку поворачивать, прислушиваясь.
– Керосину бы капельку, – неожиданно хрипло и шершаво сказал он, облизывая мокрые губы. Иван посмотрел на широкий утиный нос, на рябое лицо. Ему показалось, что где-то он видел этого вертлявого человека, помнил его манеру, подворачивать голенища хромовых сапог. Даже походку вспомнил. Тогда он был не Волокрутовым. …Постоянно прижимал локти к бокам, выставив вперёд кулаки. При каждом шаге его заносило из сторону в сторону. Издали казалось, что он намеревается плясать, но что-то выжидает, примеривается, принюхивается своим приплюснутым носом. Где-то они встречались? Потаённая неприязнь к этому незнакомому знакомцу окутала Чагина. Память не хотела, чтобы он вспомнил те события, с которыми связывались его встречи. Подрагивают широкие ноздри, как у дикого кабана, а тщедушное тело играет от усилий. Сапоги переступают в нетерпении, а голова в подёргается в напряжении.
Не прошло и минуты, как огромный замок сдался тонким пальцам, измаранным в чёрной краске. Волокрутов прищурил глаз, как-то весело и ласково шлёпнул по двери ладошкой, приглашая Чагина входить в фотолабораторию.
– Фомкой проще, а потом чем делать ремонт, так Иван? – и ушёл, раскачиваясь, мотая в руке короткий лом-гвоздодёр. Чагин не успел поблагодарить печатника за труд, как подошёл Редкин. Озабоченно, вытирая платком ладони, сказал:
– Завтра в шесть Гребнев приглашает в деревню. Взять тебе нечего. Бумаги нет. Тираж упал. Возьми хоть старые номера из резерва. …Какая разница им там из чего цигарки слюнявить? За ночь не успеем. Опять полосу рассыпали. Не заключили, и машину крутанули.
Вошли в лабораторию. Спёртый воздух, настоянный на химикатах, ударил в нос. Чагин поспешил к окну. Открыл форточку. Редкин обиженным лицом смотрел в стеклянный шкафчик. На полках стояли пустые жёлтые банки. Читая надписи, редактор что-то невнятно и безрадостно бормотал: «Нужен метол и сульфит натрия… Пусто. Ничего нет. Хотя бы гидрохинон. Сходишь на кожзавод, может, у них есть какая химия. Посмотри в справочнике рецепты проявителей. Выпиши самые простые… Здесь должна быть фотобумага. Надо зажигать лампу в красном фонаре. Иначе засветится. Я – в юношестве пытался освоить даггеротипию. Были какие-то познания, но выветрились со временем».
– А давайте делать двухполосную газету? – вдруг сказал Иван, выходя за редактором в коридор. – У нас была в дивизии. Отпечатаем сейчас первую и четвёртую полосы. Они готовы у нас. Вместо четвёртой напишем – «вторая». Переставим набор местами и вторую сторону отпечатаем. Потом разрежем разворот. Получим двухполосную газету. Бумаги меньше…
– Оперативность можем поднять. Материалу меньше… – Редкин смотрел на Ивана и восторженно крутил головой. – Это многое меняет. За ночь успеем отпечатать. Вот только бы Гребневу понравилась твоя идея. Где вы раньше были, Иван Филиппович? Это же в корне изменит всю нашу работу. Не придётся так напрягаться. Экономия бумаги. Зачем нам четыре большие полосы? Будем выходить два раза в неделю… Пойдемте к Гребневу. Я позвоню ему сейчас же, чтобы он нас принял без проволочек. Вы ему всё расскажете. Как коммунист – коммунисту. Он вас быстрее поймёт. – Редкин улыбается серым лицом, заботливо гладя ореховыми глазами Ивана. Его мужественные губы озаряет медовая улыбка, и даже шрам на лбу становится не таким страшным и рваным. Он словно сглаживается, уползая в пышную каштановую шевелюру.
6
Фиолетовый чернильный сумрак, замешенный на сочащихся из труб дымах, выцветал с каждой минутой. Город зябко просыпался. Под окнами на грязном снегу стелились жёлтые ленты света. Слышались редкие ленивые собачьи голоса, простуженный скрип колодезных воротов и журавцов. У здания уездного комитета партии толпились люди, посверкивая злыми волчьими глазами огоньками цигарок и папирос, громко переговаривались, толкали друг друга.
Днём снег нехотя подтаивал. Крыши и заборы темнели. Кусты сирени не успели скинуть листву. В лужах истово купались крутобокие облака, принимали последние ванны воробьи. К вечеру бахрома кривых сосулек, спускающаяся с крыш, грозила сверкающими пальцами, напоминала о недалёких морозах и буранах. У Воскресенской церкви расцвела, обманувшаяся теплом, рябина. «Не к добру, – сказала тётя, глядя, как племянник Иван проверяет собранный накануне вещевой солдатский мешок. – Надо рубить такое дерево».
– Что из того. Зацвело. Так получилось. Ошиблось. Перепутала осень с весной. Вот и украсила себя цветами, посмеивался Иван, укладывая две овальных гранаты, пачку патронов в картонной коробке с синей полосой.
– Обманулось. Это плохо. К худу. Зима будет, а не весна. Зима – это смерть. Всё и вся имеет свою весну, лето, осень. Зимой не живут. Мудрость народа.
– Вы тётя, философ, сказал Чагин, натягивая подшитые серые валенки, сидя на голбце, рядом с котиком.
– Будь осторожен. Говорят, что скоро кончится новая власть. Отцветёт, как рябина. Видано ли, в Самаре церкви закрыли. В монастырях всех монахов разогнали.
– У нас Гребнев не допускает такого беззакония. Службы идут. Люди должны молиться в храме. Этого нельзя отнимать.
– Есть кто и повыше Гребнева твоего. Прикажут. Он должен выполнить директиву. Ослушаться не сможет. Только до переворота сирот было меньше.
Третий раз Чагин едет с Гребневым в рейд по уезду. И всегда чувствует волнительный холодок, словно перед атакой. Укомовцы организовали сельские Советы. Гребнев развозил газету по сёлам, снимал одних председателей, назначал других, занимался реквизицией оружия, самогона и военного снаряжения, которого в деревнях скопилось много после войны, которая вихрями катилась по уездам большой Самарской губернии.
Материалы Ивана походили на фронтовые донесения, списанные с телеграфной ленты. «Дайте картинку, требовала Пожарская. Покажите, что и где происходило. Не могли эти люди разговаривать одинаково. В темноте услышав человека, можно сказать о нём очень многое. Послушайте, что вы пишите. Через жест покажите отношение к событию, к близкому, к еде. Смотрите на руки, на лицо. Слушайте. Врач не может говорить, как конюх. Оставьте. Я помогу. Не теряйте времени. Его величество Опыт приходят к тем, кто много работает, работает до пота, до изнеможения. …Почти, как Редкин. Он одарённая личность. Но не может идти в ногу со временем. Не получается. – Смуглая кожа Пожарской, освещённая ярким светом, оказалась не гладкой, а с лёгким пушком, незаметным, но существующим. Это открытие потрясло Ивана. Над верхней губой угадывались тёмные крохотные волоски. «Где же я её видел? терзал память. – Мы встречались! Мы были знакомы. – Он перебрал фамилии тех, кого не забыл. – Знал ведь её раньше. Знал… Кто она?»
…Дезертиры подкарауливали активистов-селькомовцев, а те в свою очередь, ловили их и расстреливали «при попытке к бегству». Землю во второй или третий раз поделили по едокам. Из-за клочка, из-за межи бились брат с братом, сосед с соседом. Мирились. Пили до беспамятства самогон. Молодые ходили с гирьками и кистенями на вечёрки. Мазали ворота дёгтем, раскатывали бани. Новая власть у многих зажиточных была костью в горле – вытащить нельзя и не проглатывается. Бедняков она радовала, особенно тех, кто не работал при царе, не собирался потеть и при Советах. Требовали семена, лошадей, кричали на собраниях громче всех ленивые и наглые. Бывшие казаки каялись, умоляли простить за ошибки, старались угодить новой власти, отдавая в коммуны коров и лошадей.
Скрипела упряжь. Щёлкал кнут. Из полумрака доносились молодые голоса. Впереди на поворотах видел Иван двое розвальней, силуэты парней в дохах и тулупах. Позади катились пароконные сани с зачехлённым пулемётом системы Гочкиса, установленным на самокованную треногу, собранную из металлических прутьев церковной ограды. Пулемёт Шоша лежал поверх волчьей полости в ногах у Чагина. На козлах переговаривались два красноармейца. Ему казалось, что голос одного ему знаком с давних пор, но вспомнить не мог, ни имени, ни фамилии.
Отношения с гребневскими ребятами не складывались. Сам виноват был в этом. Когда работал секретарём, не важничал, но загрузив себя работой, не общался ни с кем. В городе помнили, что Чагины имели большой дом с полуподвалом и двумя этажами. Считали их буржуями. Отцов брат был председателем суда, товарищем прокурора. Отец ведал железной дорогой, был попечителем училища, водил дружбу с мастеровыми из депо, но ездил в гости в своей коляске к богатым горожанам, у которых была торговля в руках и промышленность степного городка. Дед Чагин был знатного казацкого рода, отличился на службе царской и был пожалован деревней где-то в крымской губернии, но выйдя в отставку, проигрался, хотя детей своих выучил, откупив от службы. Старший сын был юристом, уехал в Польшу перед февральскими событиями. Иван жил после гибели родителей с тётей и старшей сестрой Лизой, которая вышла замуж за инженера мостостроителя. Оставив записку, Иван отправился в Самару. Сестра уехала во Францию. Известий от них не поступало. Отцова сестра пыталась сберечь добро брата, но её яростно выбросили на улицу анархисты, разрешив взять кое, что из одежды и постельного белья.
На поворотах скрежещут полозья саней по мёрзлой каменистой земле. Искрят самокрутки парней. Это в книгах красиво воюют. Похоже, не доводилось ни Куперу, ни Вальтеру Скотту в штыковые атаки ходить. Не писали они в своих романах, как пахнут посеченные шашками люди, какого цвета у них внутренности, какими глазами смотрят на свои оторванные конечности и вывалившиеся в придорожную пыль внутренности. Да и нужно ли писать, как уродуют друг друга русские люди. Смотрит Иван в степь. Придрёмывает. Тоскует его нежная душа. В который раз он видит один и тот же сон. Разлившийся изумрудный Нил, высокие пирамиды, сверкающие на ослепительном солнце. Кареглазая египтянка идёт к нему со своими слугами. И себя видит, вроде как со стороны, с высоты смотрит на свой окопчик мелкий, на винтовку. Дождь. От ствола пар поднимается. Отступила дивизия под самый Уральск. Разбили казаки штаб. Порубили раненых и обозников. Тяжко и горько. Двадцатидвухлетний Иван Кутяков командует дивизией. Идут на Гурьев. Холод, голод и тиф.
…Не желают белополяки покидать Украину. Дивизия носит имя Чапаева. Только нет его. Никто не знает, где могилка. Тяжёлые бои. То наступали, то отступали. На улице Житомира на полном скаку полетел через голову Иван Кутяков. Несут его контуженного и раненного, а он умоляет шашку найти. Ту, которую вручил ему Василий Иванович, большую шашку, дамасской стали, украшенную серебром. Это была его мечта. «Заслужи, – говорил начдив, будто поддразнивал парня, который не так давно женился на гимназистке Клаве Додоновой из Уфы. И заслужил. Толпы приводил пленных. Дивизию белых разделал под орех. Перед строем снял Чапаев свою шашку с себя и подал другу. А Кутяков застеснялся вдруг. Жалко стало Чапаева. Без шашки он стоит, словно голый в предбаннике. Вроде, как и отказывается. Но Чапаев улыбается в усы, подаёт награду. «Бери, бери. Заслужил». Весело в ротах и полках. Рады за Ивана. И нет Чапаевской шашки у Кутякова. Пропала. Чьи-то заботливые руки прибрали потерю.
«Где-то она есть, у кого-то спрятана. Такое оружие не может ржаветь напрасно в канаве». – Думает Иван. Тепло ему. Расцветает он, как рябина у храма. Воспоминания накатывают, как мягкие волны, нежно приглаживают. Жизнь Ивана делится на два периода: до войны и после. Только забыл он всё, что было у него в детстве. Даже дом свой не узнал, а вот тётю почти вспомнил. Её не просто забыть. Только она его понимала. Пьют фронтовики. Пьют. Каждый день в самогонном угаре проходит. Так легче. Так проще. Когда трезв, тяжело смотреть на мир. Не нуждается в дружбе кичащихся своей властью мальчишек-чоновцев. Не пьёт с ними самогон. Не участвует в соревновании по стрельбе. С одной стороны он командир роты. Хотя и бывший. Гребнев назначил его командовать отрядом самообороны. Вот только на его улице и двух переулках четыре человека согласились служить новой власти. Все пожилые. Покалеченные. Рады получать паёк, но по тревоге Иван не может их собрать. Прячутся. Собранный гарнизон состоит из двух взводов. Наглые и всегда с похмелья парни ходят с кавалерийскими винтовками, иностранными карабинами. Им доставляет удовольствие стрелять в человека. Они уверены в своей безнаказанности. Они тупы и не образованы. Выдают себя за политических. Но некоторые отбывали за грабежи и разбои. Чагина сторонятся. Прикрываются мандатами, в партию лезут с писком. Комсомольцами называют себя. Грабят крестьян. Ищут оружие, а тащат сало и самогон. Борется Гребнев с мародёрством. Наказывает. Боится палку перегнуть. Не дурак. Боится остаться в одиночестве. Но понимает, что на сегодняшний день у него нет, и не будет иных помощников. Другие – честные и преданные не придут. Дома сидят. Со страхом и надеждой ждут возврата старого. Им страшно. Кажется, что весь мир, в самом деле, разрушен до основания. И эта разруха будет долго жить в городах и сёлах, отравляя мысль о вере в будущее, которое придёт и будет ласково сладкой, как апельсин.
Не о такой жизни он мечтал, когда с другом Дудкиным Степаном тайком бежали к Чапаеву, когда, лёжа в окопчиках на жаре, отбивали атаки мальчишек-офицеров. Молодые и симпатичные прапорщики и подпоручики шли парадно. В деревне Вотюкеево петухи пели. Встающее солнце слепило Чапаевцев, всю ночь копавших траншеи. Полки переправились через реку. Перевезли на барже броневики. Один свалился с помоста, подняли, поставили. Иван и его приятель с разрешения покинули обоз, в котором были декорации театра. Анна Фурманова разрешила идти в бой. Числились они политбойцами. Сидеть в обозе не могли. Наступление по фронту, нужно брать Уфу, как взяли Чишму. Девчонки ткачихи выносили бойцов раненых у деревни Новая Каргала, где были ожесточённые бои. Двадцатилетняя комсомолка Лидочка Челнокова вступила в отряд особого назначения Михаила Фрунзе, который влился в 220-й полк 25-й дивизии, несколько раз была ранена. Увязалась за старшим братом Александром, участвовала в боях за Лбищенск, за станицу Сахарную. Была тяжело ранена в этом бою и отправлена в тыл во вовремя отступления к Уральску. Клочкова Таня в перерывах между боями учила грамоте боевых товарищей. Она была учительницей из Сызрани. Перебегая к раненому, была убита. Поднялись, не сговариваясь, бойцы и кинулись на врага, сметая всех на своём пути. Разве могли они кормить лошадей, когда такие отчаянные девушки шли в бой.
Пуля попала с самолёта Чапаеву в голову. Переправу через Белую обстреливали и бомбили с аэропланов. Впереди Уфа. Врач Жемков клещами плотницкими вытащил застрявшую в кости черепа пулю. Забинтовал голову грустного начдива. Иван Кутяков взял переправу дивизии в свои руки. Помчались конники по берегу реки, выискивая лодки, будары, чтобы переправить броневики и орудия. Отняли пароход, прицепили баржу, на которую скатывали «Ланчестеры» и «Остины». Переправляли на другую сторону. День прошёл в угаре. Второстепенное направление, отводимое 25-й, стало главным. Другие полки и дивизии не справились с задачами. Чапаев с Кутяковым справились.
Утром рано ел Иван яишню на сале, как к нему ввели печника. В волнении рассказал, что ночью переплыл реку, чтобы сказать, как утром пойдут полки белых в «психованную» атаку. Иван не знал, что такие атаки бывают. И приказал рыть траншеи и установить на прямую наводку орудия, на флангах выставить все имеющиеся пулемёты. Конницу и броневики спрятал в резерв.
Они тогда ещё не ожесточились. Жалели сверстников, падающих и корчащихся от боли смертельной. В снах и полудрёме видит Иван глаза. Чужие. Болью безутешной окаченные. Много этих укоряющих немых свидетелей страшного и горького. Глаза жалуются и тоскуют.
Не будут встречать ребятишки чумазого от угольной пыли и мазута Степана Дудкина, машиниста паровоза. Это был такой друг! Если обойти все страны, другого похожего на него, не найти. Может быть, и остался под солнцем, не смани он его тогда. Кто знает, кто кого сманил. Сейчас вместе ходили бы в клуб, плевались подсолнечной шелухой, угощали комсомолок жмыхом и тискали их в тёмном фойе кинозала. Может быть, работали вместе. Мечтали о том новом государстве, которое они завоюют, в котором всё будет по справедливости, по совести. У всех будут блины по праздникам и блескучие атласные шаровары, а жилетки – красного бархата. Не получается по справедливости. Не выходит. Пока. Даже лепёшки с отрубями не все едят. Неловко Ивану приносить свой паёк. Тётя в детском доме получает гнилую капусту, прогорклое масло, стакан пшена с чёрными мышиными вкраплениями. Стыдно ему становится, когда выкладывает из мешка сахар, трофейные мясные консервы, коровье масло рисовую крупу, белую муку, осетровый балык, чёрную икру. «Нет справедливости, – думает Иван и тошно ему становится. – За это ли воевали?»
Из губернских организаций наезжают важные уполномоченные в автомобилях, в иностранных пальто, в галстуках и шляпах, пахнущие одеколоном. Глаза наглые, спокойные, лица – свежие, сытые самодовольные. «Эти построили социализм, но только себе, а народ так и будет за кусок хлеб работать. Неужели всё было зря? – задаёт себе вопросы Иван Чагин – коммунист и не находит ответа. – Хорош Гребнев. Окружил себя подхалимами, которые ему в рот глядят. Любимые песни секретаря выучили, чтоб на гулянках петь. Выгнал писаря, который за гуся справку выдал. А справка кому? Надо разобраться. Выгнал одного, а другого принял. Тот в коридорах комсомолок тискает, а те хохочут и конфеты у него берут. Скотов надо таких стрелять, а не в партию принимать. Что сам Гребнев видел? Писать не умеет. В окопах учён, на бронепоезде ликбез проходил. Где Австралия он знает, кто такой Байрон – лучше не спрашивать. Такое время. Он и сам не рад, что приходится заниматься разными вопросами, которые всегда неотложны, которые требуют его вмешательства. Есть исполком, есть аппарат, который всё больше о пайках думает, а не о решении городских проблем. Гребнев сам виноват. Не требует с подчинённых планов работы, не контролирует исполнение их. Сам, везде сам. Не доверяет. Не умеет руководить? И то и другое. Решает Иван.
Прошёл тревожный месяц гражданской жизни. Трудно Ивану вживаться в новую жизнь. Не понимает её. Двусмысленная какая-то она. Две правды у народа и у новой власти. Как понять её? Привозит материалы из рейдов. Ждёт, когда Екатерина Дмитриевна прочитает его новые зарисовки, писанные вечерами в сельских избах при свете коптящих ламп, под пьяные выкрики парней, отбирающих у крестьян оружие, а если подвернутся самогон, сало, не побрезгуют. Попробуй пожалуйся. Подбросят парочку обойм, доказывай, что ты не верблюд.
Катя понимает эту новую жизнь. Она легко разбирается в ней, старается помочь людям вникнуть в её суть. Ничто её не волнует и не тревожит, так как у неё нет сомнений в правильности партийного курса. О НЭПе говорит много, потому что много читала брошюр и газет, поясняющих необходимость новой экономической политики. Вот такая она умная и красивая.








