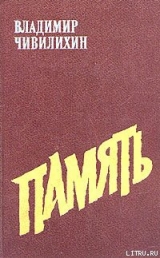
Текст книги "Память (Книга вторая)"
Автор книги: Владимир Чивилихин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Правда, был он человеком до щепетильности скромным: «Досадно, что Мозгалевская благодарит меня, когда я тут нуль…» Адресат возразил: «Назначение денег Мозгалевской совершенно зависит от Вас, – я, конечно, не буду против Вашего решения. Да и к тому же деньги есть – так и нет ни малейшей причины не помочь ей… Довольно ли ей послать еще 100 р. на нынешний год, т. е. до августа? Напишите».
Эти строка написаны в Москве 27 января 1858 года одним замечательным человеком, о котором непременно следует вспомнить. Молодой чиновник министерства государственных имуществ Евгений Иванович Якушкин, сын декабриста. Разделяя революционные идеалы отца и его товарищей, Евгений Якушкин стал тайным корреспондентом «Полярной звезды», и большая часть декабристских материалов попала к Герцену при его посредничестве. Он неотступно просил декабристов писать воспоминания, и настойчивости этого человека мы обязаны многими драгоценными страницами былого, впервые напечатанными за границей и на родине…
Иван Пущин – Евгению Якушкину:
«Как быть! Надобно приняться за старину. От вас, любезный друг, молчком не отделаешься-и то уже совестно, что так долго откладывалось давнишнее обещание поговорить с вами на бумаге об Александре Пушкине, как, бывало, говаривали мы об нем при первых наших встречах…»
Евгению Якушкину благодарны не только историкидля потомков декабриста Николая Мозгалевского он сохранил единственное письмо их прародительницы Авдотьи Ларионовны.
Иван Пущин – Евгению Якушкину:
«Вот Вам, добрый мой Евгений Иванович, для прочтения письмо Мозгалевской. Значит, Вы можете убедиться, что ей можно назначить, как я вам об этом писал с Нарышкиным».
Именно Е. И. Якушкин стал практическим организатором и казначеем декабристской артели взаимопомощи, возглавляемой Иваном Пущиным, который, как мы убедились, был прекрасно осведомлен о положении всех нуждающихся декабристов, их вдов и детей.
А вот новые строки из писем, касающиеся нашей темы.
Иван Киреев – Ивану Пущину:
«А. Л. Мозгалевская просит благодарить Вас за память о ней, за помощь семейству».
«Без всякого пристрастия об нашей общине можно сказать по совести, что она (дочь П. И. Фаленберга – Мина.-В. Ч.) и две дочери-девицы Мозгалевские-лучшие девицы в Минусинске, за неимением блестящего светского образования, были бы таковыми и не в одном Минусинске».
Иван Киреев – Евгению Якушкину:
«Деньги, которые будут назначены семействам Мозгалевских и Тютчева, можно пересылать в Минусинск на имя старшего сына Мозгалевского – Павла Николаевича… Считаю излишним прибавить, что в исправном распределении всего присылаемого из Малой артели можно совершенно положиться на честного и доброго Павла Николаевича».
Петр Фаленберг – Ивану Пущину:
«Я передал ему (И. В. Кирееву. – б. Ч.) Ваше поручение, а также и Авдотье Илларионовне лично. Последняя повторяет Вам и Наталье Дмитриевне свою благодарность за присланные ей деньги, способствовавшие ей к отправке сч сына в корпус. Она усердно просит Вас, когда будете в Петербурге, узнать о сыне, Викторе, принятом в том же 1-м Кад. корпусе, где мой Федя, и пригласить молодого человека писать почаще к матери, получившей только одно письмо от него».
Иван Киреев – Ивану Пущину:
«Если будете в Петербурге, загляните в 1-й Кадетский корпус, отыщите там нашего (курсив мой. – В. Ч.) Виктора Мозгалевского и пристыдите его за то, что он родной матери не пишет».
Как видим, жизнь большого семейства Мозгалевсккх вроде налаживалась-все дети выжили, становились взрослыми, самостоятельными; эта победа над голодом и нищетой была бы невозможной без героических усилий Аздотьн Ларионовны и помощи декабристов – братьев Беляевых, Ивана Пущина, Николая Крюкова, Ивана Киресва, сыновей декабриста Ивана Якушкина – Евгения и Вячеслава, минусинского окружного начальника Н. А. Кострова, человека прогрессивных взглядов, умного, добросердечного и деятельного, оставившего заметный след в сибирском краеведении,-за время своей минусинской и томской службы опубликовал в различных изданиях сто тридцать статей по этнографии, экономике, истории, статистике, географии Сибири…
Эта поддержка выходила далеко за рамки денежной помощи из средств декабристской Малой артели. Братья Беляевы, добившись перевода на Кавказ, безвозмездно передали вдове все свое минусинское достояние. Николай Крюков по-отечески опекал осиротевшую семью в самые трудные для нее годы. Дочь Николая Мозгалевского, Елена, несколько лет прожила в семье Костровых, получив хорошее воспитание и неплохое – по условиям Минусинска-образование. Самого младшего сына, Виктора, родившегося незадолго до смерти декабриста, подготови.: к трудным вступительным экзаменам в корпус Иван Ки.раев, до конца оставшийся верным «славянскому» братству. Брат Евгения Якушкина Вячеслав во время своей поездки по Минусинскому округу помог трем старшим сыновьям избежать рекрутчины, официально вытребовав из степи «наемщика», семье которого был уже дан задаток, на местные власти по каким-то причинам его не отпускали.
Эту ситуацию я поясню современному читателю.
Поставка наемного рекрута широко практиковалась в те годы состоятельными людьми, спасавшими таким способом от многолетней солдатчины своих сыновей. Однако в данном случае нужда накладывалась на нужду. Какая-то бедная степная семья, чтобы просуществовать, прикупить, скажем, скота, за деньги и вне срока отдавала молодого парня в солдаты, а вдова декабриста, чтобы надолго, если не навсегда, не расстаться с кормильцами, пошла «стоять у порогов», прося денег на подменного рекрута. Наконец минусинский золотопромышленник по фамилии Шемиот дал 1200 рублей серебром, закабалив сыновей декабриста, – четыре года они работали на его приисках без какого-либо жалованья, «из одного куска хлеба», как пишет А. Л. Мозгалевская Ивану Пущину. О судьбе наемного рекрута мы ничего не знаем – может, он вернулся на родину, а может, и сгинул в крымской или кавказской войне, став случайной и безвинной жертвой той жизни и все-таки не предотвратив этой жертвой ужасных трагедий в семье, от которой отвел рекрутчину…
Прежде чем рассказать о том, как великие беды вновь начали обрушиваться на Авдотью Лариоиовпу, накладываться одна на другую, чему, казалось, и конца не предвиделось, остановлюсь на судьбе третьей дочери декабриста.
Родилась она уже в Минусинске, с малолетства все звали ее ласкательно Полинькой – очень хороша собою была девочка, добра и нежна ко всем и всему. Это ее в 1848 году власти разрешили отдать в Омск, на пропитание и воспитание «добрым людям», которые вскоре переехали, увезя девочку от матери еще дальше, к самому Уралу. Они не виделись десять лет, и как все-таки жаль, что сгорели в 70-х годах все бумаги Мозгалсвских, в том числе письма Полиньки и ее воспитателей к Авдотье Ларионовяе-в них могло отложиться немало весьма интересного. Дело в том, что «добрые люди» были не просто благотворителями из богатых мещан, купцов либо чиновников – воспитателем, вторым отцом Полиньки Мозгалевской стал чрезвычайно интересный человек, о котором, как и о его супруге и ее родне, я расскажу поподробнее. Но перед этим – о недавнем моем личном знакомстве с некоей юной москвичкой и заочном-с ленинградкой, прожившей, быть может, дольше всех других ее сограждан, и о том, как это странно-нежданно приключилось через посредство старых камней Москвы…
2
Когда увлечешься чем-нибудь искренне и надолго, то все окружающее как-то незаметно пропускаешь через призму этого настроя, а из встречных людей тебя больше интересуют те, кто способен понять твое состояние, но истинным праздником я стал считать день, когда кто-нибудь непреднамеренно и естественно вплетал хотя бы тончайшую ниточку в бесконечную цепочку прошлого, какая годами все туже скручивалась в моей памяти…
Вспоминаю о недавнем знакомстве с потомками декабристов Рылеева, Бечаснова, Раевского, Якушкина, вспоминаю, как мы с ландшафтным архитектором старой школы Михаилом Петровичем Коржевым неторопливо, не пропуская ничего, бродили по Кусковскому парку. Липовые аллеи, Оранжерея, Зеленый театр, Игальянский домик с нетрадиционными, излишне реалистическими, почти карикатурными барельефами патрициев, Эрмитаж-изящное двухэтажное каменное строение…
– Помню, незадолго до революции в этом Эрмитаже еще действовала подъемная машина, – рассказывал Михаил Петрович. – Хозяин мог пригласить гостей наверх и обойтись без присутствия слуг-блюда подавались снизу через отверстия в перекрытии и столе. Архитектор Карл Иванович Бланк.
– Из немцев небось? – спросил я, подумав, впрочем, что Бланк мог быть и из французов, если поначалу его звали Шарлем, а отца Жаном.
– Их тогда много обрусело, и не без пользы… Бланк тут в середине восемнадцатого века отделывал дворец, Оранжерею, устроил парк «Гай» со всеми павильонами, который ныне – видите? – оказался вне заповедной черты…
Эрмитаж был очень хорош, весь светился в липовых кронах! Позже я разыскал письмо П. Б. Шереметева московскому архитектору К. И. Бланку:
"Государь мой Карл Иванович!
Какие нынешним летом в селе Кускове у меня будут строения… Прошу, чтоб оные были начаты, не упуская время, а особливо армитаж".
А спустя год, когда мы с замечательным нашим реставратором-архитектором Петром Дмитриевичем Барановским вышли подышать в сад Новодевичьего монастыря, восьмидесятипятилетний архитектор, знаниям, памяти и горячности которого я не уставал поражаться, немедленно воспламенился:
– Карл Иванович? Это был выдающийся русский зодчий! Ново-Иерусалимский монастырь, конечно, знаете? Ну, ту феноменальную громаду, что патриарх Никон соорудил над Истрой…
– Бывал.
– Бухвостов, из крепостных архитекторов, все окружил камнем. Его-башни, надвратная церковь, и уж не знаю, кто виноват, что позже претяжеленный русский каменный шатер над романским ротондальным собором рухнул. Не предусмотрели прочных связей, о чем мы с вамп не раз говаривали… Через сто лет после Никона шатер по проекту Растрелли восстановил в дереве Бланк. Это было сооружение высшей архитектурной кондиции, достояние общечеловеческой культуры. Его, как вы знаете, взорвали фашисты… Жаль до слез, до боли вот тут.
Пегр Дмитриевич тронул рукой грудь, задумался, и я тоже вспомнил жуткие руины Воскресенского собора, пытаясь вообразить, что собою представлял шатер Растрелли-Бланка. Мой собеседник был счастливее меня, потому что он его видел, и куда несчастнее, потому что острее чувствовал эту потерю, глубже понимал ее непоправимость. Правда, у меня давно были выписаны слова его покойного товарища, другого великого знатока академика Игоря Грабаря: «С точки зрения архитектурного типа здание было беспримерным и единственным во всей древней Руси. Его гигантский круглый зал с окружавшей его широкой галереей, наполненный светом, с исчезающим в высоте смело решенным шатром покрытия, тоже полным света и блеска, скульптурное и красочное одеяние стен собора-все это в превосходном синтезе производило потрясающее впечатление. Мощная романская ротонда Старого Иерусалима, соединенная с русской шатровой крепостной башней, и беспредельный в своих перспективных эффектах, огромной зодческой силы зал в духе барокко, насыщенный сиянием света, сверканием золота, морем лепки и росписей, слились в этом подмосковном соборе в единый ансамбль небывалой торжественности…»
С горечью я вспоминал также последнее свое посещение Нового Иерусалима. Шатер начали восстанавливать, однако это было гибелью памятника. Ошиблись в расчетах, не подняли всех документов, и шатер потерял два метра высоты. Бланк сделал с одной стороны его основания примыкающую заоваленность, а тут циркульный круг вытеснил, уничтожил балкон – неотъемлемую часть внешнего архитектурного убранства собора. Узкие люкарны, кроме того, не позволят по-старому впустить свет под шатровое пространство. Но главное-ребристый многогранник покрыли толстыми листами железа, которое уже начало ржаветь. Через два десятка лет они прохудятся насквозь, и дождевые протеки загубят лепнину и весь памятник. Мы организовали на этот счет письмо в соответствующие инсганции, и решено пока прекратить работы по теперешнему проекту, который Петр Дмитриевич Барановский с самого начала называл невежественным и еще злее…
– А в Москве Бланк что-нибудь построил?-спросил я, заметив, что задумчивость покинула Петра Дмитриевича и он смотрит на меня, словно пытаясь вспомнить, на чем прервался разговор. – Где-то я встречал его постройку.
– Не спешите… На запад от Москвы, где я каждый камень помню, есть у него еще кое-что. Знаете Вышгород?
– Ну, Вышгород под Киевом был резиденцией Рюрика Ростиславича, который сразу после смерти князя Игоря разграбил и сжег Киев.
– Да нет, Вышгород под Вереей! Там стоит на восьмерике церковь Бланка прекрасных форм… А в МосквеВоспитательный дом на Солянке с казаковским фасадом сохранился, и тут же красовалась его прекрасная церковь Кира I! Иоанна… Скажите, какое для вас имеет сейчас значение, – по поводу чьих именин создавалась нетленная красота?
– Чаще никакого.
– Вот. Эту церковь возвела не Екатерина Вторая в честь своего воцарения, а московский архитектор Карл Бланк с мастерами-каменщиками!
– Мало кто его знает, только специалисты.
– Понятное дело… А он умел обойтись с камнем скромно, сдержанно, в высшей степени благородно. Стояла такая церковка Бориса и Глеба у Арбатских ворот… Собственный сводчатый дом Бланка на Пятницкой. Несколько лет назад снесли, хотя я, кажется, сделал все, чтоб его спасти. И это Бланк, я его руку знаю. Мало ли, документы не найдены!.. Камень-тоже документ, да еще какой достоверный! Только его надо читать…
Вдруг я вспомнил, что знаю еще одну постройку Бланка в Москве. Когда попадаешь на Ново-Басманную, то непременно приостанавливаешься у церкви Петра и Павла под звоном. Вокруг нее великолепная кованая ограда XVIII века, охраняемая государством, а сама церковь чрезвычайно оригинальна и, кажется, одна такая на всю Россию-над ней вполне готический шпиль. Возведена была вскоре после основания Петербурга, когда строительство в Москве замирало, но самое интересное другое-проектрисунок ее набросал не кто иной, как Петр, вспомнивший в тот момент, наверное, островерхие голландские храмы, близ которых он в юности плотничал, осваивая корабельное дело. Колокольня стоит слитно с церковью и очень фундаментальна; второй ярус-восьмерик, а по углам ярусов мощные колонны дорического ордера.
– Петр Дмитрия, – сказал я. – Петра и Павла под звоном на Ново-Басманной помните, конечно?
– Как же! По эскизу Петра Великого строена. Только это не Бланк, он тогда еще не родился.
– Нет, я имею в виду колокольню.
– Бланк бесспорный, даже документы сохранились… Да, еще одна интересная постройка – Никола-в-Звонарях на Рождественке. Как эта улица теперь называется?…
– Жданова.
На улице Жданова я бываю довольно часто, потому что там, неподалеку от Книжной лавки писателей и рядом с Архитектурным институтом, стоит Книжная лавка архитектора, где иногда можно застать что-нибудь интересное о зодчестве или парках. Однажды я решил заехать в этот магазин, забрав по пути дочь Иринку с консультации по истории-она готовилась к экзаменам в университет, занималась с утра до вечера, побледнела, вытянулась в штакетину, и я старался при любой возможности поэкономить ее время и силы. В машину вместе с ней села милая скромная девушка такого же заморенного вида и с такими же учебниками в руках.
– Удивительное совпадение! – сказала мне дочь. – Оказались рядом на консультации и живем рядом! Катя едет на проспект Мира.
– Правда что редкое совпадение, – пришлось согласиться мне.-Едем, только через улицу Жданова-потеряем несколько минут, прокатимся с Катей…
Девчонки засмеялись нежданному словосочетанию, и я был рад, что они услышали его, особенно за дочь рад, потому что она подала заявление на филологический. Как-то постепенно у нее это решилось-изучать сербскохорватский язык и литературу, с азов македонский, польский, древнегреческий и старославянский, продолжать английский…
– Сам же говорил, что из славянских языков сербскохорватский ближе всех древнерусскому!
– Это не я говорил. Это академик Корш говорил, когда разбирал ритмику и строй «Слова о полку Игореве».
– Тем более.
– А Пушкин насчет частицы «ли» в «Слове» писал, что доныне в сербском языке сохраняет она те же знамепования.
– Вот видишь!
В нашем небольшом семействе царит ничем не ограниченный культ «Слова» и его автора.
– И «Святославлич», «Гориславлич» – архаичные славянские лексические формы, имеющие соответствия в сербскохорватском.
И она, конечно, знала, что ее дальняя родственница историк Мария Михайловна Богданова на Бестужевских курсах изучала языки, литературу и историю западнославянских народов.
– Кроме того, я разберусь в истории западных и южных славян, а то тебе все некогда! И родина сербскохорватского языка удивительно интересна, и наш предок принял когда-то в общество Соединенных славян единственного серба, и…
– Ну, это Иван Горбачевский считал Викентия Шеколлу сербом, а я не перепроверял.
– Хорошо, я найду время и проверю!
Что ж, у нее пятерочный аттестат и языки вроде бы идут; к концу нашего месячного пребывания в Польше она уже начала немного почитывать и поговаривать на польском, найдя этот язык мелодичным и красивым, несмотря на обилие шипящих и трудные в произношении группировки согласных.
– И еще наш предок со своими товарищами мечтал соединить всех славян в дружную семью…
Короче, аргументов в пользу выбора специальности набралось предостаточно, и-в добрый бы час!.. А пока едем по московским улицам к центру-они просторны еще, но вот поток встречных и попутных машин погустел, улицы словно сузились.
– Удивительное совпадение! – услышал я голос дочери. – Па! Катя, оказывается, тоже играет и у нее тоже есть собака.
Плохое совпадение – хорошо вроде бы живем, пианино и собак держим, но стандартно, даже в мелочах одинаково.
– Катя тоже на филфак мечтает? – спросил я, ожидая очередного удивительного совпадения.
– Нет, я на исторический.
– А что думаешь изучать?
– Конечно, русскую историю!
– Почему именно русскую?
Серый глаз в зеркальце исчез, ответа я не дождался. Пересекли Садовое кольцо. Как всегда в таких случаях, мне хотелось мимоходом порассказывать Иринке, чего сам знал о памятных строениях по сторонам, на которых отложилась родная история – имена, даты, события, но за спиной слышался неостановимый девчоночий щебет об учителях, подружках, кино, гребле, лыжах н прочем, что мнг было неинтересно, и я перестал слушать – пусть пощебечут, однако, отдохнут от событий и дат, скоро им станет на до щебета…
А я для себя решил объехать Кремль-это на досуге всегда прекрасный десятиминутный праздник.
С моста вырастают башни Антонпо Солярио, потом на мгновение околдовывает бессмертное творение Бармы Постника… Смотрю вперед, на дорогу, но уголком глаза вчжу недавно раскрытые и уже неотъемлемые от Москвы архитектурные сокровища Зарядья-Варвара с классическими портиками на обе стороны, английское подворье-XVI век! Эго Петр Дмитриевич Барановский, когда его привели сюда, на руины старых кирпичных стен, пощупал их руками, погорбился, пощурился и первым сказал: «Шестнадцатый, можете не проверять», а вскоре нашли нож английской работы и пломбы… Максим Блажен– ный, колокольня и собор Знаменского монастыря возвысились следом, братские кельи, палаты бояр Романовых, Георгий, Китайгородская стена, а за чужеродной гостиницей, загородившей полнеба, считай, почти не видно маленького белоснежного чуда со сложным именем – церкви Зачатия святой Анны, что в углу Зарядья…
Девчонки щебетали, не замечая ничего, кроме себя, и я, сделав большой круг, вернулся опять к Кремлю по Большому Каменному мосту. Вот за его выгибом возник, как старая умная сказка, непревзойденный Баженов, потом Бове, Казаков с Жилярди, Жолтовский, опять Казаков, снова Бове, Шервуд, Мюр и Мерилиз, Валькот с мозаикой Врубеля, Монигетти, Померанцев… Площадь Дзержинского, Кузнецкий мосг, улица Жданова.
– Ира, – не выдержал я под конец. – Вон за тем домом стоит, между прочим, Никола-в-Звонарях. Там интересный декор поверху, а в куполе круглые люкарны, как в первом, никоновском, шатре Воскресенского собора. Проектировал и строил русский архитектор Карл Иванович Бланк.
– Сейчас посмотрим.
– А его дочь Екатерина Карловна была матерью декабриста Николая Басаргина…
– Удивительное совпадение, – задумчиво проговорила Ирина. – Матерью нашего предка-декабриста, тоже Николая, была тоже Карловна, только Виктория. Француженка.
– Этого не может быть! – воскликнула вдруг Катя.
– Почему же? -удивилась дочь.
– Просто этого не может быть,-решительно встряхнула волосами Катя, но Иринка пообещала:
– Сейчас я тебе все объясню!
Оставив их объясняться, я зашел в магазин, чтоб взглянуть на книги, но так как интересных новинок не было, то быстро вернулся к машине.
– Ты сейчас узнаешь самое удивительное! – взволнованно сказала дочь.Катя, оказывается, тоже четырежды правнучка одного из декабристов, погибших в Сибири!
– Н-но! Кого же?
– Василия Петровича Ивашева.
– Ивашева, – поправила Катя.
– Не может этого быть! – вскричал в свою очередь я.
– Может, – засмеялась девушка. – И он до самой смерти дружил с Николаем Басаргиным, который был крестным отцом всех его детей.
– Верно, – подтвердил я, трогая машину, в которой вдруг оказались два потомка декабристов, и все еще не веря в столь исключительный, редчайший случай. – По какой же линии?
– Старшая дочь декабриста Мария Васильевна Ивашева-Трубникова – моя прапрапрабабушка.
Прапрапрабабушкой Иринки была тоже старшая дочь декабриста – Варвара Николаевна Юшкова, урожденная Мозгалевская, и это, кажется, еще не все совпадения! Виктория де-Розет, мать «нашего предка», была из Франции, Камилла Ледантю, жена Василия Ивашева, тоже француженка… А Катя Зайцева продолжала говорить о Марии Васильевне Ивашевой-Трубниковой:
– Она была зачинательницей женского движения в России, открыла в Петербурге первый воспитательный дом для девушек, потом много сделала для создания Бестужевских курсов. Принимала у себя Веру Засулич и других революционеров.
– Знаешь, Катя, ты молодец! -сказал я.
– У меня целая папка о своих предках.
– Умница… Продолжай, пожалуйста.
– У нее было четыре дочери. Мария – в замужестве Вырубова, Екатерина – Решко, Ольга – Буланова и Елена – Никонова. Я иду от первой из них. Мужья этих внучек декабриста были «чернопередельцами», сидели в царских тюрьмах, а Ольга Буланова была сама политкаторжанкой и, кроме того, писательницей, издала «Роман декабриста» и «Три поколения»… А в Женеве есть могила – на плите написано:
«Мария Клавдиевна Решко, русская революционерка».
Ее племянница Елена Константиновна Решко, дочь Екатерины Ивашевой-Решко, правнучка декабриста, живет в Москве…
– Спасибо, Катя. Разыщу.
– А я скоро еду в Ленинград. Там живет внучка декабриста Василия Ивашева.
– Внучка? Но это, Катя, ведь невозможно! Сколько же ей можеть быть лет?
– Сто.
– Ровно?
– Да. Скоро сто один, поэтому я еду. Она была врачом-педиатром. В начале войны, уже старушкой, она была назначена сопровождать эвакуированных школьников на Валдай, там тяжело заболела, а сообщение уже было прервано, и ее дочь Екатерина Семеновна – в нашем роду много Екатерин – с трудом доставила больную в Ленинград, откуда семья осенью сорок первого эвакуировалась в тыл… Екатерина Петровна еще сама на пятый этаж поднимается.
Будущий русский историк Катя Зайцева пообещала мне показать свою папку, дала телефоны и адреса. Через несколько дней я связался с Еленой Константиновной Решко, а 10 сентября 1977 года отправил в Ленинград телеграмму Екатерине Петровне Ивашевой-Александровой:
«Поздравляю Вас, старейшину декабристскях потомков, с первым годом второго столетия Вашей прекрасной жизни. Доброго здоровья и сил».
А совсем недавно узнал, что в тот день ленинградцы доверху засыпали гвоздиками и розами скромную квартирку Екатерины Петровны.
Декабристов Николая Басаргина и Василия Ивашева действительно связывала крепкая дружба, начавшаяся еще в те времена, когда они были молодыми офицерами, адъютантами Витгенштейна. Василий Ивашев был скромным, чутким, чрезвычайно, как бы мы сейчас сказали, интеллигентным человеком. На каторге с ним произошел один примечательный эпизод, довольно известный, однако достойный того, чтоб повториться о нем, сделав здесь несколько шагов боковой тропкой нашего путешествия. В Чите Николай Басаргин получил известие о смерти своей маленькой дочки Софьи, это было его второе горе – мать девочки, урожденная княжна Мещерская, скончалась перед тем. Сам охваченный смертной тоской, декабрист, однако, находит в себе силы поддержать участливым словом друга, который незадолго до перевода декабристов на Петровский завод совсем упал духом, как-то странно замкнулся в себе, «был грустен, мрачен и задумчив». Только Басаргин никак не мог предположить, что Ивашев задумал в эти дни нечто особенное-изготовился рискнуть жизнью в безумном поиске свободы. Решение это, принятое в одиночку, было твердым и окончательным. Судя по всему, побег был уже подготовлен. В лесной глуши какойто беглый каторжник, с которым Ивашев установил связь, будто бы вырыл для декабриста тайник, закупил и завез туда продуктов – Ивашев, оказывается, утаил от досмотров полторы тысячи рублей. И казематный тын уже подпилил соучастник Ивашева. Ночью они должны были встретиться у лаза, схорониться в тайнике, дождаться, когда прекратятся поиски, и направиться к китайской границе…
Николай Басаргин, узнав днем об этом плане, был уверен, что беглый каторжник либо убьет соучастника, чтоб завладеть деньгами, либо выдаст начальству, заслужив прощение себе. И он с трудом уговорил Ивашева подождать хотя бы неделю, еще раз взвесить все обстоятельства, подумать о возможных последствиях этого опасного замысла.
Три дня Николай Басаргин тревожно и заботливо опекал друга, надеясь, что тот все же не решится на непоправимый шаг, и, должно быть, не раз вспоминал, как ему самому предложили бежать из Петропавловской крепости. Унтер-офицер, стерегущий декабриста на прогулках, не только взялся устроить его на отплывающий ночью иностранный корабль, но «для примеру» доказал реальность этого дерзкого плана – однажды среди ночи вывел узника за крепостные ворота. Страж вознамерился бежать вместе с декабристом. Два обстоятельства помешали, одно серьезнее другого, – у Басаргина не было тех денег, что требовались для организации побега, и были нравственные обязательства перед товарищами. Кстати, он мог легко скрыться за праницу еще из Тульчина – перед арестом в его руках случайно оказался чистый паспортный бланк, не востребованный к тому моменту каким-то французом, отбывающим на родину. Николай Басаргин уничтожил соблазнительную бумагу, чтобы пресечь мысли о побеге, которые-одни лишь мысли! – он счел бесчестьем…
А мне хотелось бы издалека проникнуть в душу того самого унтер-офицера; похоже, что это был не только рисковый и предусмотрительный, но и умный человек, внимательно присматривавшийся к трагедии, которая разворачивалась на его глазах, и, в отличие от его образованных, так сказать, подопечных, заранее увидевший ее финал. Дело в том, что он предполагал организовать побег еще одному декабристу, располагавшему и деньгами, и богатыми родственниками, способными материально поддерживать беглецов за границей. И тут ничего не сладилось, а этот вчерашний мужик тонко уловил, что все узники, как он сказал Басаргину, еще питают наивные надежды на милость молодого императора, хотя тот совсем «не такой человек», чтобы им можно было на что-то надеяться.
И еще я воображаю жертву, какою третий узник Петропавловки мог обрести свободу. Генерала Михаила Фонвизина в бытность его на службе очень любили солдаты и офицеры за храбрость и доброту. В Отечественную воину он, оказавшись со своей воинской частью в плену, узнал о подходе русских войск к Парижу, поднял восстание и разоружил французский гарнизон одного городка в Бретани. Позже он запретил в своем полку телесные наказания. И вот декабрист Фонвизин однажды во время прогулки увидел, чго охрану крепости несут его солдаты. Сразу узнав своего командира, они приблизились к нему и предложили немедленно скрыться за пределы цитадели, соглашаясь таким образом принять на себя царский гнев и понести неизбежную жестокую кару. Фонвизин поблагодарил их, но, разумеется, не мог принять этого самопожертвования, отказался избрать для себя судьбу, которая могла стать легче судеб его товарищей.
Наверное, легче и безопаснее других было бежать за границу Михаилу Лунину. Перед арестом о его судьбе шел затяжной, полумолчаливый спор между воцарившимся Николаем и его старшим братом, польским наместником Константином, отрекшимся от престола. Он отпустил Лунина к австрийской дранице на медвежью охоту, однако Лунин предпочел другой маршрут и другую охоту…
Однако ближе всех к желанной цели оказался поручик Черниговского полка Иван Сухинов. После разгрома восстания, в котором он сыграл едва ли не самую активную роль, Сухинов бежал в Бессарабию, намереваясь перейти Дунай. Что он перечувствовал за полтора месяца скитаний, без гроша в кармане, что передумал, скрываясь от царских ищеек, посланных по его следу, один, как говорится, бог ведает, однако история сохранила свидетельство его состояния, когда он добрался наконец до пограничной реки; в тот переломный час он раскрывает свою душу, и, как любому из декабристов, ему нельзя не верить, нельзя не поклониться издалека его чувствам. «Горестно было мне расставаться с родиною. Я прощался с Россией, как с родной матерью, плакал и беспрерывно бросал взоры свои назад, чтоб взглянуть еще раз на русскую землю. Когда я подошел к границе, мне было очень легко переправиться… Но, увидя перед собою реку, я остановился… Товарищи, обремененные цепями и брошенные в темницы, представились моему воображению… Какой-то внутренний голос говорил мне: ты будешь свободен, когда их жизнь пройдет среди бедствий и позора. Я почувствовал, что румянец покрыл мои щеки, лицо мое горело, я стыдился намерения спасти себя, упрекая себя за то, что хочу быть свободным… и возвратился назад в Кишинев…»
Как известно, Иван Сухинов покончил самоубийством на Зерентуйском руднике, когда его заговор был раскрыт, но мечта о восстании и побеге из Забайкалья была настолько соблазнительной и на первый взгляд легко осуществимой, что задолго до Сухинова к ней коллективно пришли читинские декабристы, о чем рассказал в своих «Записках» Николай Басаргин. Семьдесят «молодых, здоровых, решительных людей», в большинстве своем военных, многие из которых имели богатый боевой опыт, могли легко обезоружить охрану и увлечь за собой часть солдат на Амур, чтобы сплавиться по нему и далее действовать в зависимости от обстоятельств. «Вероятности в успехе было много, более чем нужно при каждом смелом предприятии», – воспоминательно писал Басаргин, и дерзкое дело вполне могло сладиться летом 1828 года, однако пос^е неудавшегося заговора Сухинова власти усилили охрану читинского острога, и от этого плана пришлось отказаться навсегда.







