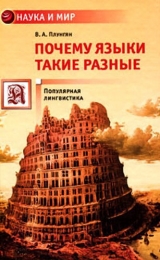
Текст книги "Почему языки такие разные. Популярная лингвистика"
Автор книги: Владимир Плунгян
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Чтобы правильно произнести русское слово, нужно не только правильно произнести те звуки, из которых оно состоит (не перепутав твёрдые с мягкими, глухие со звонкими и т. п.). Нужно ещё правильно поставить в нём ударение. Русский относится к тем (многочисленным) языкам, в которых ударение играет очень важную роль для правильного произношения слов и восприятия их на слух.
Но что это такое – ударение? В любом языке слова делятся на слоги; каждый слог обычно состоит из гласной и одной или нескольких согласных. В принципе все слоги в слове могут произноситься одинаково, но бывает и так, что в словах языка всегда выделяется какой-то один из слогов (обязательно один!) и противопоставляется всем остальным слогам. Так вот, ударение – это как раз способ выделить один из слогов в слове; обычно для этого гласный такого слога произносится громче или дольше, чем в других слогах. Отсюда ясно, что бывают языки вообще без ударения – в них никакой слог не выделяется по сравнению с другими. Но во многих языках ударение всё же есть.
Итак, ударение – это специальный способ произнесения гласного звука в одном из слогов слова. Поэтому говорят, что ударение падает на гласный. В русском языке ударение может падать на разные гласные в слове – и начальные, как в слове «гласный», и конечные, как в слове «лицо», и в середине слова, как в самом слове «ударение». В английском языке ударение тоже может появляться в разных местах слова: в начале (robin «малиновка» – любимая птичка англичан), в конце (begin «начинать», kangaroo «кенгуру»), в середине (container «ящик»), хотя чаще всего английское ударение всё-таки встречается в начале слова. А есть языки, где ударение в слове всегда находится на одном и том же месте, например:
– во французских словах оно всегда на последнем гласном;
– в чешских, финских или венгерских – на первом гласном;
– в лезгинских – обычно на втором гласном от начала;
– в польских – обычно на втором гласном от конца.
От места ударения очень сильно зависит, так сказать, внешний вид слова: например, француз не сможет правильно произнести русское слово, если в этом слове ударение не на конце, поэтому мы с трудом узнаём на слух русские заимствования в произнесённых по-французски «шапка» и «спутник» – ударение у них будет обязательно в конце. А русское слово «Калинка», тоже известное во многих языках, будет звучать непривычно для нас не только во французском варианте, но и в чешском или венгерском – с ударением на первом слоге.
В таких языках, как русский, у ударения есть ещё одна особенность. Оно не только может падать на разные слоги в разных словах – даже у форм одного и того же слова оно может быть то в начале, то в конце, то в середине. Конечно, так бывает не всегда: например, в слове лестница мы всегда ставим ударение на первый слог, в какой бы форме это слово ни стояло. Но вот в слове трава ударение падает на последний слог только в формах единственного числа (траве́, травы́, траво́й…), а в формах множественного числа – ударение уже перемещается на первый слог (тра́вы, тра́вами, тра́вах…). А бывают слова с ещё более причудливыми перемещениями ударения – например, слово голова[6]6
Табличный вид:
Ед. ч.Мн. ч.Им. пад.голова́го́ловыВин. пад.го́ловуго́ловыРод. пад.головы́голо́вДат. пад.голове́голова́м
[Закрыть]:
[Падеж], Ед. ч., Мн. ч.
Им. пад.: голова́, го́ловы;
Вин. пад.: го́лову, го́ловы;
Род. пад.: головы́, голо́в;
Дат. пад.: голове́, голова́м.
В таком неустойчивом ударении (его ещё называют «подви́жным») есть своя логика: разные формы одного и того же слова лучше отличаются друг от друга; особенно это важно для тех форм, которые имеют одинаковые окончания, например, травы́ и тра́вы, о́зера и озёра, (по) кру́гу и (в) кругу́ и т. п. Но для тех, кому русский язык не родной, такое ударение, конечно, доставляет немало неприятностей: ведь для каждого слова надо не только запоминать, на какой слог падает ударение (то ли на первый, то ли на последний, то ли куда-то в середину) – надо ещё запоминать, как оно «прыгает» внутри этого самого слова в разных его формах!
Такое «трудное» ударение, как в русском, в языках встречается, пожалуй, редко (из языков, где дело обстоит отчасти похожим образом, можно назвать, например, литовский или древнегреческий). Неудивительно поэтому, что ошибки в русском ударении – одни из самых распространённых, их делают даже те иностранцы, кто давно учит русский язык.
Ещё одна особенность русского ударения в том, что в русском языке под ударением произносится больше разных гласных, чем без ударения. Например, в русских словах никогда не бывают безударными «о» и «е». Если ударение в слове «переходит» на окончание, как это происходит со словом кот (кот – коты́), то «о», которое было в основе, заменяется звуком, похожим на «а»: мы произносим кАты, а не кОты, как следовало бы из написания. Вы уже знаете, что в древнерусском языке это было не так, и до сих пор в северных областях России сохранилось старое «окающее» произношение. Такое исчезновение некоторых гласных в безударной позиции есть и в белорусском языке, и в некоторых других языках, от русского далёких (например, в английском или португальском), – там ударных гласных тоже больше, чем безударных. Зато, например, в испанском языке (в отличие от португальского или русского) любая гласная может быть и ударной, и безударной. Поэтому испанец, изучающий русский язык по книгам, долгое время будет произносить вместо хАро́шие кАты́ – хОро́шие кОты́, а мы так только пишем. Зато русскому школьнику приходится специально учить написание безударных гласных в словах: ведь, например, безударная гласная, которую мы произносим как И, может записываться по крайней мере тремя способами – как И (вино́), Е (вено́к) или Я (вяза́ть). И наоборот, при изучении многих иностранных языков нам приходится старательно «забывать» о том, что гласные типа О без ударения произноситься не могут: ведь, например, по-французски valet (произносится вАле́) и volet (произносится вОле́) воспринимаются на слух как совершенно разные слова: первое означает «слуга» (отсюда и русское слово «валет»), а второе – «ставень, створка окна».
Мы помним, что ударные гласные в русском языке произносятся дольше и громче, чем безударные. Но не все языки похожи в этом отношении на русский. В некоторых языках ударение имеет совсем особую природу. Такое ударение называют музыкальным или тоновым. Тоновое ударение тоже падает на гласный (как и всякое ударение), но только, произнося гласный, в таких языках нужно не усиливать или удлинять его, а повышать или понижать голос, как если бы для каждого слова существовали специальные «ноты» и его надо было бы петь по особой «мелодии».
В русском языке мы тоже иногда используем такой способ произнесения, но не для того, чтобы отличать одни слоги в слове от других, а для того, чтобы отличать одни предложения от других. Например, в вопросах у нас голос обязательно повышается – именно по этому признаку мы отличаем предложения-вопросы типа Он ушёл? от предложений-сообщений типа Он ушёл. В последнем случае голос к концу не повышается, а понижается.
В языках с тоновым ударением тот или иной тон (высокий, низкий или «скользящий» – снизу вверх или наоборот) всегда связан с ударным слогом. Ни при каких обстоятельствах тон ударной гласной изменить нельзя, иначе получится неправильное произношение или просто совсем другое слово, точно так же, как это происходит с различием долгих и кратких гласных в английском языке или твёрдых и мягких согласных в русском. У всех ударных слогов в языке с музыкальным ударением тон может быть одинаковым (например, высоким), но может быть так, что на одних ударных слогах тон, например, повышается, а на других – понижается. Тогда, чтобы правильно говорить на таком языке, нужно запоминать не только место ударения в слове, но и тип этого ударения. К таким языкам (с музыкальным ударением нескольких типов) относился древнегреческий язык, а из живых языков к ним относятся литовский и сербскохорватский языки. Музыкальное ударение (немного более простого типа) имеется также в шведском языке.
Интересно, что есть и такие языки, в которых с тем или иным тоном произносится не один ударный слог слова, а каждый слог! Речь говорящих на этих языках ещё больше напоминает пение по нотам. Так устроены большинство языков Юго-Восточной Азии (китайский, бирманский, тайский, вьетнамский), очень многие языки Тропической Африки (самые крупные из них – ха́уса и йо́руба в Нигерии) и другие языки мира. Эти языки сами называются тоновыми, потому что в них тонируются все гласные в слове. Получается, что каждый слог по-своему выделен, отличен от соседних. Про такие языки можно сказать, что в них ударение на каждом слоге – или что в них нет ударения. Последнее, конечно, более точно. Ведь если в языке нет ударения, это значит, что в словах такого языка не выделяется какой-то один слог, по произношению отличающийся от остальных. А это, в свою очередь, значит одно из двух: либо в этом языке каждый слог выделяется как-то по-своему (это и есть случай тоновых языков), либо в этом языке ни один из слогов слова никак не выделяется, все слоги произносятся, так сказать, одинаково ровно и отчётливо. Так устроены, например, чукотский или грузинский язык.
Глава пятая. Сравниваем грамматику
1. Слова и грамматикаИз звуков складываются слова. В разных языках слова разные, поэтому лингвисты тщательно собирают и составляют словари разных языков. А как составить такой словарь? Кажется, просто: возьмём книжки на этом языке и будем выписывать из них все слова подряд, а потом расположим эти слова в алфавитном порядке. Но настоящие словари оказываются устроенными гораздо сложнее. К примеру, в книжке на русском языке вполне может встретиться такое предложение: Мне понравились ваши задачи. Интересно, что ни одно слово из этого предложения нельзя поместить в словарь в том виде, в котором оно встретилось. Ни в одном словаре русского языка вы не найдёте слово мне или слово ваши; в самых подробных может оказаться отсылка: «см. я» – или: «см. ваш». А вместо слов понравились и задачи в словаре мы найдём понравиться и задача. Всё это происходит потому, что, когда мы строим из слов предложения и тексты, эти слова меняют свою форму – в книгах (то есть в текстах, как говорят лингвисты) встречаются не слова, а формы слов, или, как их ещё называют, словоформы. Словоформ у слова может быть очень много, и все их в словаре записать невозможно, кроме того, они образуются по определённым правилам. Правила эти записываются отдельно – в грамматике языка. Очень важно представлять себе, что языки могут различаться не только тем, какие слова входят в их словари, но и тем, какие правила «использования» этих слов написаны в их грамматиках. Мы уже немного говорили об этом в первой части, когда обсуждали, как изменяются языки с течением времени. А теперь вы уже знаете достаточно, чтобы мы могли поговорить о том самом главном, что всегда интересовало лингвистов, – чем отличаются друг от друга грамматики разных языков и как их можно сравнивать между собой.
2. Сравниваем грамматикиПредставим себе двух детей – русского и английского школьников, которые пишут друг другу письма. Русский школьник может сказать о себе:
Я написал письмо
– если он мальчик
– и:
Я написала письмо
– если это девочка.
Английские мальчик и девочка скажут одинаково:
I wrote a letter,
– и это не будет выглядеть смешно, как если бы мы по-русски услышали Петя написала или Маша написал. Так что если из письма английского школьника, в котором будет написано такое предложение, мы не поймём, кто он – мальчик или девочка (разве что – по подписи внизу), то из письма русского – поймём сразу. Всё дело в том, что в русском языке формы некоторых слов (написал/написала – из их числа) обязательно указывают, какого рода существительное стоит с ними рядом: мужского, женского или среднего. Например, мы должны сказать: камень упал – скамейка упала – дерево упало, и никак иначе. У живых существ грамматический род чаще всего совпадает с их полом – значит, автор русского предложения, хочет он того или нет, указывает пол того, кто писал письмо. Ну а если он не знает, какого пола человек писал письмо? Всё равно от выбора рода нам никуда не деться. В таких случаях мы говорим:
Какой-то человек написал письмо;
Какой-то школьник/ребёнок написал письмо (всё это в мужском роде) —
или:
Какая-то растяпа/шляпа написала письмо с кучей ошибок (в женском роде) —
и даже:
Какое-то удивительное существо написало письмо странными значками (в среднем роде).
Мы можем сказать и вовсе неопределённо:
Кто-то же написал это письмо – или:
Кто-нибудь уж, конечно, написал, —
и всё равно мы указываем род: просто неопределённые местоимения в русском языке – всегда мужского рода.
Англичанину (или, скажем, китайцу) это бы не всегда казалось очень удобным (зачем, например, указывать род для слова кто-то, которое явно «никакого» рода), но так уж устроена русская грамматика – ничего не поделаешь.
Как видим, в отношении рода и пола английский язык оказывается более «скрытным», чем русский. Зато русский, пожалуй, будет не таким точным, как английский, в отношении времени. Например, по-русски мы говорим написал независимо от того, когда именно в прошлом это событие произошло. Нам важно только, что оно уже случилось, потому что в русском языке обязательно указывать, к прошлому, настоящему или будущему относится действие, в зависимости от этого выбирается форма прошедшего, настоящего или будущего времени: написал, пишу, напишу. В английском эти значения тоже обязательны. Но интересно, что, если действие относится к прошедшему времени, английский язык требует обязательного указания на то, как давно это случилось. Для англичанина важно, было ли это давно, только что или до какого-то другого прошлого события. Так, по-русски в предложениях:
Он только что написал письмо своему лондонскому другу;
В прошлом году я написал ему письмо с поздравлениями к дню рождения;
Перед тем как лечь спать, он написал письмо своему дедушке в Манчестер —
мы употребляем одну и ту же глагольную форму написал, а англичанин в этих случаях скажет по-разному: если имеется в виду «только что написал» (и даже ещё не успел отправить), то по-английски будет сказано скорее всего has written, если написал в прошлом году – то это будет wrote, если написал перед тем, как сделал что-то ещё, – то had written. И всякое английское предложение с глаголом в прошедшем времени требует обязательного уточнения на этот счёт – уточнение состоит в выборе правильной формы глагола.
Ещё одно известное свойство английского языка (доставляющее нам много неприятностей) – это обязательное указание на «определённость» или «неопределённость» того предмета, о котором мы говорим. Ведь при каждом английском существительном в предложении мы должны поставить одно из двух коротких слов-«артиклей»: a или the (можем ещё и не ставить никакого, но тоже только в специальных случаях). Сообщая по-русски: Я написал письмо, – говорящий может и не уточнять, какое именно письмо имеется в виду: то, о котором уже шла речь (например, то, которое его уже две недели просят написать), или совершенно неизвестное собеседнику (вот взял и захотел написать какое-нибудь письмо). Англичанин же обязан ясным и недвусмысленным образом об этом сообщить, сказав либо a letter (какое-то новое, неизвестное письмо), либо the letter (то самое, известное письмо). Как видим, грамматические правила в языке действуют так же строго (и даже, может быть, ещё строже), как и обычные, неязыковые, правила – правила поведения, игры в шахматы, уличного движения и т. д., то есть предписывают, что говорить и о чём молчать. Язык следит буквально за каждым нашим словом, и стоит нам умолчать о чём-нибудь с его точки зрения обязательном, как нам говорят: «Так нельзя сказать, это не по-русски (не по-английски, не по-фински и т. п.)». При этом, как мы убедились, в разных языках обязательным оказывается разное, и в этом состоит главная трудность изучения чужой грамматики.
3. Обязательное – значит грамматическоеУ каждого языка есть грамматика. А это значит, как мы теперь понимаем, что в каждом языке есть такие особые правила, которые заставляют говорящих сообщать то, что в этом языке считается обязательным – то есть грамматическим. Причём от желания говорящих это совершенно не зависит: грамматика их об этом не спрашивает.
Допустим, мы решили рассказать о каком-то событии. Оказывается, помимо того, что мы сами хотим о нём рассказать, говоря на том или ином языке, мы обязаны (просто чтобы это было правильное предложение на данном языке!) сообщить что-то о времени события (в прошлом или в настоящем оно произошло, давно в прошлом или не очень давно, окончилось оно или всё ещё продолжается), о числе его участников, о том, были это люди или не люди, мужчины или женщины; или о том, наблюдал ли это событие сам говорящий, или ему об этом кто-то рассказал, и т. д. и т. п. Что именно из этого списка мы обязаны сообщить – зависит от конкретного языка, на котором мы говорим. Даже на примере одного короткого русского и английского предложения мы видели, что различия между языками могут быть довольно большими.
Главное, чем языки отличаются друг от друга, – это то, что грамматика каждого языка заставляет нас делать. Языки отличаются друг от друга не тем, что на одном языке о чём-то можно говорить, а на другом нельзя: давно известно, что на любом языке в принципе можно выразить любую мысль. Дело обстоит иначе: языки отличаются друг от друга теми сведениями, которые, говоря на каждом из них, нельзя не сообщать – то есть, иными словами, тем, о чём на этих языках сообщать обязательно. В нашем столетии эта мысль была отчётливее всего сформулирована знаменитым русским лингвистом Романом Осиповичем Якобсоном.
Теперь самое время выяснить, какие же именно сведения заставляют нас обязательно сообщать грамматики разных языков (лингвисты обычно говорят в этой связи о грамматических значениях – ведь они входят в грамматику каждого языка).
Для существительных такими значениями чаще всего являются привычные нам число, падеж, род.
4. Грамматическое числоЧисло является обязательным и в русском, и в английском, и во многих других языках. В первую очередь оно обозначает количество, то есть сколько предметов – один или много – обозначает данное слово: письмо – письма, ребёнок – дети, конфета – конфеты и т. д. В каких-то случаях нам, безусловно, хотелось бы не уточнять количество, ну, например, говоря: «Мама, я хочу конфету» – или: «Я хочу конфет» – ведь не всегда заранее знаешь, окажутся ли они вкусными. Но языки – и русский, и английский, и французский – здесь одинаково строги: по отношению к числу действуют правила обязательности, так что ничего не поделаешь – или один, или много. А что такое много? Много – это два или больше. В некоторых языках есть специальное двойственное число (кстати, о двойственном числе в древнерусском языке мы уже говорили в первой главе), совсем редко – тройственное; кроме того, в некоторых языках (например, в Дагестане или в Полинезии) специальной формой может обозначаться несколько предметов – кроме единственного и (обычного) множественного там есть ещё, так сказать, «несколькное» число – множественное «небольшого количества».
Но, конечно, из редких значений числа самое известное и изученное – двойственное. Оно было во многих древних индоевропейских языках (санскрите, древнегреческом, старославянском), но со временем исчезло почти во всех их потомках; осталось оно в двух славянских языках – словенском (это южнославянский язык, на нём говорят в самостоятельном государстве Словения, образовавшемся недавно из самой северной республики бывшей Югославии) и лужицком (это западнославянский язык, на котором говорят в небольшой области на востоке Германии). Из других языков двойственное число сохранилось, например, в корякском, ненецком; есть двойственное число и в таком крупном мировом языке, как арабский.
И всё-таки почему же таким распространённым оказалось именно двойственное, а не тройственное или нигде почему-то не засвидетельствованное пятерное, шестерное, семерное? Дело в том, что в жизни человека очень многие предметы встречаются парами, – например, многие части его собственного тела: руки, ноги, глаза, уши, губы, ладони, пятки (да и это далеко не всё!). Кроме того, раз есть много парных частей тела, то и многие предметы и части одежды оказываются парными – рукава и рукавицы, всякая обувь или, например, коньки и лыжи, некоторые украшения (например, серьги). Своих соседей-животных человек тоже воспринимал, как себя самого, – те же два уха, два глаза, два крыла, две передние и две задние лапы. Да ведь и неодушевлённые предметы оказывались похожи на людей! У них обычно две стороны, или два бока – правый и левый, есть верх и низ (опять два!), перёд и зад. А те предметы, которые человек изобретал и изготавливал сам, он тем более старался приспособить к себе, чтобы их было удобнее использовать: так появлялись, например, две ручки у плуга, две створки дверей, ставен, ворот, два весла и прочее. И в древних представлениях о мире устанавливалась магическая парная симметрия: день и ночь, белое и чёрное, добро и зло, мужское и женское, солнце и луна, небо и земля (ведь мы с вами до сих пор говорим не только «Между двух огней», но и «Между небом и землёй»), а в сказках злые колдуны «уравновешиваются» добрыми волшебниками и ведьмы – феями.
Конечно, парные предметы – вот что стало причиной того, что в человеческом языке появилась и стала такой значимой именно форма двойственного числа. Там, где двойственное число пропало, всё равно обязательно есть специальные слова, такие, как оба, пара, чета (а в английском, например, both, a pair of и др.). Но вот что интересно: в корякском языке – языке, как мы знаем, с двойственным числом – именно при обозначении парных предметов оно как раз и не используется! Так что, если мы говорим по-корякски:
По улице идут дети (вдвоём; это слово, конечно, добавляется
только в русском переводе), —
число будет двойственное – детей именно двое, а не просто много, а если добавим:
Один мальчик спрятал руки в карманы, —
то, хотя рук тоже две (и карманов – два), число будет – просто множественное: наверное, корякский язык решил, что рук, дескать, и так ясно, что две, – и «сэкономил».
Теперь поговорим о множественном числе. С ним тоже не так всё просто. Ведь в действительности не только не всё хочется считать, но и не всё возможно посчитать, а в языках с обязательным числом – всё равно приходится. Приходится ставить в единственное и множественное число имена действий и ситуаций (вздох – вздохи, сон – сны, работа – работы и т. д.), веществ (сок – соки), даже сами множества (толпа – то́лпы, заросль – заросли) да ещё запоминать, что это значит, а это непросто, потому что здесь грамматика часто начинает капризничать и происходит полнейшая путаница: единственное употребляется вместо множественного, множественное вместо единственного, а в каких-то случаях одно из чисел не употребляется вовсе – помните, наверное, из уроков русского – ножницы, сани, грабли, листва, солома? Или из уроков английского – oats («овёс», только множественное), wheat («пшеница», только единственное), advice («совет», только единственное)?
По-русски мы говорим:
Ну и студент нынче пошёл!
– в единственном числе, а имеем в виду, конечно, много студентов. Или:
В дверь стучат;
У нас гости.
В дверь, конечно, при этом стучать может только один человек, да и гость тоже может быть только один, но мы привыкли к такому употреблению – с точки зрения русского языка оно совершенно правильно, тогда как, например, В дверь стучит – вообще по-русски нельзя сказать, по крайней мере про живое существо. Да и знаменитое Ходят тут всякие обычно тоже ведь адресовано кому-то одному, вполне определённому. А вот, например, в турецком языке, чтобы правильно сказать Я люблю цветы, лучше употребить слово цветы в единственном числе (хотя множественное число у этого слова тоже есть). Зато по-турецки в таком, например, предложении, как Все дети одновременно подняли голову, у слова голова не может быть единственного числа (как это допускается в русском, английском, французском) – число должно быть только множественное (детей-то много, и у каждого – своя голова!). Мы с вами уже не должны этому удивляться – мы знаем, что правила употребления числовых форм очень причудливые и разные в разных языках. Одно дело – сколько предметов на самом деле, один или много, и совсем другое дело – как распоряжается сообщать об этом грамматика языка.







