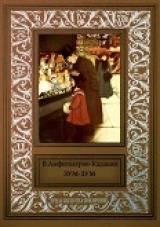
Текст книги "Зум-Зум
Сборник мистических рассказов"
Автор книги: Владимир Амфитеатров-Кадашев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Старый бог
«Не трогай в темноте,
Того, что незнакомо.
Быть может, это те,
Кому привольно дома».
Федор Сологуб
I
Фельдмаршал закрыл заседание.
Громко двигая стульями, генералы встали из-за стола. Лоренти подошел ко мне:
– Дай Бог удачи, сказал он, крепко пожимая мою руку. Странная для всегда сурового старика ласка почуялась в этих словах, и я сразу понял, как опасно мое предприятие. Конечно, и раньше мне было хорошо известно, что мой план, в случае более, чем вероятной неудачи, грозит гибелью, но до ласковых слов старого победителя при Альтахэме я как-то внешне и бестревожно относился к Опасностям и трудностям, предстоявшим мне. Сейчас же, всем существом я ощутил отчаянное безумие моей политики, и мне стало не по себе.
Встревожился я не за себя: привык скользить над очень глубокими пропастями. Но мне вспомнилось, что Эсмеральда не хочет оставаться без меня в осажденной столице, а еще не случалось, чтоб Эсмеральдины прихоти были не исполнены.
Ночь кончалась, когда я вышел из здания Главного Штаба на прямую стрелку Силлерийской Аллеи.
Зеленоватый рассвет медленно раскрывался в чистом стеклянном небе было тихо. Изредка, цокая копытами, проезжал конный патруль, да время от времени глухо ударяло орудие на Западных Высотах. Я миновал парк, над темными липами которого небо уже румянилось золотисто-розовыми улыбками ранней зари, и углубился в путаный лабиринт переулков Приречной части.
Скоро между домами блеснула свинцовая полоска воды.
На набережной высокий матрос, увидев меня, быстро вскочил с бревен, на которых расположился закусить кружком сыра.
– Где барышня?
– В сторожке. Отдыхает.
Я вошел в сторожку.
Эсмеральда спала на деревянной скамье, подложив под голову руки. Я осторожно разбудить ее.
Она быстро вскочила и ласково мне улыбнулась. В мужском костюме, в легкой полотняной, с расстёгнутым воротом блузе, в высоких сапогах, со стрижеными, мелко завитыми волосами, она походила на шалуна-школьника.
– Ну, что?
– Едем… Но, Эсмеральда, план Де-Лане отвергнут. Принят мой: через степь.
– Прекрасно.
– Как же ты? Путешествие через степь не для женщин.
– Я умру от тоски, если в следующую пятницу не увижу принца. Конечно Его Высочество – лошадь с длинными ушами, но поймите тайны женской души, страстная жажда увидеть этого неподобного господина обуревает меня.
– Твои шутки очень остроумны, но Эсмеральда… Дьявол тоже не без изящества подшутил Красной Степью.
– Очень рада. Сатанинские каламбуры – прелюбопытная вещь. Вообще не понимаю евшего ужаса перед степью.
Путешествие по реке более опасно. Река под обстрелом, по берегу шныряет конница, опять же мониторы Нидерфальда.
– Красная Степь, Эсмеральда, хуже мониторов.
– Тем более приятно. Обожаю опасность. Вообще прошу вас помнить, что путешествие с вами для меня – пикник, а я никогда не отказывалась ни от одного пикника.
II
Страшна Красная Степь в жаркий августовский полудень.
Неисходными струями падает солнце с горячего неба. Вплоть до горизонта, где в сизо-знойном тумане смутно круглятся старые курганы, стелется гладкая, выжженная земля.
Тишь. Лишь изредка еле слышно прошелестит толстая и короткая змея, лениво волочащая скользкие звенья через взбугренную красными горками мелкой пыли дорогу. Неясный древний ужас, темная древняя тоска стоят над степью.
В этот час полуденного покоя старые хозяева снова воцаряются в Красной Степи. Те самые, что некогда поднимали из её обожженной земли несметные орды низкорослых свирепых всадников и вихрем несли их на север, к белостенным городам.
Минула власть старых хозяев.
Но смутной памятью о них грезят по курганам серые безобразные истуканы, с бесстыдной улыбкой на толстых каменных губах.
Ведомо бесстыжим истуканам, что в жаркие августовские полудни снова властна над Красной Степью сила её старых богов.
Их темной и жесткой воле предается осмелившийся вступить в эти пределы запустения. И, чуя над собою власть злого и непонятного врага, содрогается невольно сердце, смятенное перед бескрайными пространствами.
Вот уже третий день мы затеряны в однообразных просторах. Унынием полнится душа. Даже Эсмеральда притихла. Первый день веселилась и, хотя быль наш путь тяжел и труден, но порхающая радость милой ветреницы заставляла забывать труды.
Мы смеялись, глядя, как гордо красуется она в седле, как горячит нетерпеливого коня. Мы смеялись, когда в мертвую тишину пустыни она бросала сверкающие золотом шампанского и горячечным блеском электрических дуг песни, которым еще так недавно рукоплескала публика столицы.
Мы смеялись, когда она представляла триумф, ожидающий ее в армии принца, или изображая негодование Нидерфальда, узнавшего, что несколько отчаянных голов вырвалось из кольца осады, смешно надувала щеки, пытаясь из прекрасного лица своего сделать нечто, похожее на лунообразную физиономию неприятельского главнокомандующего.
Даже мрачный проводник Лизимах делал страшною рожу, долженствовавшую изображать улыбку, когда Эсмеральда начинала приставать к нему:
– Признавайся, черный дьявол, ведь ты тайно поклоняешься степным истуканам?
Но на второй день пустыня победила.
Эсмеральда не жаловалась и не злилась.
Было нечто, более примечательное. Впервые за три года нашей любви видел я ее такой тихой и задумчивой. Низко опустив голову, молча ехала она. Тогда поднимала длинные стрелы ресниц и пристально, с выражением неизъяснимым, смотрела в сизо-жёлтый горизонт. И в томной, с поволокою, синеве её глаз читал я беспокойство, быть может, непонятное ей самой. Казалось, темное предчувствие тревожить её душу, содрогнувшуюся перед страшными просторами Красной Степи.
Нетерпение овладевало ею время от времени. Раздраженно стукнув хлыстом по запылённым голенищам, она давала шпоры коню и, обгоняя наш маленький караван, летела вскачь в жаркую мглу пустыни. Но проходил порыв, и снова была Эсмеральда тиха и тревожно задумчива.
III
На третий день, к вечеру, Лизимах, показав на легшую по красной земле причудливыми завитком зеленую ленту, сказал:
– Чёртов провал! Отдых и вода.
Через полчаса перед нами раскрылся глубокий овраг. Упругие и колючие кусты дикой розы взбегали по обрывистым крутосклонам. Отрадой свежестью и острым сигарным запахом магдалиновой травы веяло со дна балки. Над обрывом, подобно большому Г, изогнулся куст шиповника, усыпанный белорозовыми звёздами цвета. Рядом один из тех истуканов, что разбросала по степи вера и воля её древних насельников. Бесстыдной улыбкой кривятся толстые тяжелые губы на едва намеченном лице. Связаны камнем ноги, и круглыми нарывами топорщатся грубо изваянные груди. Высится над провалом, стережет клад, этой земли смерти – воду.
Радость близкого отдыха и прохлада оживляют Эсмеральду. Золотистыми огоньками вспыхивают её синие очи, просверкивает жемчугом зубов румяная улыбка…
– О-ла-ла! – радостно кричит она и, дав шпоры лошади, вихрем подлетает к истукану.
Вежливо снимает шляпу. С лукаво-изящным смирением кланяется идолу.
– Здравствуйте, уважаемый дедушка.
Нагнувшись с седла, срывает гибкую пахучую ветвь шиповника, прикалывает на грудь к грубому полотну блузы.
– Souvenir, о вашей милости, дорогой дедушка. Поверьте, никогда, никогда не забуду вас. Toute a vous, excellence!
Сладок отдых после трудного пути. Весело потрескивает костер, бросая розово-золотые тени на серые валуны, меж коих, словно рассыпанная ртуть, блестит драгоценная вода.
Эсмеральда расшалилась. Поет «Изящную Блондинку». Кэк-Уоком обходит костер.
Зато Лизимах резко изменился. До сих пор старик не мог нарадоваться: никогда еще не проходилась Красная Степь так легко. Обычно двенадцать дней тяжких блужданий, а мы за трое суток сделали чуть-ли не полпути.
Но сейчас Лизимах недовольно хмурится: какой-то испуг чувствуется в его неожиданном беспокойстве. Начинаю расспрашивать. Сначала не хочет говорить, потом, нехотя, признается: беда в сорванной Эсмеральдой ветке шиповника.
– Зачем, барышня, зачем? Нехорошо… Как нехорошо…
– Да что нехорошо, черный чорт?
– Нельзя женщине трогать этого куста. Мужчине можно. Мужчине он дает силу и крепость, а женщину посвящает пустыне. Теперь у вас, барышня, не будет мужа. Возьмет вас Красная Степь. Возьмет старый бог.
– Не будет мужа? Великое горе… Их у меня столько было. Надоели. А потом, Лизимах, не отдадут меня поклонники твоему старому богу. Толстый Везель… Все-таки он главнокомандующий… Маркиз Эльфинстон, наконец, сам принц. На них, пожалуй, твой идол сломает зубы, хохочет Эсмеральда.
Но еще суровее делается черное лицо нашего проводника:
– Не смейтесь, барышня. Пустыня не любит, когда в ней смеются. Лучше перед сном помолитесь своему Ангелу, чтобы завтра не погнались за вами те, кому вы легкомысленно отдали свою душу и тело.
– Это кто же такие, Лизимах?
– Старый бог… Пустыня… Красная Степь…
Постепенно караван наш засыпает. Только Эсмеральда и я не спим.
Кругом темно и тихо. Черная и душная, медленно стекает ночь с принизившегося неба. Ярким пятном блещет костер, но уже в двух шагах от него бархатной стеной вздымается знойная потьма. Страшные вздохи и шелесты исходят из неё. Роятся в ней сонмы давно забытых теней и странных снов, причудливых и опасных. Не тех-ли, которыми грезят каменные головы древних истуканов, много ведающих идолов с бесстыдною улыбкой?
Эсмеральда молчалива. Жуть душной ночи властна и над нею. Она капризно морщит брови: ей тяжка покорность темной воле ночной пустыни. Со злостью рвет пахучую магдалиновую траву и, пожевав горьковатые и жесткие стебли, бросает их в догорающий костер. Взвивается острый язык золотистого пламени на миг вырывая из тьмы почти черные кусты шиповника, и словно изгрызенные чудовищными зубами, скаты оврага. В глазах Эсмеральды тогда тоже вспыхивают золотистые огоньки, и лицо её делается задорным и хитрым, словно она придумывает новую шалость.
– Интересно, какие у меня будут дети от неизбежного, по словам Лизимаха, союза с идолом? – внезапно спрашивает она.
От этих слов мне делается не по себе: они кажутся безмерной дерзостью. Странная жалость к Эсмеральде переполняет меня: чудится мне, что её вызова не забудут, припомнят и жестоко за него отомстят.
– Эсмеральда, говорю я, – в Красной Степи не смешно многое, очень смешное у нас, в городе. Поэтому не смейся над моим советом говорить с уважением об истукане. Я не уверен, что он – не истинный бог и хозяин этой проклятой земли.
Смутная тревога мгновенно проскальзывает в глазах Эсмеральды.
– Ты, пожалуй, прав, задумчиво отвечает она, но сейчас же опять загорается синева её очей безмерной веселостью дерзкого вызова.
И, подняв голову туда, где над провалом смутно высится громада древнего истукана, она кричит звонким голосом, каким однажды, когда в «Тиволи» враждебная клака не давала ей петь, бросила в публику: —Негодяи!
– Эй, старый хрыч, берешь ты меня в любовницы?
И тут свершилось страшное. Глубоком вздохом ответила степь на крик женщины. Где-то, в поддонной глубине этой земли смерти и запустения что-то грозно зарокотало, как большой встревоженный зверь. И столько темного ужаса таилось в рокоте, что я, вскочив и выхватив револьвер, без цели и без смысла стал стрелять в ночную мглу. А рядом со мною, дико визжа и крича неясные ругательства, также бесцельно стреляла. Эсмеральда.
IV
Круглой медной бляхой, в дымке желтого пара, выкатывалось солнце над красным блюдом пустыни.
Лизимах тревожно всматривался вдаль, качал головой и усиленно гнал лошадей.
Тусклое солнце с трудом пробрасывало лучи сквозь дымную вуаль тумана. Удушливый зной, словно плотная густая жидкость, окружал нас, и казалось, что воздух липкий, тягучий, как варенье. Нестерпимо горячими струями медленно вползало за ворот блузы – это варенье. Что-то настороженное, чутко-выжидательное чуялось в красной мгле, ровно и плоско покрывавшей небосвод.
К полудню встал лёгкий ветерок и тонкими струйками взметенного песка задымились вершины бугров.
Лизимах быстро повернулся ко мне.
– Капитан, не жалейте лошадей. Как можно скорее, должны мы попасть к Барсучьим Норам. Видите? И он показал на курящиеся верхушки курганов.
– Что это?
– Это ветка шиповника. Пустыня гонится за нами.
Буря разразилась раньше, чем мы доехали до Барсучьих Нор. Вдруг ударил резкий ветер, едва не опрокинув нас вместе с лошадьми, потом снова стало тихо. С севера, как-то сразу, страшным занавесом взвилась исчерню синяя туча, испещренная желтыми пятнами, словно брюхо ядовитой змеи. И снова, как тогда ночью, вздохнула Красная Стен, гулким рыканьем задрожало пространство, из подземных глубин встал могучий и жалобный стон, словно плач многих тысяч больших и сильных зверей, запертых в темной неволе. Он ширился и рос, заполняя круг неба и земли, и страшные, испятнанные желтым облака отвечали ему короткими блесками косой молнии и сразу взвившимся свистом тысячи флейт.
Казалось, сама смерть обрушилась на нас. Желтым сумраком наполнилась окрестность. Земля ожила: странные существа, злые и причудливые, поднялись из её встревоженных недр, витые смерчи и черные тромбы дьявольскими хвостами заплясали по степи, бешено несся взметенный песок. Едва держась в седлах, ослеплённые, полузадушенные, мы мчались, сами не зная, куда. Обезумевшие от страха кони, словно змеи, вытягивались над взбунтовавшейся землей, и, казалось, не касались её копытами. Лизимах обернулся ко мне, показывая рукою на вдруг выросший в желтой мгле холм. Я понял, что там спасение.
Перед нами открылась небольшая пещерка, выветренная в хрупком, сухом грунте холма. Я посторонился, чтобы пропустить Эсмеральду первой под спасительный кров, и в это время меня сбросило с седла.
Я ударился головою о камень, и что было дальше, я помню, как сквозь сон, страшный смертный сон.
Мне послышался суровый голос Лизимаха, властно сказавший что-то.
Потом ко мне наклонилось милое лицо Эсмеральды. Последний раз передо мною зацвели её синие очи. Я почувствовал влажный, теплый поцелуй… Донесся полузаглушенный воем ветра топот коня.
А дальше были желтая муть и темный страх.
Я очнулся в светлой комнате. У моей кровати стояли принц и Рене Эльфинстон.
– Бумаги, бумаги от фельдмаршала? – была моя первая мысль.
– Не беспокойтесь. Все хорошо, ласково ответил принц.
– Эсмеральда? – вспомнил я что-то тревожное и страшное. Принц странно заторопился. Закусил губы.
– О ней потом… потом…
Я долго болел и выздоровел только к тому дню, когда наши войска вступили в освобожденную столицу.
Я никогда не узнал, как погибла Эсмеральда.
Но меня часто тревожит один сон. Мне снится безобразная фигура старого бога и куст шиповника над узкою балкою. Мне снится Эсмеральда, распростертая у ног истукана, похожая на мальчика в своем мужском костюме и в высоких сапогах. Она мертва: на груди, рядом с полуувядшией веткой шиповника сверкают красные капли.
Я смотрю на старого бога: застывшею бесстыдною улыбкой улыбаются толстые каменные губы, и всем существом ощущаю я, какую великую муку испытала Эсмеральда, умирая.
Башенное сострадание охватывает меня. К трупу любимой моей хочу я склониться и долго плакать над нею, замученной и убитой.
Но вдруг неясным ужасом взволнована моя душа: резкая тень, упавшая от длинных опущенных ресниц Эсмеральды, странная яркость её губ, слишком алых на слишком бледном лице говорят мне: не одно страдание чувствовала Эсмеральда, умирая. Темным и мерзким сладострастием дышут её мертвые губы и замкнутые очи, осененные длинными ресницами. В муках смерти, нагнавшей дерзкую своевольницу средь грозных просторов степи, таилось злобное наслаждение, и мнится мне, в холодном трупе женщины еще дышит, еще бьется воля к страстной пытке.
И мне начинает казаться, что сейчас эта воля исполнится: встанет Эсмеральда с выжженной, горячей земли. Но не моей безмерной любви, не моей несказанной жалости ответят её синие взоры.
Кривя слишком красные на слишком бледном лице губы тою же бесстыдною усмешкою, которой усмехается старый бог, вся проникнутая желанием новой жестокой и страстной муки, повлечется она к истукану, в жажде ласк нечестивых и смертных.
И просыпаюсь я в неизбывной тоске и до зари плачу от ужаса и горя.
Солнечная пыль
«А там… там, в недосягаемой глубине неба, и свет, и тепло, будто жилище души, и душа невольно тянется к этому источнику извечного света».
В. Ф. Одоевский, «Русские ночи».
I
Когда закатное солнце сверкающим шаром низко нависает над мягкой, ленивой линией гор, – все пространство между ними и лентой серовато-белого шоссе, змеящегося вдоль садовых оград, заливается теплою зелено-золотистою мглою. Горы сквозь нее воздушно голубеют и кажутся театрально ненастоящими: вот-вот, как декорация при чистой перемене, взовьются к перечёркнутой струйками редких облаков небесной лазури.
Этот прозрачно золотистый дым, делающий предметы фантастически-лёгкими, всегда приводит Лелю в неизъяснимое волнение, и девушка готова верить Тильке Налинову, семнадцатилетнему изгнаннику из слишком многих гимназий и поэту, что предзакатная дымка – солнечная пыль, мириады мелких, оторванных от солнца частиц.
Сегодня солнечная пыль волнует Лелю особенно радостно.
Едва она выехала из ворот Чукурлара, на кремнистое шоссе, закатная радость подняла в ней буйный, невыразимый словами, восторг.
Широко раскрытыми, блестящими глазами видит Леля зелено-золотистую мглу, пролитую над дремлющими в сладострастной истоме садами, белые дачи, горящие медноковаными окнами, чёрные свечи кипарисов, устремленные к уходящему солнцу, – и, словно от сладкого вина, кружится голова Лели… Хочется стать воздушно-легкой, совсем не чувствовать себя, без оглядки растаять в золотом тумане.
– Как хорошо! Как хорошо! смеётся Леля, с наслаждением чувствуя, как тепло и атласно струится вокруг её тела всколохнутый бегом коня воздух.
Леля обгоняет едущую впереди компанию. С какой-то особенной, резкой четкостью примечает: спокойные, важные папа и мама, под полотняным балдахином коляски, и на переднем сидении – раскисший, недовольный Хроботов; Маша Григорьевна в войлочном грибе малахая, неуклюже умостившаяся на жирной белой лошади, которую, по обыкновению, не может заставить отдалиться от крыла экипажа; гарцующий на вороной Мавританке Тилька; Люси, словно вопросительный знак изогнутая в дамском седле; Александр Александрович, с вежливо безразличной улыбкой, обративший к Люси свое сухое, похожее на древнюю римскую монету, лицо.
Мимолетно чувствует Леля: она сейчас всем очень понравилась. Все, даже завистница Маша Григорьевна, радостно восприняли и запомнили тонкий, черный девичий силуэт, взвившийся на мужском седле, милое лицо, осветлённое ясной улыбкой, маленькие стройные ноги, чёткие высокими блестящими сапогами на буланой масти лошади.
Удовольствие оттого, что всем понравилась, невнятно сливается с счастьем солнечной пыли, и, опьяненная шелковистыми прикосновениями ветра, ровной иноходью коня, звонким цоканьем копыт, дальше, дальше стремится Леля, чувствуя себя легкой, невесомой, словно тело её сплетено из золотистого блеска, что ликует сейчас над землею.
Сзади слышен быстрый топот: Тилька догоняет. Своевольно шаловливой прихотью вспыхивает Леля: пусть не догонит… пусть ни за что не догонит.
Стек со свистом разрезает воздух, не касаясь лошади, – жалко делать больно милой Минуте, – и навстречу Леле бешеным бегом мчатся серые от придорожного праха уксусные деревья, каменная стенка невысокой ограды, неуклюжая мажара, шагающий рядом с ней черный и задумчивый татарин. Внезапно, далеко внизу, под пологим скатом изумрудной волны ливадийских виноградников, развёртывается горячо-синее, все в золотых блестках отраженной солнечной пыли, море. Темные кусты на обочине дороги, обвешанные белыми гроздьями цветов, дохнули сладким, мутно-приторным запахом.
И, сливаясь в одну ненаглядную солнечную радость, запоминаются легко, вольно и навсегда, и лазурное, в золоте, море, и томный запах белых цветов, и шелковые струи теплого ветра, и торжественный блеск заката.
Густолиственный намет платанов внезапно распростерт над шоссе, мостом переброшенное через глубокий овраг, откуда веет влажная прохлада.
Леля останавливает Минуту. Топота больше не слышно.
– Не догнал! не догнал!
И, подняв глаза, к дремучему своду, в просветах которого проливается все тот же зелено-золотой прозрачный свет. Леля изнемогает от неизъяснимо радостного чувства.
– Как хорошо! Как хорошо! Счастье какое!.. Солнечная пыль… Солнечная пыль.
II
Крутыми поворотами уводит вниз простремившаяся под густолиственными деревьями, полная таинственно-зеленого света и свежей прохлады, тропинка. По ней вихрем струится черная амазонка Лели, и белым пятном промелькивает китель Тили. Изредка оборачиваясь и поддразнивая Тилю румяною улыбкой, мчится Леля.
Не догонит… Не догонит…
У старого дуба, из дупла которого в плоский водоем, журча, падает серебристая нитка студеной воды, тропинка внезапно расширяется в продолговатую площадку.
Сразу останавливается разбежавшаяся Леля. Наклонясь к роднику, перехватывает запёкшимися губами холодную струю, и внезапно все существо девушки преисполняется сладостной свежестью: стала легкой, воздушной, взмахну руками и взлечу, как птица.
Леля оглядывается, где же Тилька? и, обессилев от внезапного смеха, опускается на большой камень рядом с водоемом: вытянувшись в струнку, с рукою у козырька, выпучив глаза, стоит Тилька и строит смехотворную рожу.
– Какой дурак! Боже, какой идиот! хохочет Леля.
– Так точно, ваше превосходительство! – гаркает семнадцатилетний изгнанник из слишком многих гимназий.
Леля, зачерпнув воды в плоском водоеме, плескает на него серебристыми брызгами. Только пуще напыжился.
– Тилька! будет! Вольно!
Тиля срывает с головы фуражку и во весь рост растягивается у ног девушки.
«У ног твоих р-р-р-а-б-ом умру!»
– Убирайтесь вон, нахал! – отталкивает его Леля.
«О, не гони, меня ты любишь,
И не оставлю я тебя!»
– в восторге взвивается Тилька.
– Удивительно неудачные цитаты, – делает презрительную гримаску Леля. – Неужели вы воображаете, что можно влюбиться в семнадцатилетнего мальчишку?
– О, Господа! воздымает руки к небу Тилька. – Семнадцатилетний мальчишка! И кто это говорит? девчонка из Бальмонтовского стихотворения:
«О, счастливая девушка шестнадцати лет.
О, возраст невинности и первых побед»!
– Мы, женщины, – взрослые уже в тех летах, когда вы еще в Америку к индейцам бегаете.
– А-а-а. Мы, женщины… Значит, вы почитаете себя женщиной, а не девочкой? – радуется Тилька.
– Конечно, по сравнение с вами.
– В таком случае, – впадает в исступление Тилька, позвольте сделать вам любовную декларацию, потому что я люблю всех женщин! Живу и люблю! Всех! всех!
– Ишь, какой прыткий! хохочет Леля. – И Машу Григорьевну?
– Милостивая государыня! гордо выпрямляется Тилька. – Прошу не задавать мне подобных позорящих мою честь вопросов. Маша Григорьевна – не женщина, но гриб, гнилая масленка, древесное чудище. Сегодня, когда она в малахае и парусиновых туфлях взгромоздилась на своего белого мустанга, даже эта тварь бессловесная не выдержала и тихо прошептала: – Почто наказуеши, о Господи?
– Слов метановых не слыхала, смеётся Леля, но с ними вполне согласна. Бедная Маша на коне – зрелище, действительно, грустное!
– Посему не будем говорить о нем, ибо в Писании сказано, что христианину о подобных мерзостях не следует даже думать. Лучше оставим разные гадости и отдадим наши души высокому и прекрасному, говорит Тилька, и вдруг его сильные, крепкие руки быстро обнимают Лелин стан. Прямо в её очи заглядывают карие веселые глаза, и пухлые, почти детские, безусые губы тянутся к её устам.
– Пустите! Пожалуйста без дерзостей! – вырывается Леля из объятий мальчика. Тиля отпускает ее, и она, растрепанная, красная, сердитая недовольно говорит ему:
– Что за безобразие? Бить вас надо! Бить и обивки вколачивать! Окаянный какой!
– Ну, милая, хорошая, сиреневая, – тянется к ней Тилька. – Не надо на меня гневаться. Я ведь хороший, симпатичный, и так люблю тебя.
– Это что еще за глупости? негодует Леля. – Как вы смете говорить мне «ты»?
– Но я же люблю тебя… Ужасно люблю… Не злись… Не злись, радость моя ненаглядная.
Мутно-прозрачная теплота наплывает на Лелю. Приятно кружится голова. Близко перед её лицом блестят большие смеющиеся глаза Тили. И безвольные Лелины руки уже не отталкивают мальчика. В сладостном изнеможении она полузакрывает глаза, и внезапно её губы чувствуют долгий, крепкий, горячий поцелуй.
Безудержным восторгом полнится все существо девушки. Она хочет бежать, сама не зная, куда, но крепкие руки Тили ловят ее. И новые, новые поцелуи сыплются на румяно-загорелые щеки, на теплые уста, на полузакрытые очи.
И кажется Леле, что весь мир залит, захлестнут солнечной пылью: тело девушки, как-будто расплывается в закатном блеске, и она не чувствует ничего, кроме зелено-золотой дымки уходящего солнца и этих жарких поцелуев влюбленного мальчишки…
III
После прогулки вся компания, даже папа с мамой, отправилась в городской сад ужинать.
Леля не пошла: ей не хочется ни смотреть на разряженную толпу, шаркающую по гравию аллей, ни слушать визг румынского оркестра.
Оставшись одна, Леля поднимается наверх в свою комнату. Она меняет амазонку и пыльные сапожки на капотик и туфли, заплетает на ночь косу, но затем ею овладевает нежная истома.
Тело девушки размаяно приятной усталостью; лень даже думать о необходимой возне вечернего раздевания.
Потушив электричество, Леля выходит на балкон.
Голубая и серебряная ночь развертывается над миром. Теплый бриз легко струит прозрачный воздух, наполненный запахом бело-восковых чашек магнолии.
И этот запах, лимонно-ванильный, и слегка грибной, нежно сливается с острым пряным ароматом лавра, с грустно тонкими духами розовой мимозы, с чуть слышным солоновато-йодистым дыханием моря.
Звуки отчетливы и нежны. В городском саду играют какой-то вальс, и издали веселая мелодия кажется печальной и как-то особенно мягко звучат взрывы бойкого fortissimo тарелок. Неумолчными флейтами трещат цикады. Жалобно стонут сплюшки[1]1
Сплюшка – крымское название ночной птицы, (вид козодоя).
[Закрыть]: «сплю-y, сплю-у».
Леле с балкона видна Ялта, темными садами медленно всползающая к застывшим в лунном серебре, ясным и близким горам. Кое-где бледно-золотыми точками сверкают огоньки. Белые стены домов, на которые свет месяца навел матовую синеву, ясными пятнами выделяются меж почти черных деревьев.
Прямою струйкой протянулась жемчужная нить фонарей на Набережной. Дальше, словно драгоценный камень, сверкает топовый огонь заснувшего у мола парохода, и красными вспышками вздрагивает башенка невысокого маяка.
А еще дальше раскидывается тёмно-синяя морская ширь. Пересеченная золотыми чешуйками отраженного месяца, она на горизонте сливается с лунным светом в одну прозрачную дымку и кажется неоглядной.
Ясною высью своею объемля и море, и горы, и белостенный город с его темными садами, словно торжественный купол, возносится ночное небо. Трепетными свечечками посверкивают редкие звёзды, теряя свой блеск в гордом сияньи: полной луны, будто большой серебряный шит висящей на синем своде.
Умиленная ночною красою, Леля бездумно отдается лунной истоме. Словно драгоценною влагою напояет светлая ночь девушку, и в безвольном очаровании млеет и томится её сердце.
Полная тихой невыразимой радости, Леля закрывает лицо узкими полудетскими руками своими. Они пахнут кожей уздечки, нежными, слабыми духами, резко миндальными листьями лавровишни, и этот приятный, смешанный запах будит веселую память прошедшего дня.
Вспоминает Леля, и быстрый лет Минуты по кремнистому шоссе, и беготню с Тилькой под густолиственными навесами Ореанды, и обратный путь, когда из ставшего похожим на темный шелк моря медленно выполз медный круг полной луны, а неотступно скакавший рядом с Лелей Тилька ежеминутно ловил и целовал левую руку девушки.
Все сейчас дорого и мило Леле – и то, как мама ласково погрозила ей пальцем, когда они с Тилькой, запыхавшиеся, красные, сконфуженные нечаянными поцелуями, прибежали к расположившейся на развалинах ореандского дворца компании, и лукавые слова Люси: – Однако, Лелька, ты сегодня балансируешь! – и добродушные шутки мужчин над слишком ярким румянцем щек девушки. Даже несносное брюзжание Хроботова, по обыкновению досадовавшего, зачем он поехал в Крым, а не в Киссинген, даже скучные рацеи Маши Григорьевны: – ты ведешь себя, как девчонка… неприличие, безобразие… вспоминаются светло и приятно.
Но светлее всего вспоминаются зелено-золотистый блеск солнечной Пыли и крепкие поцелуи влюбленного мальчика. Эта память, непонятно слитая с восторгом перёд красою сине-серебристой ночи, полнит Лелю нежным очарованием, и томится девушка от радости бездумной, немножко стыдной, заставляющей щеки гореть огнем и глаза наполняться невольными, счастливыми слезами.
Быстрые шаги раздаются внизу.
Из-за узорного переплета дикого винограда Леля видит на широкой аллее белое пятно кителя, кажущееся от лунного света голубоватым. Это Тилька идет к большому мимозовому дереву: по высокой поэтичности своей натуры семнадцатилетний изгнанник из слишком многих гимназий не может заснуть, если у него на ночном столике не лежит розовый цветок мимозы…
Прихотливой шалостью загорается Леля.
Тихо посмеиваясь, она высовывает голову из-за виноградных листьев, кричит: – Ау! – и быстро прячется.
Тилька, забыв о мимозе, бросается к балкону.
– Леля, милая, выгляни, милая, я жду, слышит девушка его быстрый шопот. Неугомонный смех охватывает ее; она чувствует: безмерно влюбленный и счастливый Тилька искренне думает, что он очень похож на Ромео.
– Сейчас стихами заговорит, смеётся Леля.
– Выгляни! Еще не поздно умоляет Тилька.
«Нет, то не жаворонок, то пенье соловья;
Он каждый день на дереве гранатном поет,
Зарю встречая…».
Смешная мысль внезапно осеняет Лелю. На столе перед нею стоит большая ваза, со свежими лесными орехами. Полную пригоршню их берет девушка и, звонко расхохотавшись, бросает вниз, прямо на голову Тиле.
С сухим щелканьем стукаются орехи о гладкий гравий дорожки.
– Будет! Не шалите! Покажитесь лучше! Порадуйте меня; весело отвечает Тилька на странное приветствие.
Но Леля уже не слушает. Немыслимым восторгом взыграло её сердце, и она убегает в комнату, радостная и счастливая, на прощание крикнув мальчику:
– До завтра! Спокойной ночи!
С размаха бросается она на кровать и зарывается толовой в подушку, тихо повизгивая от пронзившего все существо её безотчетного, звериного веселья. Зажмуривает глаза, и зелено-золотистая прозрачная мгла расплывается вокруг неё. И мнится Леле, что её тело истончается, тает в прощальном блеске закатного солнца. Трепеща от неизъяснимого счастья и не понимая, в чем оно, но чувствуя, что никогда еще ей не было так сладко и хорошо, Леля лепечет, и плача и смеясь:








