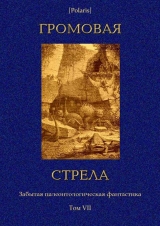
Текст книги "Громовая стрела. Забытая палеонтологическая фантастика. Том VII"
Автор книги: Владимир Обручев
Соавторы: Николай Плавильщиков,Михаил Первухин,Павел Литвинов,Сергей Горбатов,Вадим Поздняков
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Авторов
Коллектив
Громовая стрела. Забытая палеонтологическая фантастика. Том VII
Палеонтологическая фантастика – это затерянные миры, населенные динозаврами и далекими предками современного человека. Это – захватывающие путешествия сквозь бездны времени и встречи с допотопными чудовищами, чудом дожившими до наших времен. Это – повествования о первобытных людях и жизни созданий, миллионы лет назад превратившихся в ископаемые…
Антология «Громовая стрела» продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций забытой палеонтологической фантастики. В книгу вошли произведения российских и советских авторов, впервые изданные в 1910-1940-х гг. В издании сохранены оригинальные иллюстрации, составляющие неотъемлемую часть первых публикаций.
В. Поздняков ЭЛИТЕРИЙ
{2}
Рис. И. Колесникова
Что сочинение Сэта Томмервиля, из семи, поданных в Совет факультета, было лучшим, не подлежало сомнению. Сама тема – «Древние осадочные породы Гуронской системы
{3}
», давала широкий простор гипотезе, а потому и являлась весьма опасной для молодого и увлекающегося ума. Сэт Томмервиль счастливо уклонился от соблазна эффектных, но малоубедительных обобщений и, удачно ориентируясь в противоречиях таких знатоков, как Ван Гайз, Дэна, Михайловский и др
{4}
., выявил свою точку зрения, достаточно научную и (что, пожалуй, является более важным) вполне корректную по отношению к вышеперечисленным авторитетам. А это значило, что место при факультете по кафедре геологии и палеонтологии за ним обеспечено. И Элит, встретившая его в передней своей маленькой квартирки, поздоровалась с ним нежнее обычного, задержав свою руку в его крепкой ладони чуть-чуть дольше, чем, может быть, следовало бы.
Ромуальд же Гримм, двоюродный брат Элит, вечно растрепанный, шумный и излишне искренний художник и тут не изменил себе – хлопнул Сэта по плечу и подтолкнул его к девушке.
– Ну, Эли, не ломайся больше, – сказал он, – и бери его в мужья. Он уже достаточно знаменит, чтобы освещать тебя своим великолепным сиянием.
Элит закусила губу и Сэт почувствовал, что все пропало – по крайней мере на ближайшее время. Бросив свирепый взгляд на художника, он уже было собирался ответить резкостью, но Элит предупредила его.
– Сейчас половина двенадцатого, Ром, – заметила она, смотря на часики браслета, – а вернисаж начинается в двенадцать. Ты можешь опоздать.
– Попросту говоря, – добродушно рассмеялся Ромуальд,
– проваливай ко всем чертям и не путайся под ногами. Я понял, сестренка, и испаряюсь, как туман в моей «Долине безмолвия».
– Я искренне поздравляю вас, Сэт, – говорила Элит, сидя с ним несколько минут спустя в небольшой, далеко не поражающей роскошью, но со вкусом обставленной гостиной, – очень радуюсь за вас. Но, Сэт, я хочу предупредить ваши слова – я чувствую, они вертятся у вас на языке, – и тем избавить и себя и вас от дальнейших тяжелых объяснений.
– Это бесчеловечно, Элит! – с тоской, так хорошо знакомой ему за последнее время, ответил Сэт. – Вы же знаете, что я без вас жить не могу, что вы для меня все – и слава, и радость, и жизнь, что…
– Это может быть больно, Сэт, не спорю, – перебила девушка, – но не бесчеловечно. Так же больно, как операция без наркоза, но разве станете вы упрекать хирурга в бесчеловечности, когда он этого наркоза, по тем или иным причинам, применить не может?
Сэт молчал, опустив голову. Да, спорить было бесполезно – в этой стройной, худенькой девушке таилась огромная сила воли.
Элит подошла к пианино и взяла несколько аккордов, потом тем движением головы, которое так любил Сэт, откинула прядь волос, спускавшихся на лоб, – и комнату наполнил гром воинствующих, ликующих звуков.
…Шаг титанов, закованных в железо, мощь победы и победа мощи, торжество победителей и гимны славе – гремел под пальцами Элит….
И когда последний аккорд вагнеровского марша отзвучал, резонируя в бронзовой вазе, стоявшей на пианино, мелодичным металлическим звоном, Элит повернулась к Сэту и ее побледневшее лицо и горящие, потемневшие глаза говорили, что и она сейчас шла с ними, с торжествующими победителями, нога в ногу, в этом марше к славе…
– Вот что я хочу, Сэт! – прошептала она. – Вот без чего не стоит и жить… Я хочу, чтобы и ты шел в этой колонне гигантов – и ты пойдешь, если хоть немного любишь меня!
И, подойдя к Сэту, сказала, положив ему руку на плече, снова переходя на холодное «вы».
– Вы талантливы, Сэт, удивительно и разносторонне. Скульптура моей головы, сделанная вами, говорит о том, что из вас мог бы выйти художник посильнее Ромуальда – или я в этом ничего не понимаю. Ваше сочинение дало вам место при университете. Наконец, такой пустяк, как недавний ваш матч с Джоном Гасмитом, говорит о том, что вы и спортсмен не из плохих. Но, Сэт, все это не то, не то, не то! Вот именно эта разносторонность, все эти намеки, попытки, искания в окружающем и в самом себе, и пугают меня. Дайте что-нибудь яркое, цельное, бесспорное и я ваша, ваша, Сэт, клянусь нам в этом!
И Сэт ответил:
– Я попробую, Элит… Но только помните, вы дали слово. Больше – клятву.
1.
… Ящики, ящики, ящики…
Двадцать два больших, стянутых вдоль и поперек полосовым железом, рябые от бесчисленных штемпелей ящика. Когда их втащили по черной лестнице Геологического института и поставили в комнату рядом с аудиторией, прибежал смотритель здания и стал кричать о том, что тут не склады, не сарай, а помещение высокого научного учреждения, что паркет штучный, двери дубовые, и что сторож Микс олух – нельзя было допускать ставить ящики сюда, ни в коем, ни в коем случае.
Когда же олух Микс завизжал на все сорок девять комнат Геологического института просунутым между досками ящиков топором, а в аудиторию, отчаянно царапая пол, с грохотом втащили огромный щит неизвестного назначения и поставили рядом с кафедрой, смотритель пришел в неистовство и побежал к директору.
Директор выслушал смотрителя, а затем хлопнул ладонью по столу.
– Извольте, – сказал он, внезапно багровея, что указывало на плохое сердце и на еще более неважный характер, – оставить меня в покое! Ваш штучный пол и дубовые двери не стоят ни одного из этих ящиков. Убирайтесь!
Около Микса возрастала гора древесной шерсти, тонкой, мягкой, как матрасный волос. А на полу расположились куски гипса – содержимое ящиков, – плоской формы, разных размеров, с большое блюдо, на котором подают стерлядей, и с крохотную тарелочку для варенья.
– Как будто бы ни одного слепка не разбилось; – услышал Микс над собой глухой баритон. – Здравствуйте, Микс – и подождите минуточку визжать вашим топором.
Пришедший, высокий, худой мужчина лет тридцати, с желтым больным лицом и воспаленными глазами, поднял с полу один из слепков и стал его рассматривать.
И Микс увидел, как затанцевал слепок в руках человека – мелкой дрожью, прерываемой резкими дерганьями.
– Опять начинается, – сказал человек. – Если припадок будет меня трепать и завтра, во время доклада, выйдет паршиво, Микс. К тому же от этой чертовской хины я почти оглох…
Он положил слепок на пол и, тяжело волоча ноги, прошел в аудиторию. Осмотрел щит, прошел в конец зала, где на специально устроенном помосте стоял проекционный киноаппарат, взглянул на полотняный экран, натянутый над кафедрой и взошел на нее. Трясясь мелкой дрожью, постоял с минуту, затем произнес, обращаясь к невидимой публике.
– Элитерий…
Прислушался к своему голосу и покачал головой.
– Никуда не годится… – прошептал он. – Не будет слышно и в средних рядах…
Махнул рукой и пошел к директору.
– Если возможно, – начал он, здороваясь с директором, – будьте любезны известить аудиторию о том, что я совершенно не в состоянии делать завтра доклад. Я совсем болен, у меня температура, меня трясет, я… – и, обливаясь потом, опустился в кресло.
– Нет, коллега, это невозможно, – так же, как и в разговоре со смотрителем, внезапно краснея, раздраженно ответил директор. – Сделайте что-нибудь с собою, подлечитесь, но доклад должен состояться. Вы так взбаламутили ученый мир, что ждать дальше нельзя.
Глазами загнанного животного смотрел больной на директора. Потом криво усмехнулся, с трудом поднялся с кресла и протягивая директору дрожащую руку, прошептал:
– Нельзя, так нельзя… Только прошу приготовить к докладу механика для киноаппарата, да заодно и доктора, если не выдержу.
2.
… – О том, чтобы сколоть те части породы, на которых был отпечаток, нечего было и думать. У нас не было инструментов, а если бы они и были, то мы не могли рисковать возможными повреждениями пласта во время сколки. Мы с Гриммом решили сделать с отпечатка слепок. Два месяца пробирались мы к Лагуте, частью пешком, сквозь заросли тропического леса, прорубая себе путь топором, частью по реке, на наскоро связанных плотах. В Лагуте мы скупили по аптекарским складам почти весь запас гипса и с несколькими туземцами, в сопровождении груженых гипсом мулов тронулись в обратный путь.
Голос докладчика был глух – он все время откашливался, нервным движением беря себя за горло. Подносил руку ко лбу, как бы стирая с него пылающий жар, и чувствовалось, что только колоссальным усилием воли удерживает себя на кафедре.
Аудитория была предупреждена о болезни докладчика – даже шепот его мог донестись до последних рядов в стоящей тишине. В зале не было ни одного пустого места, сидели на приставных стульях, стояли в дверях. И, напряженно слушая оратора, смотрели на стоящий около кафедры громадный щит, на гипсовой поверхности которого, набранное из отдельных кусков, виднелось очертание скелета какого-то зверя. Намечался ряд позвонков змеевидного тела, лучистые кости крыльев, вооруженной зубами пасти.
…И вот началась работа по снятию слепка. Мы смазали поверхность отпечатка растительным маслом, приготовили гипсовый на квасцах раствор и стали снимать одну часть за другой, наливая гипс на поверхность. Имевшийся в инвентаре экспедиции киноаппарат запечатлел этот процесс… Механик, прошу вас приступить.
Свет погас, зажужжал фонарь и на экране задвигались фигуры. У подножья почти отвесной скалы копошились двое людей. Нагнувшись над большим плоским камнем, они всматривались в его поверхность. Один из них, в котором публика узнала докладчика, выпрямился, улыбнулся и сказал что-то другому – и тут аудитория увидела ту громадную перемену, которую претерпел этот человек. На экране говорил беззвучно здоровый, крепкий мужчина, на кафедре стоял бледный, изможденный и больной.
…– Как известно всем из газет, моего друга, художника Гримма, уже нет в живых. Он не перенес тропической лихорадки и умер месяц спустя, на пути к Лагуте. Эта лихорадка не пощадила и меня – я тоже совсем еще болен…
Показалась долина реки, по берегу которой шел караван – десяток груженых мулов и несколько человек – Гримм, докладчик и пять или шесть туземцев-дикарей.
Оратор замолк – и притаившаяся аудитория услышала падение тела.
Дали свет – на полу, у ступеней кафедры, в глубоком обмороке лежал докладчик, молодой, прогремевший на весь ученый мир палеонтолог Сэт Томмервиль.
3.
Шесть шагов в длину, четыре и ширину, кровать, рахитический стул, вздрагивающий от каждого движения шкаф без дверец и залитый чернилами стол из некрашеных досок – убежище старого учителя Натана Флейшмана.
Утром чай, вернее водица цвета спелого колоса, без сахара, с куском хлеба, днем немного рубцов, студня или кровяной колбасы, вечером – хорошая книга. Впрочем, книга и утром, и днем. Если бы не было книги, не стоило бы есть рубцов, студня и кровяной колбасы. Потому что сильное воображение и творческий ум превратят вам их в нектар и амброзию, лихорадочный шкаф и рахитический стул – в шедевры мебельного искусства, комнату – во весь мир, земной, межпланетный, в космос, в бесконечность…
– Читали, сосед, сегодняшнюю газету? – слышит Натан Флейшман голос из коридора.
Старик поднимается со стула и идет к двери. За ней стоит сосед, слесарь Толь, с газетой в руках.
Натан нагибает голову и смотрит поверх очков на слесаря. Тот протягивает газету.
– А что, сосед, разве есть что-нибудь, заслуживающее внимания? – по старой привычке учителя глухонемых, отчетливо и медленно выговаривая каждый слог, – спрашивает Флейшман.
– Зверь Сэта Томмервиля, – отвечает слесарь.
– Зверь Сэта Томмервиля? – оживляется старик. – Что это такое? Давайте, давайте, дорогой Толь, я прочту сейчас!
И Натан читает о том, как пять лет тому назад молодой ученый, кандидат на кафедру палеонтологии Сэт Томмервиль вместе со своим другом, художником Ромуальдом Гриммом отправился в экспедицию по неизвестному направлению. На его отъезд в то время никто не обратил внимания – собирался он на свои собственные, довольно значительные средства, своему отъезду рекламы не делал, но снарядил, как сообщала газета, экспедицию очень хорошо – было взято все, необходимое для длительного путешествия, даже киноаппарат.
И вот, неделю тому назад, он вернулся и привез с собой слепок с отпечатка неизвестного науке ископаемого. На литографских сланцах Голубой реки
{5}
окончил свое существование невиданный зверь и воздвиг себе на тысячи лет памятник – своим собственным телом, отпечатавшимся всем костяком на камне. Памятник воздвиг себе и Сэт Томмервиль – зверь не был известен палеонтологии.
Не похожий ни одно изученное наукой ископаемое животное, он поставил в тупик весь ученый мир. Имея крылья, он является представителем класса птиц, форма головы и змееобразного позвоночника столба говорили за то, что он близко стоял и к пресмыкающимся. Являясь, таким образом, сильным конкурентом археоптериксу, считающемуся соединительным звеном между этими двумя классами, он превосходил последнего величиной, как превосходит орел канарейку.
И Сэт Томмервиль дал ему звучное имя – элитерий. Газета сообщала дальше, мешая научный материал с обывательской обыденщиной, что это название дано в честь невесты Томмервиля, Элит, очаровательной, как и подобает быть невесте знаменитости, девушки. Мимоходом передавалось, что свадьба состоится на днях и что она откладывалась сих пор по двум причинам – по случаю смерти Гримма, погибшего от лихорадки на обратном пути экспедиции и память о котором Сэт Томмервиль хотел почтить полугодовым трауром и по причине болезни самого Томмервиля, тоже зараженного лихорадкой и больного до того, что он упал в обморок во время чтения своего доклада в Геологическом Институте.
В тексте статьи был помещен рисунок реконструированного элитерия – он главным образом и привлек внимание Толя необычайностью форм чудовища.
– Пустяки скотинка! – сказал слесарь, тыча через плечо Флейшмана изуродованным инструментами пальцем в рисунок. – С такой встретиться одни на один в лесу – пожалуй, забудешь, как тебя зовут!
Флейшман опустил газету – воображение нарисовало ему, послушно и добросовестно, такую потрясающую картину, что он даже зажмурился и покрутил головой.
– Уж лучше и не думать, дорогой Толь, действительно, страшно становится. Я бы просто с ума сошел!
– Между прочим, уважаемый сосед, – сказал слесарь, – сегодня в Иллюзионе, в дополнение к программе, будет идти фильм-экспедиция Сэта Томмервиля. Пойдемте, дружище?
Решено было идти. Правда, это предприятие должно было сделать значительную брешь в бюджете Натана, к тому же было немного жалко жертвовать несколькими часами очаровательного общения с книгой, но это «пойдемте» было сказано с такой подкупающей убедительностью, что отказать не хватило духа.
Еще в кассе, беря билеты, Толь чувствовал себя на седьмом небе. В фойе гремела музыка, щелкало колесо безвыигрышной лотереи, со стен глядели плакаты программы: американского приключенческого фильма – несущиеся люди, автомобили, скачущие лошади, и экспедиция Сэта Томмервиля – чудовище с зубами кашалота и крыльями архангела.
Сидя рядом с Флейшманом, Толь переживал вместе с героями сногсшибательной американской картины все стадии развертывающегося действия – балансирование любовника с универсальной жизненной подготовкой над Ниагарой, спасение жильцов пылающего дома, погоню на автомобиле за скачущим злодеем и прочие полотняные ужасы, щедро закрученные автором, режиссером и оператором. А когда добродетель, как ей и полагается, восторжествовала, герои поженились, злодеи были наказаны и все пришло в порядок, Флейшман вздохнул с облегчением – работы его воображению не было никакой, ее услужливо брали на себя авторы ужасов.
Но вот закачались на экране мулы экспедиции Сэта Томмервиля, развернулся освещенный ослепительным солнцем далекий тропический пейзаж и прошагнули слева направо фигуры Сэта Томмервиля и Ромуальда Гримма, в пробковых шлемах, белых костюмах, с винтовками через плечо. За ними шли, пугливо озираясь на киноаппарат, самые настоящие дикари, навьюченные инвентарем экспедиции, голые, лохматые, первобытные.
Затем фигуры Томмервиля и Гримма задвигались над oтпечатком, был заснят весь процесс снятия слепков. Была показана жизнь обоих европейцев в палатке около работ, были представлены публике веселые ребята-дикари, уже привыкшие к страшному глазу объектива и ослепительно скалившие свои бесподобные зубы, и среди них – негр Самбо, служивший одним из проводников, наиболее культурный, выполнявший в экспедиции немудреную роль оператора у уже наставленного, заряженного и приведенного в полную боевую готовность киноаппарата.
Показалась Лагута – небольшой городок с чистенькими домиками, запутавшимися в зеленой чаще пальм, лавров, фикусов и молочаев. Вся бунтующая роскошь тропического леса была показана публике на обратном пути экспедции – каучуковые, гигантские ореховые и кокосовые деревья, орхидеи, бромелии, папоротники, пупуньи: – целый ботанический сад, необъятный, чарующий и… ядовитый…
Пронесли на носилках заболевшего Гримма, зараженного тропической лихорадкой. Показали небольшой холмик у подножья масленой пальмы с крестом на нем – последнее убежище Гримма и коленопреклоненную фигуру Томмервиля у могилы.
К фильму экспедиции был примонтирован кадр, автором которого, видимо, Томмервиль не был – снимки улыбающейся Элит, прелестной девушки, играющей в теннис, верхом на лошади, в купальном костюме у кабинки, просто гуляющей.
Дали свет. Публика встала и направилась к выходам. Поднялся и Толь, Флейшман продолжал сидеть на месте.
– Идем, дружище, – начал было слесарь и остановился; Натан сидел, широко открытыми глазами смотря на уже безжизненное полотно. Он, видимо, не сознавал, что происходит вокруг него, вцепившись руками в локотники кресла, бледный, как изваяние, чем-то необычно взволнованный.
Толь встрепенулся.
– Что с вами, дружище, вы больны? – нагнулся он к старому учителю, беря его за плечо.
Тот медленно, как сомнамбула, перевел свои глаза на слесаря и покачал головой.
– Я останусь еще на один сеанс… Пойду, может быть завтра, послезавтра, буду ходить до тех пор, пока…
И, резко поднявшись, направился к кассе.
4.
Элит сосчитала, – восемнадцать журналов и двадцать три газеты. И во всех них – статьи об элитерии, о Сэте и о ней, Элит. Сэт, элитерий, Элит, Элит – Сэт, элитерий – все шесть комбинаций, которые могут дать эти три имени, сладкой музыкой пели в сердце Элит Томмервиль. А вчерашний банкет в Геологическом институте, Бармэн Ли и его речь? Речь, являвшаяся сплошным дифирамбом Сэту и почти полностью напечатанная во всех газетах… А тост Хоксая, токийского профессора, так мило, остроумно и кстати упомянувшего о старой японской сказке, – в которой два героя – зверь и красавица!
А вчерашние интервьюеры? Хоть что-нибудь, самую малость пусть расскажет им госпожа Томмервиль о Сэте, о себе самой, о своих вкусах, точка зрения на то и на это… Приходилось спешно вырабатывать эти точки и эти вкусы – а это было так увлекательно.
Элит потянулась. Вставать, пожалуй, было еще рано, да и незачем. Сэт, очень утомленный за последние дни и не совсем еще поправившийся, спал рядом, вытянувшись на спине. В спальне же так хорошо!.. Давнишняя мечта о белой полированной мебели с бледно-голубым шелком, наконец, превратилась в действительность. По шелку золотистые цветы, разлапистые, громадные, очаровательные! Сам Морфей не придумал бы более покойной, усыпчивой и поэтической кровати… А шкаф, наполненный платьями? А эти журналы, синие, розовые, желтые, в журналах же Сэт, Элит, элитерий – элитерий, Сэт, Элит, Элит Томмервиль!..
– Господи, до чего хорошо жить на свете!..
Сэт шумно вздохнул, пробормотал что-то и открыл глаза. И привычкой, выработанной долгим путешествием, когда приходилось ловить шумы и шорохи леса даже во сне, чтобы быть всегда готовым к отпору, сразу перешел от сна в явь и приподнялся на кровати.
– С добрым утром, Сэт, милый!
В дверь постучали – так всегда костяшкой безымянного пальца стучала в дверь по утрам старая Нина, служанка, вынянчившая Элит.
И, по разрешении войти, внесла на подносе утренний кофе и кучу писем – с каждым днем их становилось все больше и больше, сегодня они совсем загнали в угол подноса две чашки и плетенку с бисквитами.
– Там какой-то старик желает видеть господина Сэта. Сидит в приемной, говорит, что не уйдет, пока вы не выйдете.
Сэт поморщился. Беседа с каким-то стариком, не имеющим даже визитной карточки, не входила в его планы – хотелось выпить кофе, пробежать газеты, уложить несколько кирпичей на стены возводимого каждое утро вместе с Элит воздушного замка.
– Передайте этому старику, Нина, что я сейчас занят, пусть мне позвонит после.
Нина вернулась через несколько минут.
– Он сказал, что у него телефона нет и что он – это его слова – должен вам сказать нечто, что заставит вас бросить все остальные дела.
Это звучало, как приказ. И недоумевая, заинтересованный, Сэт оделся и пошел в приемную.
В широком кресле важно и неподвижно сидел маленький, заросший волосами старик. И когда Сэт подошел к нему, он не тронулся с места. Остановившись в трех шагах от кресла, Сэт в недоумении пожал плечами – до того был неподвижен старик. Только глаза его над тяжелыми мешками с живым любопытством и, казалось, с насмешкой смотрели на него снизу.
– С кем имею честь? – начиная сердиться, спросил Сэт.
Старик не отвечал. В глазах его запрыгали веселые искры и сквозь чашу усов прорвался, обнажая бледные десны, беззвучный смех. А затем, сотрясая маленькое тельце, этот смех выкатился наружу коротенькими всхлипывающими звуками – старик хохотал, жмуря глаза от набегающих слез безудержного, детского смеха.
Сэт подошел к стенному звонку.
– Я позвоню, – сказал он, – чтобы вам, во-первых, дали воды, а во-вторых, убрали. Приходите тогда, когда научитесь человеческой речи.
Старик умолк и покачал головой. И уже без тени улыбки, с еле уловимым оттенком сострадания, тихо, почти шепотом, произнес:
– Ай да Сэт Томмервиль… Ай да знаменитый палеонтолог, открывший элитерия…
И, помолчав, добавил:
– Как вы это сделали?
Еще будучи студентом, Сэт как-то принимал участие, в качестве первоклассного голкипера, в международном матче в футбол, его команда, синяя с белым, шла с противником, желтым, в одинаковом счете – один на один. Оставалось три минуты до конца игры – и Сэт, широко расставив ноги, мечтал о близком триумфе, о том, что он отбил четырнадцать трудных, почти невозможных мячей, о том, что это был первый случай, когда бившая всех и всюду команда желтых была принуждена вести игру в ничью.
Мечтая, не заметил, как совсем близко от его ворот завязался клубок из сине-белых и желтых тел – и неуклонно, как судьба, мяч влетел в правый край ворот, ударив прыгнувшего Сэта по концам протянутых пальцев. Гром аплодисментов сорокатысячной толпы с неопровержимостью удара палкой в голову доказал ему, что он «смазал», что все потерял раз и навсегда, что эти сорок тысяч воющих ротозеев разнесут завтра по всему спортивному миру его позор и унижение.
И вот, так же, как и тогда, он почувствовал сейчас желание запрятаться в какую-нибудь щелку, чтобы ни одного кусочка тела снаружи не оставалось, а главное – чтобы все забыли о нем, о том, что есть на свете Сэт Томмервиль.
– Что вы хотите этим сказать? – побледневшими губами спросил он старика.
– Я Натан Флейшман, учитель школы глухонемых, – ответил тот.
И усевшись поудобнее, как бы готовясь к длинному и занимательному рассказу, Флейшман продолжал.
– Чудесный экземпляр ископаемого, невиданного зверя, очаровавшего весь ученый мир и общественное мнение. Замечательная экспедиция, обставленная с удивительным комфортом, вплоть до киноаппарата. Четкие, хорошо смонтированные фильмы, ящики со слепками, переложенными не какими-нибудь стружками, а великолепной древесной шерстью, о которой тоскует мой матрац – обо всем этом известно всему миру и все это то, чему, как говорится, комар носа не подточит. Результаты – европейское, нет – почти мировое имя, прелестная жена, блестящие перспективы… И мне, любителю всего прекрасного, даже жалко становится разрушать все это… Нет, нет, – не беритесь за револьвер, это совершенно бесполезно! Во-первых, потому, что это наделает шуму и завяжет такой узел, который вам вряд ли удастся распутать, а, во-вторых, я оставил душеприказчика – он продолжит мое дело, если вы меня убьете. Лучше садитесь и слушайте.
Посетители кинематографа, нормальные люди, умеющие говорить и слушать, одним сломом – обладающие тем даром человеческой речи, в отсутствии которого вы только что упрекнули меня, не подозревают того, что он, кинематограф, нем только для них. Я сейчас удивлю вас истиной, которая звучит, как парадокс – для глухонемого, обученного речи, умеющего говорить, но, конечно, не слышащего ничего, кинематограф иногда говорит… Губами действующих лиц, движениями этих губ – и они, глухонемые, различают произнесенные слова, слушают, так сказать, безмолвие. Вот почему им, а также и мне, умеющему читать по губам, иногда бывает смешно, а иногда и просто неприятно сидеть в кино. Выдвинут на передний план героя, произносящего трагическую речь, а он, этот герой, из озорства ли, или просто, чтобы не прервать речи, ввернет в нее иногда такое словечко или фразу, что досадно становится, – все настроение, созданное иногда удачной вещью, пропадает в одно мгновение…
…Нечто подобное случилось и с вами. Вы помните, конечно, все обстоятельства, которыми сопровождалось заснятие вашей экспедиции? Не припомните ли вы тогда и вашей фразы, которую вы бросили Ромуальду во время работы над слепком? Вы произнесли ее быстро, и мне пришлось просидеть два сеанса, чтобы прочесть ее. Я и тогда на себя не понадеялся – ведь всякие ошибки возможны, и после сеанса побежал к механику в будку, и за несколько монет он провертел мне это место три раза, замедляя и даже останавливая ленту по моим указаниям. Сомнений не было, Сэт Томмервиль, – вы, не подозревая того, что полотно может говорить, бросили Гримму следующие слова: «Ну, дорогой Ром, никогда и никто, кажется, не надувал весь мир так, как это собираемся сделать мы»…
Сэт лежал, уткнувшись в угол дивана.
Натан Флейшман вздохнул, полез за табакеркой, нюхнул и продолжал.
– Вот и все, что я хотел сообщить вам. Не бойтесь, я вас не выдам. Губить человека, каков бы он ни был, не в моих правилах. На Толя, моего «душеприказчика», тоже можно положиться – раз молчу я, будет молчать и он. Моя цель другая – мне просто очень любопытно узнать, как вы это все устроили.
Сэт повернулся к старику… и тот опустил глаза. Столько муки, стыда и униженья было написано на лице Сэта, что старик был не в силах смотреть на него.
– Ну что же, вы вправе любопытствовать, – сказал Сэт, – ия отвечу вам. Мы с Ромуальдом высекли на сланце отпечаток зверя – мы работали долго, упорно, причем я тщательно обдумывал, как палеонтолог, каждую косточку скелета, чтобы сделать зверя правдоподобным с научной точки зрения. А потом сделали с него слепок. Вот и все.
– Ну, а если пойдут по вашим следам и найдут отпечаток, разве подделка не будет обнаружена? – спросил Натан.
– Вряд ли… Следы от инструментов были тщательно уничтожены, к тому же мы обработали поверхность сланца химическим путем, чтобы придать ей вид, соответствующий ее древнему возрасту. Повторяю, мы работали над породой месяцы, слепок же делали всего две недели.
И, переводя дыхание, добавил:
– Да, это преступление, и я сознаюсь в этом. Решиться на него пять лет тому назад мне было сравнительно легко – я был моложе и легкомысленнее. Но как тяжело было мне, перенесшему болезнь, трудности и опасности длительного пути и постаревшему на много лет душой, продолжать обманывать науку и служителей ее, доверчивых и мудрых – доказывает мое состояние во время доклада, когда расшатанные болезнью нервы не выдержали напряжения и я упал в обморок. И я завидую Гримму – мертвые сраму не имут… Да, это преступление, и я шел на него, лишь бы завоевать ее, Элит… Лишь за мою славу, за мое имя отдала она мне себя, свое…
Но Флейшман быстро поднялся.
– Этого можете не говорить, – прервал он Сэта. – Мне это совершенно ясно. Эти фотографии, интервью, это жадное желание разделить с вами ваш триумф достаточно показательны. И это единственное, если таковое может быть, оправдание вам. Последний вопрос – знала ли она об этой мистификации?
Сэт пошарил пальцами у горла, как человек, которому не хватает воздуха. Он молчал с минуту и, наконец, вытолкнул из себя дрожащие, прерывистые слова:
– … Нет… не знала…
С. Горбатов
ДОЛИНА СТРАУСОВ «РУК»
{6}
Рис. И. Колесникова
I.
– Единственная свободная комната, сэр. Очистилась только что. Лорд Бенторф вызван телеграммой в Лондон.
– Можете идти. Я беру эту комнату.
– Будут распоряжения?
– Я не спал две ночи, не беспокойте меня до утра.
Я запер дверь за спиной отельного служащего. Косые лучи солнца смотрели в два широких окна мягко и устало. Я прошел в изящную уборную с запахом незнакомых духов и умылся свежей водой, сладостно обласкавшей мои щеки, обожженные беспощадным солнцем и яростными самумами пустыни. Вернувшись в комнату, увидел на подушке постели бланк телеграммы. Глаза, слипавшиеся от усталости, прочитали:
«Лорду Джону Бенторфу. Немедленно приезжайте. Вилла подыскана. Обстановка. Библиотека десять тысяч томов. Подлинный Рубенс, Рембрандт, Коро. Парк. Лес, Пляж. Луга.
Фермы. Цену в шестьсот тысяч ваш текущий счет выдерживает. Биггльс».
II.
Я проснулся. Стул с грохотом катился по паркету. Рассекая лунный свет, голубым туманом напоивший комнату, коренастый человек бежал ко мне от распахнутой двери балкона. В лунном сиянии вспыхивали россыпью красных искр его рыжие волосы. В правой руке человека холодно взблескивал револьвер, через локоть левой руки была переброшена кольцеобразно свернутая веревка. Но не эти аксессуары убийства и плена задержали мой взгляд. Глаза мои жутко приковались к голове и изогнутой шее огромной птицы, которая, стоя на земле, заглядывала громадными черными блестящими шарами глаз через перила балкона во второй этаж отеля. Проснулся ли я или продолжал витать в стране снов, я не знал.








