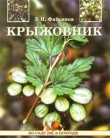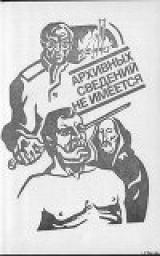
Текст книги "Архивных сведений не имеется"
Автор книги: Виталий Гладкий
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
Шхуна, затарахтев мотором, медленно развернулась, вышла из залива и взяла курс в открытое море. Кукольников, вцепившись побелевшими от напряжения руками в фальшборт, пожирал глазами удаляющийся берег. Свенсон, который хотел было пригласить ротмистра в свою каюту, застыл с открытым ртом – столько тоски и обреченности выражало перекошенное, до синевы бледное из-за ранних сумерек лицо его пассажира.
Едва фактория скрылась из виду, Ульвургын резко остановил нарты. Молча достал банку со спиртом и плитки чая; которые ему всучил Кукольников, и зашвырнул все это богатство в сугроб без малейшего сожаления и даже без злости, как могло показаться со стороны. Туда же последовали и бусы, которые каюр сорвал с шеи рыдающей Вуквуны.
– Хак! Хак! – закричал Ульвургын, на ходу запрыгивая в нарты. – Ра-а! Хак!
Вскоре разгулявшаяся поземка замела следы от полозьев, перечеркнула их острыми лезвиями сугробов. Уже не видимое в сумерках море вздыхало шумно и мерно.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Октябрь 1930 года выдался в Ленинграде на удивление теплым и сухим. Поутру редкие облака медленно выплывали из-за горизонта со стороны Финского залива, собирались в плотный бугристый вал, и казалось, что привычного для этой поры дождевого ненастья не миновать; но к обеду по-осеннему неяркое солнце превращалось из тусклой никелированной десятикопеечной монетки в тщательно начищенный медный пятак, тучи как-то незаметно, исподволь опускались все ниже и ниже к свинцово-серой глади залива, растворялись в нем, от чего он светлел, голубел и, в конечном итоге, трудно становилось отличать линию соприкосновения двух стихий – воздушной и водной.
В такой вот день, где-то около трех часов пополудни, старый дребезжащий трамвай, несмотря на свой почтенный возраст, лихо подкатил к конечной остановке, расположенной на самой что ни на есть окраине Ленинграда и, коротко звякнув, остановился. Единственный пассажир, любезно распрощавшись с кондуктором, молодящейся девицей лет под тридцать в вязаной фуфайке, спрыгнул со ступенек трамвая на щербатую брусчатку и зашагал по узкой улочке вдоль уже тронутых холодным дыханием осени палисадников.
Кондукторша долго провожала его взглядом, чему-то улыбаясь, затем вздохнула с явным сожалением и, вынув бутерброд с сыром, принялась задумчиво жевать, углубившись в свои мысли.
Тем временем пассажир петлял по переулкам окраины, часто посматривая на измятый бумажный листок – похоже что-то разыскивал. Лицо его, обветренное, загорелое, с белой полоской шрама на подбородке, было взволнованно-настороженным; серые с голубинкой глаза, быстрые и молодые, несмотря на возраст хозяина, которому явно перевалило далеко за сорок, сосредоточенно всматривались в вырисованные белой краской номера на заборах; крепко сбитая, коренастая фигура его, затянутая в новый суконный френч полувоенного образца, выражала ту зрелую мужскую силу и уверенность, которая отличает людей бывалых, много повидавших и попутешествовавших на своем веку, от засидевшихся в мягких удобных креслах ответственных и полуответственных обывателей мужского пола; крепкие ноги, обутые в хромовые сапоги, ступали легко, мягко, и без особых усилий несли литое, упругое тело.
Алеша Малахов, высокий и по-юношески гибкий парень, сидит на кухне и с увлечением читает Майн Рида. Впрочем, в его возрасте, весной ему исполнилось шестнадцать, это было неудивительно: кого в юные годы не манили дальние страны, кому не хотелось быть сильным и бесстрашным первопроходцем, защищать угнетенных и порабощенных? Но если бы кто-нибудь, не знакомый с Алешей, заглянул через плечо юноши, то, пожалуй, мог опешить: книга в добротном темно-зеленом переплете была на английском, и, судя по беглости чтения, этот язык он знал в совершенстве.
Еще большее удивление и восхищение, случись кому сойтись с Алешей Малаховым поближе, можно было испытать, узнав, что он так же свободно владеет французским и немецким.
Нельзя сказать, что Алеша был полиглотом. Например, английский язык ему на первых порах давался с трудом, чего нельзя сказать об остальных двух: на французском он начал говорить почти с пеленок, а немецкий выучил погодя, годам к десяти. Пожалуй, если б не мать, которая знала пять европейских языков и работала переводчицей Торговой палаты, английским Алеша заниматься не стал бы. Но мать, с виду хрупкая и слабая, обладала железной волей, и пришлось ему скрепя сердце корпеть по вечерам и в выходные дни над учебниками, спрягая глаголы и до ломоты в языке отрабатывая правильное произношение.
В небольшой, но уютный домик с палисадником на окраине Ленинграда они переселились в конце двадцать девятого года. Из разговора матери с бабушкой Анастасией, нечаянно подслушанного Алешей в детстве, он узнал, что до революции их семья жила в большом красивом доме неподалеку от центра города и что там теперь детский приют; что в восемнадцатом в том доме располагался штаб анархистов, которые вытолкали мать на улицу в одном пальто, а все семейные документы и фотографии сожгли в камине. Впрочем, этот разговор по прошествии времени стал казаться Алеше сновидением, тем более, что однажды он попытался расспросить мать об этом поподробнее, и она посоветовала, смеясь, не читать на ночь тоненьких книжиц в обтрепанных бумажных переплетах, где рассказывалось об "удивительных, невероятных, смертельно-опасных" приключениях знаменитого американского сыщика Ната Пинкертона, и которые он вымаливал у знакомого букиниста.
До двадцать второго года они жили вместе с бабушкой Анастасией, которая сама снимала комнату у одной из своих подруг в деревне: ее дом сожгли в семнадцатом мародеры. После смерти бабушки они возвратились в Петроград, где семь лет прожили в коммунальной квартире, которую дали матери, так как она поступила работать секретарем-машинисткой в какую-то контору. Что собой представляла эта контора, Алешу тогда не интересовало. Его больше волновал скудный паек, который мать приносила домой каждую субботу. В качестве машинистки мать пробыла недолго – уже в двадцать пятом ее приняли в Торговую палату. И вот год назад умерла дальняя родственница бабушки Анастасии, которая завещала им этот домик на окраине, куда они и не замедлили перебраться…
Алеша, не глядя, нащупал чашку с уже успевшим остыть чаем, отхлебнул глоток, перевернул очередную страницу… И в это время кто-то постучал в дверь. Мельком взглянув на старые ходики, у которых вместо гири висел амбарный замок, Алеша в удивлении передернул плечами: кто бы это мог быть? Если мать, то он, кажется, дверь на засов не закрывал, а больше никто к ним не хаживал – немногочисленные знакомые и друзья, как его, так и матери, жили на другом конце города и навещали их очень редко, да и то в основном по праздникам, а новыми они еще не успели обзавестись, потому что мать, сколько ее помнил Алеша, отличалась замкнутым характером, с людьми сходилась очень трудно и старательно избегала шумного общества.
– Входите, там не заперто! – чуть помедлив, уже на повторный стук отозвался Алеша, быстрым движением поправив свои густые черные кудри.
Дверь отворилась, и через порог ступил уже знакомый нам пассажир трамвая. Алеша, с удивлением хмуря густые черные брови, почти сросшиеся на переносице, воззрился на него и встал из-за стола.
– Извините… вы к кому? – спросил он, силясь вспомнить, знакомо ли ему это круглое добродушное лицо с небольшими, аккуратно подстриженными усами; но, похоже, он его видел впервые.
– Кхм… – смущенно прокашлялся незнакомец. – Малаховы… здесь живут?
– Да-а… – протянул в недоумении Алеша. – Но если вы к маме, то ее сегодня, наверное, не будет, она в командировке.
– Послушай… – незнакомец приглядывался к юноше, видно было, что он волнуется. – Ты Алеша… Алексей Владимирович?
– Алексей Владимирович, – запнулся в растерянности Алеша – еще никто никогда не называл его по отчеству.
– Алеша… – незнакомец выронил объемистый портфель, который держал в руках, порывисто шагнул к юноше, обнял за плечи, крепко прижал к груди, затем отстранил и, любовно глядя в большие зеленые глаза Алеши, опять заговорил негромко, словно сам с собой: – Ну да, конечно, Алеша… Алексей… И ямочка на подбородке, как у Володи. И родинка на левой щеке… Вылитый отец… Эх, не дожил!
Глаза незнакомца вдруг увлажнились, затуманились слезой.
– Ты, это, не обращай внимания, сынок… – быстро отвернувшись, он провел широкой огрубевшей ладонью по лицу.
– Вы… вы знали отца?! – голос Алеши неожиданно почти сорвался на крик. – Вы знали?!..
– Мы были друзьями, Алеша, – справившись с волнением, ответил незнакомец. – Да, – спохватился он, – я ведь тебе, так сказать, не представился. Моя фамилия Петухов, Василий Емельянович. А вообще зови меня просто дядя Василий. Договорились?
Алеша кивнул, не в состоянии вымолвить слово. Он не мог поверить своим глазам, все происходившее казалось настолько нереальным, что ему захотелось ущипнуть себя: не спит ли? Этот незнакомый мужчина – друг его отца!
Алеша не видел отца даже на фотографии. Мать об отце не вспоминала никогда, по крайней мере, в присутствии сына. Когда приставал к ней с расспросами, отвечала коротко и неохотно: погиб на войне. И все. Никаких подробностей, будто она знала о своем муже только понаслышке. Если же Алеша становился чересчур настойчивым в своем желании выведать об отце хоть что-нибудь, лицо матери становилось мертвенно-бледным, она резко обрывала его и надолго уходила из дому. А после, ночью, если ему случалось проснуться, он слышал ее плач – тихий, безысходный, до самой утренней зари. Однажды утром ее забрала карета "скорой помощи" – что-то случилось с сердцем. И с той поры Алеша никогда об отце даже не заикался: не по-детски самостоятельный, он понял, что здесь кроется какая-то тайна, о которой матери не стоит напоминать. Так разговоры об отце в семье стали запретной темой.
Но теперь, когда в их доме появился человек, который хорошо знал отца, его друг, Алешу словно прорвало: вопрос следовал за вопросом: кто? когда? где?
– Погодь, погодь, Алеша, – взмолился Петухов. – Ты меня с дорожки хоть чаем угости.
– Извините, я сейчас! – метнулся Алеша к примусу.
А Василий Емельянович принялся тем временем выкладывать на широкий кухонный стол содержимое своего огромного портфеля: пакеты с колбасой, красную рыбу, зернистую икру в стеклянных банках, конфеты, шоколад, тонкие пластины темно-коричневого вяленого мяса, какие-то коробки и металлические банки с иностранными наклейками…
– Угощайся, сынок! У вас тут с харчами, поди, не густо. Оно и видно – больно ты худ, Алеша. Но мосластый. Широка кость, как у бати. Ну а то, что отощал, дело поправимое. Была бы стать крепка, да кровь – не прокисший квас…
Петухов пил чай вприкуску, изредка тихо крякая от удовольствия. Алеша к подаркам даже не притронулся – сидел, словно на иголках, с нетерпением ожидал, когда дорогой гость насытится, чтобы поговорить об отце.
– Спасибо, Алеша, – Петухов достал папиросы. – Закурить у тебя тут можно? Ну и добро…
Прикурив, Петухов надолго задумался, видимо, вспоминал, глядя на Алешу, вздыхая. Затем начал тихо, не спеша:
– Бежали мы с твоим отцом с каторги вместе в пятнадцатом…
Алеша слушал, широко раскрыв глаза. Он – сын графа Воронцова-Вельяминова! Его отец – подполковник царской армии! Каторга… Побег… Якутия и Колыма… Восточно-Сибирское море… Американский коммерсант Олаф Свенсон… Старатели… Золото…
– В двадцать третьем партия направила меня в Колымский район… Город Нижнеколымск… Отец…
– Вздернули старатели гада, звали его Делибаш. Спасти я пытался этого Иуду – не знал, что он убил твоего отца. Из-за угла стрелял, подлая его душа. Оно, конечно, не по закону, без суда и следствия с ним так обошлись, да только вернись теперь тот час, я бы его и сам… своею рукой… Эх, Алеша, каким человеком был твой отец! – голос Петухова дрогнул.
Василий Емельянович снова закурил, затем достал из кармана френча сверток и протянул его Алеше.
– Вот возьми. Память об отце. Умирая, он просил разыскать тебя и передать эти часы, кольцо и портмоне. Там внутри записка. Дописать не успел…
"Сынок, Алешенька! Прощай и прости меня за все. Будь счастлив. Ключ…" На этом записка обрывалась. Кроме записки, в портмоне лежал плотный кусок картона, тщательно завернутый в лоскут просмоленного шелка.
Алеша, тая слезы, долго всматривался в план какой-то местности, прорисованной черной китайской тушью на картоне: прочитал он и надпись с обратной стороны: "И сказал Господь: "Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я тебе укажу". Гр. В. В-В.".
Значит, он – Алексей Воронцов-Вельяминов… Графский сын… Дворянин… Алеша, прикусив губу, метнул быстрый взгляд на комсомольский значок, прикрепленный к лацкану пиджака, который он, придя из школы, повесил на спинку стула, и потупился. Лицо его вдруг побледнело, над верхней губой проступили мелкие капельки пота. Петухов заметил его состояние и встревожился:
– Что с тобой, Алеша? Тебе плохо?
Алеша не отвечал. Не будь рядом Василия Емельяновича, он, пожалуй, впервые в жизни разрыдался бы – дворянский сын, белая кость! И – комсомолец…
– Постой, постой… – Петухов наморщил лоб, собираясь с мыслями. – Разве… разве тебе мать об отце ничего не рассказывала?
Алеша по-прежнему молчал, только голову склонил еще ниже.
– Та-ак… Ну и дела… – Петухов начал кое-что соображать. – Малахов, Малахов… Вот оно, значит, что… А я сдуру, не подумав, со своими откровениями… – он нахмурился; лицо его вдруг стало жестким и немного виноватым.
Глядя на поникшего юношу, Василий Емельянович почувствовал угрызения совести. Он только теперь начал понимать, какую бурю в еще не зрелой юной душе вызвал. Но как поправить положение, не знал…
Мать приехала к вечеру следующего дня: Петухов не стал ее дожидаться, он торопился на поезд – опять уезжал на Крайний Север. Прощание получилось тягостным; оба чувствовали себя почему-то скованно, неловко. Алеша проводил гостя к трамвайной остановке, где неожиданно для Петухова расцеловал его. Порыв юноши растрогал старого большевика до слез; они договорились писать друг другу.
Тонкая, высокая фигура юноши, чем-то напоминающая Петухову одинокую лиственницу на макушке сопки, невесть как забравшуюся туда и теперь обдуваемую всеми ветрами, уже давно исчезла за поворотом, а Василий Емельянович все еще стоял у заднего окна трамвая, задумчиво и отрешенно глядя на убегающие полоски трамвайных рельсов. Он ощущал непривычную для него душевную опустошенность: вместо удовлетворения от сознания честно выполненного долга перед памятью погибшего друга Петухов вдруг почувствовал себя виноватым. Но спроси его кто-нибудь в этот момент почему, он ответить не смог бы…
Вещи отца мать заметила сразу, как только переступила порог комнаты – Алеша положил их на виду посреди письменного стола. С вдруг застывшим лицом она подошла к сыну, словно боясь обжечься, протянула руку, взяла обручальное кольцо, прижала его к груди и, теряя сознание, беззвучно упала Алеше на руки…
2
Букет полуувядших роз сиротливо торчал в стеклянной банке из-под вишневого компота. На кушетке лежал небритый капитан Савин и, бездумно уставившись в потолок, страдал: последняя, довольно продолжительная командировка в Москву окончательно разрушила робкие попытки Бориса покончить с холостяцким образом жизни. А если короче – о, эти коварные женщины! – Наташка вышла замуж, даже не позаботившись известить его о таком важном социальном свершении.
И когда он субботним вечером, едва отряхнув дорожную пыль и побрившись как никогда тщательно, появился у порога ее квартиры с многострадальным букетом роз, из-за которого ему пришлось объездить пол-Москвы, и, изобразив на лице улыбку, позвонил, дверь открыл широкоплечий, спортивного вида малый и ехидно осведомился: "Вы к кому? К Наташе? Простите, вы Савин? Вот и хорошо. Знаете, Наташа, моя жена, просила вам передать, что ее нет дома". "А когда будет?" – сдуру ляпнул ошеломленный капитан, которому в этот момент неожиданно изменила вся его профессиональная проницательность. "Для вас никогда…" – с легким сожалением, как на умственно недоразвитого, посмотрел на него удачливый соперник и плотно прикрыл дверь квартиры.
Букет Савин не выбросил. Неизвестно почему. Принес в свою крохотную комнатушку и даже поставил в банку с водой. Как монумент своей глупости и фатального невезения – утешал себя, глядя на прихваченные морозом лепестки.
В управление не звонил, ночью выпил чашек десять круто заваренного чаю, уснул только под утро.
Проснувшись, подкрепился банкой тушенки, невесть какими судьбами завалявшейся в холодильнике, погрыз закаменевший сухарик и снова забрался на кушетку…
В дверь постучали настойчиво и сильно – звонок сломался года два назад, и Савин, уходя на работу, клятвенно обещал себе почти каждый день, что уж сегодня вечером он починит его обязательно.
"А вдруг Наташка!" – словно ветром сдуло Савина с постели, и он заячьим скоком заметался по комнате, запихивая подальше от глаз разбросанные вещи. Смахнул в мусорное ведро остатки завтрака и, на ходу застегивая рубаху, подошел к двери.
– Сейчас! Открываю…
– Силен поспать… Здоров. С приездом, – затопал унтами на пороге, стряхивая снег, КаВэ Мышкин.
– А-а, это ты… – разочарованно сник Савин. – Привет… Проходи.
– Что, не рад?
– Почему, рад… – вяло пожал ему руку Савин. – Как узнал?
– Земля слухом полнится… – Мышкин покопался в кармане полушубка и положил на стол большую пачку индийского чая. – По случаю приезда скромный подарок… Перекусить найдется?
– А кто его знает. Сухари, кажется, есть. И сахар.
– Подходит. У меня тут еще кое-что имеется… – вытащил из-за пазухи сверток. – Вяленый хариус… Подкрепившись, Мышкин похлопал Савина по плечу:;
– Не горюй, Боря. Все что ни есть – к лучшему.
– Ты о чем?
– Да ладно, не темни. В райотделе уже в курсе… Неплохая девка Наташка, но знать не судьба тебе с нею.
– Иди ты!.. Судьба, не судьба… Гадатель нашелся. Сам разберусь, что к чему.
– Не горячись, Боря. Поздно уже разбираться. Что, морду бить ему пойдешь? Он-то при чем?..
– Послушай, Костя, имею я право хоть в этом случае быть не милиционером, а простым человеком, мужчиной?! Да не полезу я в драку, можешь не сомневаться. Если, конечно, не придется сдачи дать… А вот с Наташкой я должен поговорить, обязательно должен!
– Как хочешь, дело твое. Только о чем ты будешь говорить? Просить, чтобы вернулась к тебе?
– Не знаю… Просить не буду… Просто поговорить хочу.
– Ну-ну, давай… Как рыбка? Хороша, ничего не скажешь. Между прочим, Саша Кудрявцев угостил. Он и для тебя припас – осенью путину ты по столицам прокатал… Слушай, Борька, а как там наши дела? Что нового привез?
– Долгий разговор… А, в общем-то, дело дрянь.
– "Хоронить" придется?
– Не знаю. Что шеф скажет.
– Ну а твое мнение?
– Не хотелось бы… Да вот беда – не знаю теперь, с какой стороны к этому делу подступиться. Все настолько запуталось и осложнилось, что просвета никакого не видно. Впрочем, возьми папку – вон там в столе, ознакомься с последними данными.
Пока Мышкин, устроившись на кушетке, занимался бумагами, Савин побрился, переоделся в свежую рубашку и подмел в комнате.
– Значит, Христофоров-Раджа "лег на дно"?
– Похоже. Всесоюзный розыск объявили, но пока безрезультатно. Ребята из МУРа сейчас его связи отрабатывают, да, боюсь, толку из этого будет мало – хитер, старый лис, – Савин присел рядом с Мышкиным.
– А как с шифровкой?
– Никак. Отыскали только источник, откуда взято изречение. Да вот сам смотри: Бытие, первая книга Ветхого завета. Двенадцатая глава. Жизнеописание праотца Авраама и его жены Сарры. Читай, здесь полный текст…
– "И сказал Господь: "Пойди из земли твоей, от родства твоего в землю, которую я укажу тебе; и я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, и злословящи тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные". Уф… – Мышкин перевел дух. – Красиво говорил бог Элогим бедному Аврааму…
– Интересно, что хотел сказать тот, кто преподнес нам эту загадку?
– Послушай, Савин, а что если это не шифровка?
– Как это не шифровка? Ты сомневаешься в этом?
– Не то чтобы сомневаюсь, но предпосылки к этому есть. Суди сам: над этим текстом работают лучшие шифровальщики уже не одну неделю – все впустую. Неужели граф Воронцов-Вельяминов – если это и впрямь его вещи – был такой дока по части шифров? Да еще в те времена, когда шифровальное дело было, образно выражаясь, в колыбели?
– Ну не скажи, Костя. Методика шифровального дела, разработанная русским Генштабом перед первой мировой войной, считается по сей день одной из лучших.
– Не спорю. Но в нашем случае это еще требуется доказать. А то мне кажется, что мы в трех соснах заблудились… Впрочем, Боря, давай пока оставим в покое твои московские изыскания. У меня тут кое-что есть и довольно интересное.
– Очередная загадка? – хмуро поинтересовался Савин, складывая бумаги в папку.
– Нет, просто стоящий шанс покончить со всеми загадками по этому делу.
– Блажен, кто верует…
– Боря, я тебя не узнаю. Где твой хваленый оптимизм?
– Взрослею, Костя. А значит, по пути в мир потусторонний шишки набиваю. А это, представь себе, больно даже оптимисту.
– Спасибо за откровенность. Понял. Может, оставим на завтра?
– Да чего там, продолжай…
– Ты помнишь дело Нальгиева?
– Нальгиева? Нальгиева… Что-то не припомню.
– Впрочем, ничего удивительного. Он проходил по линии ОБХСС. Лет семь назад. Скупка золота. В подробностях сам покопаешься, это не суть важно, по-моему. А важно другое: в этом деле фигурировал некий Скапчинский, зубной техник. Неплохой специалист своего дела – я имею в виду не торговлю золотишком. Эдакий симпатичный дедок, но, несмотря на преклонный возраст, – любитель острых ощущений и дензнаков…
– На надгробие собирает?
– Сие суду он не соизволил объяснить. Списали на старческий маразм. Но срок он, естественно, схлопотал. Правда, учитывая его душевное и физическое состояние и первую судимость (что с его "способностями" – посмотришь в деле – весьма странно и подозрительно), дали ему по минимуму.
– Слушай, Костя, давай ближе к делу. Какое отношение имеет этот… Собчинский…
– Скапчинский…
– Дедушка Скапчинский к убийству?
– Я не сказал, что он имеет отношение к убийству. А вот то, что потерпевшему золотую вставную челюсть изготовил именно Скапчинский, могу поручиться, чем хочешь.
– Фантазируешь?
– Не подвержен.
– Хо-хо, Костя, старо предание…
– Ну ладно-ладно, бывает иногда, грешен, но не в этом случае.
– Верю, только не падай на колени. Давай его величество факт.
– Читай. Из облуправления. Аппаратура у них сейчас новейшая, вот я и отправил на всякий случай перепроверить данные экспресс-анализа по вставной челюсти убитого. И вот результат: найденный у Скапчинского при обыске золотой сплав идентичен материалу зубов потерпевшего.
– Это уже серьезно, дружище… Вот так новость! Неужели след?
– Не знаю, не знаю… Вообще-то я предполагал нечто подобное. Помнишь, я тебе говорил, что челюсть изготовил незаурядный мастер? Так вот, в свое время по просьбе ОБХСС я занимался клиентами Скапчинского на предмет определения, чьи руки поработали над нелегально изготовленными зубными протезами из золота, потому как дедок упрямо отрицал свою причастность к этому. И теперь, сравнив материалы тех лет с нашими, могу со всей ответственностью заявить: вставная челюсть потерпевшего – его работа. Официальное заключение я уже подготовил, завтра получишь.
– Спасибо, Костя!
– Да брось, Боря, работа такая.
После ухода Мышкина капитан долго стоял у трюмо – единственной стоящей вещи непритязательного интерьера его холостяцкой квартиры, подарка Наташки ко дню рождения. Высокий парень с не по уставу длинными волосами темно-каштанового цвета и правильными чертами смуглого, чуть скуластого лица грустно смотрел карими глазами на Савина. Судя по морщинам, избороздившим лоб, он был явно расстроен и опечален. Чтобы подбодрить его, капитан изобразил гримасу из набора трагедийных масок, тяжело вздохнул и отправился по соседям-сослуживцам в поисках масла, чтобы поджарить картошку, которую собирался взять взаймы. Сухари к чаю у него были.
Воздух был горяч, упруг; хлопья сажи вперемешку с пылью кружились над окопами; небольшая деревенька позади догорала. Вернее, догорали развалины – то, что осталось от вчерашнего артобстрела. Только колокольня старинной церквушки, на месте которой теперь чернела воронка, обнесенная валом из битого кирпича и вывороченных взрывом гранитных глыб фундамента, все еще высилась над скорбным пепелищем, закопченная, изгрызенная осколками, невесть каким чудом устоявшая под бешеным разгулом стальной стихии.
– Командир! Товарищ лейтенант!
Алексей Малахов покрутил головой, стараясь унять неумолчный шум в ушах и, стряхнув рассыпчатые комья земли, медленно встал на четвереньки.
– Командир… – по траншее, пригнувшись, спешил к нему ефрейтор Никашкин – маленький, юркий и улыбчивый.
– Во шандарахнуло… – помог Алексею перебраться под защиту уцелевшего бруствера. – Снарядов не жалеет, паразит. Выковыривает нас, как лиса сусликов, – отцепил флягу с водой, протянул лейтенанту. – Хлебните чуток. Не ранило?
Алексей припал сухим ртом к горлышку, отпил немного, вернул флягу Никашкину.
– Цел… – пощупал левую ногу, поморщился – саднило, видно, чем-то ушибло при взрыве.
Рота, в которой Малахов командовал взводом, вторые сутки держала оборону возле деревушки, защищая правый фланг стрелкового полка. Линия окопов и траншей упиралась одним концом в неглубокую илистую речку, противоположный берег которой представлял собой поросшее осокой и камышами непроходимое болото с редкими кучками деревьев, разбросанных до самого горизонта в полном беспорядке; левый фланг оборонительных рубежей полка располагался в редколесье, которое оканчивалось яром с обрывистыми склонами. На штабном языке – полк прикрывал танкоопасное направление, и потому приказ командира дивизии, в распоряжение которого высшее командование, вместо ожидаемых после слезных запросов трех-четырех противотанковых батарей, предоставило резервный стрелковый полк, почти сплошь укомплектованный необстрелянными новобранцами, был категоричен и недвусмыслен: стоять насмерть, но не пропустить танки противника к железнодорожному узлу километрах в двадцати от деревеньки, где в это время полным ходом шла эвакуация рабочих и оборудования военного завода. Стоять, пока не будет получено распоряжение отойти на следующий оборонительный рубеж, который теперь спешно оборудовали саперы и добровольцы из местного населения.
Эти двое суток для обороняющихся прошли на удивление спокойно, если не считать одной бомбежки, двух арт-налетов – вчерашнего, вскоре после обеда, и сегодняшнего, который начался с истинно немецкой педантичностью, минута в минуту опять-таки пополудни, как в прошлый раз, – и двух атак пехоты, которые они отбили с большим уроном для врага. Видимо, что-то не заладилось в немецкой военной машине – ожидаемых танков пока не было, чему многие бойцы втайне радовались: что ни говори, а уж лучше огненный шквал орудий, к которому успели привыкнуть, чем впервые встретиться лицом к лицу с бронированными чудищами, о которых новобранцы были немало наслышаны от бывалых бойцов.
– Сейчас попрут, – Никашкин осторожно приподнялся над бруствером.
– Фрицы, они порядок любят: покропили стальным дождичком, пора и с кузовком за грибочками…
Алексей невольно улыбнулся – он уже не удивлялся шуточкам Никашкина, которые на первых порах принимал за браваду; ефрейтор и в бою посмеивался, только глаза его загорались, как у хищной ласки. Он чем-то и походил на эту зверюшку – стремительными, ловкими движениями, молниеносной реакцией и удивительным бесстрашием. Во время атак Никашкин, словно маленький вихрь, метался между бойцами своего отделения, успевая подбодрить новичков очередной шуткой, подсказать, как поприцельнее вести огонь, при этом и сам стрелял, казалось, не переставая. А уж это ефрейтор умел делать отменно, сливаясь в одно целое с автоматом, который он добыл невесть каким образом при формировании полка (у остальных красноармейцев были видавшие виды трехлинейки), Никашкин бил короткими смачными очередями так, что почти ни одна пуля не пропала зря.
Войну Никашкин встретил на границе. Когда от заставы остались развалины, вынес на плечах тяжело раненного политрука в так называемый тыл – добрался к наспех сколоченной части из бывших пограничников, которая, не успев принять бой, оказалась в окружении. Больше месяца часть пробивалась к линии фронта, наводя панику на гитлеровцев своими стремительными, неожиданными ударами, после которых растворялась в лесах, просачиваясь под носом у карательных отрядов СС, охотившихся за пограничниками.
При переходе линии фронта Никашкин был ранен, но в госпитале долго не задержался – не потому, что вылечился, а просто сбежал. Долго мытарился по кабинетам тылового начальства, просился опять к своим, пограничникам, но впустую: то ли часть расформировали, то ли отправили выполнять какое-нибудь спецзадание, учитывая уже немалый боевой опыт бойцов, – так ефрейтор и не узнал о судьбе своих боевых товарищей. В конце концов его едва не под конвоем препроводили в резервный полк, где и дали отделение молодых, необстрелянных солдат. Поговаривали, что где-то в штабе на него лежит наградной лист; медаль или орден – никто толком не знал, но Никашкин только беспечно, со смешочками отмахивался: дело наживное, не к спеху…
Наконец Алексей окончательно пришел в себя, поднялся на ноги и встал рядом с Никашкиным.
– Как ребята? – спросил ефрейтора.
– Орлы. Держатся, – беззаботно ответил тот, внимательно прислушиваясь к обманчивой тишине, которая воцарилась после артналета.
– Убитые во взводе есть?
– Бог миловал. У пятерых ранения, да и то курам на смех – царапины, – вдруг рассмеялся. – Один только Бирюков схлопотал посерьезней в… общем, в "тыл". Ничего, оружие держит, стоять может, а посидеть в ближайшем будущем не придется, фрицы не дадут…
И вдруг умолк на полуслове, нахмурился. Алексей удивился было этой перемене, но в следующий миг понял ее причину: из-за пригорка, который щетинился позади немецких окопов унылым, искромсанным пулями редколесьем и который скрывал неглубокую лощину, послышался гул. Он нарастал, усиливался, постепенно наполняя изрытое воронками пространство впереди окопов; казалось, воздух пришел в движение, завибрировал, отчего земная твердь дрогнула, заходила под ногами ходуном, начала стекать в траншею струйками распушенного солдатскими лопатами и осенним суховеем чернозема.