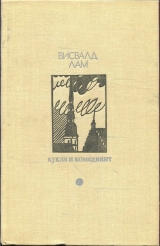
Текст книги "Одну лишь каплю даруй, источник"
Автор книги: Висвалд Лам
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Весной моя мать помогала огороднице, появился генерал и, подав деньги, вежливо попросил:
– Сударыня, сходите в лавочку, купите мне папиросы «Мокка».
Генеральские папиросы, генеральское обращение. Конечно, он мог издали крикнуть: «Эй, баба, слетай-ка!» – мог приказать, скажем, кухарке, чтобы та сама передала приказание подручной садовницы. В конце концов, он мог бы и сам сходить, но это, очевидно, было неуместно для генеральского звания.
Да, звание – это большое дело, оно портит всех: генералов, министров, председателей и притязателей, – но генералов все же меньше, чем их супруг. Развитие задержать не может никто, даже не всегда можно изменить его направление. Белый дом от Конюшенного дома отделяла изгородь, генеральша выращивала розы и долги, принимала высоких гостей и раз в месяц навещала мою мать – своего рода демократия, даже свобода критики, потому что она говорила матери:
– Вы уж, милая, чересчур свое положение в претензию ставите.
Мундир генерала латвийской армии особой пышностью не отличается, блеск производил сам почет. Имение. Я недоверчиво таращился на разрушенный фундамент и ковырял в носу. «Возьми платок, это анштейно», – кричала мать. В ходу у нас были слова: форузис (передняя), телекис (тарелка), гапеле (вилка), ваштаз (корыто), гардина, гардинштанга и прочее; с чтением новых книг ее выговор изменился. Да и имение менялось на моих глазах день ото дня. Генерал был освободитель, – стало быть, он освободил имение от Гёгингеров, и освободил, видимо, для самого себя; почему же моему отцу, который тоже был на войне, не досталось ни имения, ни земли, если не считать тех трех аршинов, которые получает каждый, – по крайней мере, я не знаю случая, когда бы покойник остался лежать на поверхности земли непогребенным. То, что в мире все не так, как надо, я понял, когда получил взбучку за тайком выпитое вино. Мой отец воевал в мировую войну, получил Георгиевский крест и в 1915 году был в том корпусе, который немцы окружили и взяли в плен в Августовских лесах. В мирное время отец служил в императорской гвардии – эту гвардию похоронила мировая война, миллионы погибли, другим повезло. В мои руки попала георгиевская ленточка и раскрашенная фотография – цветную пленку тогда еще только надеялись придумать, предприимчивые фотомастера обрабатывали кисточкой черно-белый снимок. Результат был изумительный – гвардейский унтер-офицер по сравнению с генералом от артиллерии выглядел как фазан по сравнению с простым петухом. Мать рассказывала:
– Их полком командовал царев дядя, великий князь Николай Николаевич, ростом он был выше всех, а сам тощий, как гвоздь. Гвардейцы все были рослые, на подбор. Твой отец на действительной службе окончил унтер-офицерскую школу, потом ему предлагали сверхсрочную службу в охране царского дворца в Петербурге и офицерскую школу.
Надо же! Я уже слышал о том, что такое раньше был офицер, – и по рассказам, и по книгам, и по рисункам: лакированные сапоги, звенящие шпоры, белые перчатки, золотые погоны, шашка с портупеей. Мать это, кажется, приводило в восторг, а вот отец отказался.
Мать объясняла:
– Он сказал: «Офицер, он всего лишь собака, которой надо лаять на других, в то время как на него самого сверху лают. А в порту надо мной никого не будет».
Гм, странно – вот и Меллаусис был не особенно высокого мнения о воинских чинах. Мой отец дошел даже до того, что в латвийскую армию вступил простым солдатом. Мать повторила его слова:
– Говорил, что не хочет быть на собачьей должности. Потому ему и Милгравис был мил. Ничего ему больше не надо было, работать в порту – мешок на плече таскать.
– А почему его землей не наделили?
– А он сам не просил, сказал: «От такой власти ничего не желаю брать». – Мать даже вздохнула: – Такой уж он всегда был, все своим умом норовил жить, вот и остались ни с чем.
Я знал, что мать, еще живя подле Белого дома, хотела получить упущенное и подала прошение. Генерал обещал поддержку, но было отвечено, что государственный земельный фонд уже разделен. Подумать только – прямо как в сказке: «Эй, скатерть-самобранка!» – и сразу ты в имении с яблоневым садом, с работником, кухаркой, огородницей и помощницей огородницы, с парком и лягушачьим прудом (там при баронах разводили съедобных лягушек), а может, и с солидными дивидендами если не рыболовецкого, то какого-нибудь другого общества; прямо как с нищим Томом, который стал вдруг принцем Уэльсским: сын рабочего стал бы барчуком. Стоило только произнести эти волшебные слова, которые мой отец по неисповедимому упрямству «засолил», и вот дорогу преградила другая формула: «Земельный фонд разделен». Черт возьми, кому же это досталось «мое» имение? Как объяснить, почему один человек берет имение и позволяет своей жене растранжирить, а другой, не слушая жену, отказывается почти от всего, оставаясь верным своей неблагородной профессии портового рабочего. Ведь мы же, каждый, делая что-то, что-то думаем. Приходилось наблюдать чудеса, когда человек делает черт знает что, полагая себя умным человеком, или поступает умно, а выглядит так, будто делает черт знает что. Люди говорят: «У умного и беда-то умная» и «у дураков и счастье дурацкое», а не могло быть так, что умному выпадало дурацкое несчастье?
Мать рассказывала, что отец писал из немецкого плена: «Наш друг Коруедим шлет привет». Вернулся он в конце 1918 года и зиму провел в Царникаве. Когда ландсвер занял Ригу, началась дикая резня: расстреливали всех, кто только очутился на мушке или на кого донесли бессовестные местные жители. В Царникаве офицер, который всю ночь пил у старшего рабочего с обжарочной, угодливого и жадного Берзиня, к утру имел в руках список с тринадцатью «местными большевиками». Двенадцать из них уже в полдень были поставлены к бане в парке имения; только мой отец накануне, точно предчувствуя что-то, раздобыл лошадь и с семьей – матерью и Мирдзой – убрался обратно в Милгравис. К лейтенанту подбежала Алма Вернер – ее мать и отец были в числе арестованных – и со слезами принялась молить:
– Неужто нет бога на земле, если вы собираетесь казнить невинных людей?!
Лейтенант весело засмеялся и приказал стрелять.
Лейтенант, офицер. У немцев были, кажется, серебряные погоны, но такие же блестящие сапоги, такие же шпоры, сабля с портупеей, белые перчатки, как у царской гвардии. Милгравский рабочий не хотел попирать человечность, натягивать белые перчатки и командовать. Капитан Меллав, который скатился до плотника Меллаусиса, говаривал: «В людей не стреляй, птиц не убивай, убьешь в себе человека». А генерал вежливо подавал сантимы подручной огородницы: «Сходите, пожалуйста, сударыня, за папиросами…» («мне по чину не положено»)!
Ландсверовцы искали отца и в Милгрависе (собственно, в Ринужах), но его вовремя предупредили, и он скрылся, ночь провел под рыбацкими лодками. Когда пришел Бермонт, отец вступил в латвийскую национальную армию. А потом тяжелое послевоенное время: стали заходить корабли, вернулся наконец кормилец – в поношенном френче, в американских «танках», ботинки были отличные – все добро на себе, все богатство в брюхе. Семья увеличилась, но отец упрямо твердил: «От такой власти я ничего не хочу брать!»
Прошли годы. Я нашел книгу «История 9-го Резекненского пехотного полка», там упомянуто и имя моего отца – в числе тех солдат, которые, оказавшись раненными 11 ноября в боях за освобождение Торнякална, отказались лечь в госпиталь и в окровавленных бинтах продолжали воевать. Матери отец об этом не рассказывал, зато рассказывал, что после разгрома армии Бермонта в живых оставляли только русских солдат – это были насильно мобилизованные пленные периода мировой войны. Немецкие добровольцы, которые пришли сюда в надежде разжиться латвийской землей, все ее получили…
Бароны? Латышские солдаты заплатили колонизаторам: за позорные столбы перед церковью, за рубцы от розог, за «право первой ночи», за «черную сотню», за ландсвер, за семь веков «благородной миссии» в пыточном застенке.
Что же щемило душу живым? Мертвым не больно, всем нам когда-то будет не больно; и вся жизнь-то, может, один сплошной огонь – больно, не жалуйся, будь человеком. Вот и Вернеровой Алме было больно, она пила не меньше Меллаусиса, курила, что для деревни было совсем необычно, издевалась над религией, над богом, плевала на все как есть. Нигилизм и чахотка источили ее, и вот она уже спит на Царникавском кладбище.
А Берзинь, которому людской толк приписал смертный грех, жил и наслаждался: у старшего рабочего был казенный участок земли, казенная квартира, хорошее стадо, куры и гуси; он купил землю в Задвинье и построил себе дом; и здоровье бог дал – первая жена умерла, он взял «экономку», и у той родилась дочка. Ида, так звали «экономку», незаконно поторговывала спиртным и тоже зарабатывала; потом попалась и предпочла сесть в тюрьму, чем платить высокий штраф. Берзинь поспешил жениться. Ида потеряла и деньги, и мужа, и «свой» кров. Отбыв наказание, она с дочкой Лилией поселилась в Тамаже, и – как говорили царникавцы – «с ней уже было не все ладно». И с новым браком у Берзиня было уже не совсем ладно – муж с женой жили как кошка с собакой, но правила всем жена.
Только в жажде наживы они великолепно понимали друг друга.
Ход жизни, причинная суть явлений, скрытая, угадываемая, ясно видимая. Наблюдая окружающих людей, я мысленно вновь и вновь возвращаюсь к тем, что были мне близки, но уже ушли. Мирдзины акварели, грустные стихи и мой отец, сильный человек, высокого роста, неутомимый в работе, с несгибаемой волей, а вот на тридцать девятом году жизни загадочно занемог, скинул переносимый груз, сам дошел до вызванной машины «скорой помощи» и через несколько дней умер в больнице. Не пил, не курил, вообще презирал пьянство. Я смотрю на его последнюю фотографию, которую мать вырвала из паспорта. Снимок сделан еще до моего рождения: отец во френче, после демобилизации, лицо чистое, мужественное, с резкими морщинами у рта, взгляд открытый. Он кажется куда старше, чем был в то время, но это не трусливая, увядшая, заплывшая жиром старость. Последние годы жизни. Порт заполняли корабли, у отца снова была работа, которой он и хотел заниматься. Была семья, сын и силы заработать хлеб. Некоторые сохранившиеся документы и заметки в записной книжке говорят о том, как деятельно работал он в профсоюзе портовых рабочих, который входил в так называемое Рижское профсоюзное бюро; это бюро вскорости сочли коммунистическим и ликвидировали. Я уже понял, что мой отец никогда не придавал значения названиям и вывескам, а считался только с тем, что счел благом сам.
Двоюродная сестра моей матери как-то сказала: «Твой отец был идейный».
Истинный смысл этой характеристики стал мне ясен после того, как в мои руки попал «Дон Кихот». Но насмешку она не вызвала. Я мог понять, почему настоящий человек всегда сторонится внешнего блеска, который так часто пленяет ум глупцов; для человека, который превыше всего ставил собственное достоинство и независимость, участь портового грузчика с угольной тачкой или мешком на плече была единственной возможностью жить так, как он считает правильным, и говорить именно то, что думаешь.
Жизнь, люди, чины. За каким дьяволом нужны хорошо оплачиваемые «первые люди», министры и генералы с их расфуфыренными супружницами?!
Через Блусукрогский лес от Риги пришла железная дорога: повалились стройные сосны, железные зубья хищно выдрали пни, содрали мох, чернозем. Желтый песок взгромоздился в насыпь – через Саутыньский луг, протоку, прибрежную равнину. Улетели соловьи, полегли черемуховые и ольховые заросли, запыхтел паровичок – звали его «самовар» – и потащил вереницу вагонеток с песком и шпалами. Это называлось цивилизация, это невозможно было сдержать, так же как шаги человека – одни обрываются, другие следуют дальше.
На берегах Гауи появились «чангалы» – так их называли местные жители и, по детскому неведению, я тоже. Они работали голые до пояса, бурые от загара, они пили, пели долгие протяжные песни, говорили на странном, но все же понятном для латышского уха языке, а иной раз дрались. И местные парни из-за девиц нередко устраивали на лоне природы турниры с применением кольев, но, видимо, грехи пришлых больше бросались в глаза. Против «чангалов» существовало предубеждение, уже одно название «чангалы» звучало как нечто оскорбительное. И все равно я с ними водился.
Один из них – Броня. Он купил «чистый клад, а не самокат», велосипед, за шестьдесят латов, со ступицей «Торпедо», где с одного боку была длинная ось. Я садился на багажник, ставя ноги на ось. Броня предупреждал: «Не наваливайся всем телом, ось можно сломать». Приезжали еще двое, один из них, кажется, Донат, и принимались обсуждать достоинства велосипедов и прочих вещей. Броня сетовал, что велосипед он купил с номером, а документа у него на это нет – на каждый велосипед полиция давала свой номер и удостоверение. Броню пугал страж порядка Рутынь. Дело в том, что недавно Донат имел от Рутыня крупные неприятности. Перейдя к новому хозяину, Донат получил от старого все заработанное полностью, в жизни у него такой «деньги» не бывало в руках; желание купить, чего душа пожелает, и еще сам черт, наверное, навели его на некоего пройдоху, который брался обеспечить любого состоятельного человека чем угодно, хоть дальнобойным орудием. Донат мечтал только о нагане, и купил его задешево, в придачу получил еще резиновую дубинку. «Ты знаешь, совсем себя по-другому чувствуешь, когда у тебя такое в кармане!» – хвастал он, – разумеется, только в кругу ближайших друзей, хорошо понимая, что можно и чего нельзя. В субботний вечер медные глотки труб в парке имения оповестили о начале гулянья с танцами: Донат помчался туда, выпил «чуть не весь буфет», и тут на него напало желание ратоборствовать. Дубинка сама собой выскочила из-за пазухи, а наган из кармана. Донат сунул дуло под нос какому-то «чуле» (так в свою очередь «чангалы» звали латышей, живущих к западу от них), тот, позеленев от страха, вскинул руки вверх. Шутки ради, Донат огрел его дубинкой, потом направился к другому, чтобы пошутить и здесь. Только начал шутить с третьим, – появился Рутынь. Непонятно, что произошло, но у Доната сразу дух перехватило и в глазах потемнело: отнятой дубинкой Рутынь так пошел его чехвостить, что только кости затрещали. Осыпаемый ударами, Донат умчался оттуда, всю прошлую неделю ходил сине-зеленый, будто через молотилку пропущенный. А вчера Рутынь, проезжая мимо, крикнул, чтобы он зашел в имение за своим револьвером и дубинкой. Езус-Мария! Что делать? Терять дорогое приобретение неохота, а разрешения на оружие у него нет. Идти к Рутыню опасно – опять схлопочешь по шее; не идти еще опаснее – сам к тебе придет и отведет в каталажку.
Третий латгалец советовал Донату пойти к судье, искать правды.
– Где это написано, что полицейский смеет бить человека ни за что? Ты же с ним не шутил.
Но Броня судьям не доверял, судья всегда Рутыня оправдает.
– Полицейский самого господа бога отчихвостит и все одно в святых останется.
В моей голове сразу же закрутились мысли: как это может быть, чтобы полицейский чехвостил бога дубинкой – ну, хотя бы за то, что он очень уж нерадивый бог, ничего не делает, только норовит другую щеку подставить. Но бог чувствует, что с ним поступили несправедливо, и идет к судье (судью я видел таким – в длинной пурпурной мантии, вокруг головы сияние и пышные торчащие усы, как у материного дяди Рейнгольда) жаловаться на полицейского. Судья спрашивает: «А что ты за всемогущий, если сотворил полицейского и дубинку и не можешь на них управы найти? Жулик ты и обманщик! На вот тебе шесть суток!» – и Рутынь хватает его за бороду, всыпает еще и тащит за решетку. Что такое «сутки», я не знал, только слышал это слово от Брони, и в слове этом было что-то зловещее.
А если к судье явится Грантскалн?
Вот он – некоронованный король Царникавы: жирное лицо под круглым котелком, точно сошел с листка календаря, где в сатирическом виде изображали глупых банкиров, жестоких предпринимателей, международных аферистов, вообще гнусных и нехороших личностей. Маска жулика была залеплена комом жира. Ему принадлежали большая усадьба Саутыни, недавно выстроенная Селга с современным магазином, дома в Риге, он был главным человеком в рыболовецком обществе, столпы которого ловили только деньги, а рыбу ловить доверяли наемным работникам. Грантскалн был депутат сейма – один из лидеров крестьянского союза, ко всему отцом-благодетелем военного министра-царникавца.
Для людей, которые работали в Саутынях, депутат не был отцом-благодетелем, небесной манной он их не кормил: соленая салака, картошка в мундире, снятое молоко, довольно скудная еда, другие хозяева так не скупились. Рабочие как-то посчитали ежедневную норму салаки и картошки, смерили молоко: на нос выходило три салаки и две картофелины (может быть, наоборот – две салаки и три картофелины, сейчас уже не помню) и неполная чашка молока.
Такой диетой ни один царникавец не соблазнялся, и саутыньскому барону не оставалось ничего иного, как искать рабочие руки в дальних местах, в той же Латгалии, где хозяйства были мелкие, люди бедные, семьи большие и без заработков на стороне не проживешь. Но тут оказалось, что католики-«чангалы» не менее прожорливы, чем лютеране – «чули». Они бунтовали, скандалили с хозяином и в самую горячую пору ухитрялись найти дорогу к бесплатному адвокату социал-демократической партии, а потом к мировому судье, по любому поводу. Судье в таких случаях приходилось изворачиваться – закон, он закон, но и депутат правительственной партии – это все-таки депутат.
Как-то в шикарном магазине в Селге я увидел сохлого старичка в убогой одежде – тяжело дыша, он тащил с грузовика мешок с мукой, видно было, что работа ему не под силу. Отец депутата. Сын отвел ему какой-то угол в Саутынях и раз в день давал собачью болтушку. А на щепотку табаку надо было зарабатывать. «Как это люди ставят такого человека депутатом?» – удивлялся я. Мать моя не удивлялась, а отрешенно отмахивалась: «Все они жулики» – и голос свой отдавала за социал-демократов.
Жрец Маммоны! Ей-богу, этот человек был для меня загадкой и остался загадкой, наверное, потому, что я уже сумел прогрызться сквозь гору книг и где-то в себе создал идеализированное представление о жизни и людях. Где же его тоска по чистоте и красоте, которыми дышат летнее утро, цветы кувшинки, облачный пушок в небесной выси, девичья улыбка, трепетание ветра в вершинах деревьев и все, все остальное?! Как человек может жить, не оценивая своих трудов и себя самого, как его может не сжигать стыд за гнусность, которую он рассевает в мире?
У Брони был этот «клад, а не самокат», целое сокровище для бедного латгальского парня; было доброе сердце, которое заставляло его безо всяких сажать меня на багажник. Презрительное прозвище «чангал» звучало как клеймо. Я начал понимать, что мещанин все норовит опорочить, а человек все старается уразуметь. «Вы с Донатом между собой говорите так, что трудно понять», – как-то заметил я. «Так говорят в нашей стороне», – объяснил Броня, еще он рассказывал о постах, о конных бегах в Латгалии, о распятиях вдоль дорог. И он и Донат, несмотря на их желание «пошутить», были в общем-то славные парни; они вкладывали свои песни, свои мускулы, свой пот в песчаную насыпь, которая засыпала луговые цветы, соловьиные трели, их молодость. Я перестал «чангалить», как только узнал оскорбительный смысл этого слова, – парни эти во многом были сходны с парнями моего родного города, в них не было жадной обособленности мужика-однодворца, такие же работяги-пролетарии, у которых только и было что две руки и сноровка браться за любую работу; они познались с горечью жизни с первых детских дней и хорошо были знакомы с дружеским доверием.

…Когда я с жаром рассказывал о Квентине Дорварде, Жанис сказал:
– Я тоже француз.
– Француз?!
Какое-то время я глупо смотрел, как он возится со своим «револьвером», пока не нашел что сказать:
– Как же ты попал в Латвию?
– Я участвовал в войне, и мне дали латвийское подданство, – объяснил Жанис.
Он воевал! С пробочным пугачом? Настала пора, когда я уже не верил взрослым на слово, хотя и оставался большим простаком. Я бы меньше усомнился, если бы Жанис сказал, что он участвовал в штурме Льежа бок о бок с Квентином Дорвардом, с прославленным рыцарем Дюнуа. Это я воспринял бы как смелый образ, как игру, где яркое воображение вплетено в ткань подлинной жизни; а тут почувствовал только ложь, с помощью которой этот свистун хотел представить себя настоящим мужчиной. Ну уж нет. Я прямо сказал: «Ты врешь». А он ответил: «Ты дурак». В глубине души я опасался, что оскорбленный Жанис потребует назад книгу, но он этого не сделал.
Теперь в Царникаве были «чангалы», а среди них несколько русских «староверов», был один «француз», одна еврейская семья, одна семья прибалтийских немцев (летом), а потом вдруг явились настоящие немцы из далекой Германии. Сначала прибыли сухие, поджарые, стройные инженеры, они поселились в Белом доме; техникам, чином пониже (видимо, кессонщикам), отвели помещение в Конюшенном доме. Прошлым летом здесь жили рабочие, производившие ремонт в имении; они отправились куда-то дальше, только Меллаусис на вечные времена остался на прицерковном погосте. Я чуть ли не с ненавистью смотрел на техников – все такие шумные, самоуверенные. Они как будто вторглись в мою память о покойном друге – а Меллаусис действительно был мне другом, и я никому не позволил бы в этом усомниться. Я посмотрел, как они устраиваются, и побежал рассказать матери. Та посоветовала: «Запомни какое-нибудь слово, которое они говорят, и я скажу тебе, что это за язык». Но я не смог ничего уловить. Эти грузные люди все с тем же шумом и сноровкой вышвыривали за окно накопившийся мусор. Наконец я принес матери слово «фенстер» и услышал заключение: «Немцы».
Инженеры мне почему-то внушали опасение – очень уж тощие; а техники, те слишком уж грузные, – разумеется, я не думал, что одни из них только еще мечтают, как бы съесть парочку здешних туземных детей, а другие уже полакомились. Я легко подружился с латгальскими парнями, от которых местные так сторонились, подружился потому, что мог с ними сговориться и не признавал предрассудков, но именно различие в языках вызывало предубеждение против «технарей».
Спустя несколько дней я заметил под окнами техников тусклый никелевый кружок – это же монета в двадцать сантимов! Большие деньги. Я знал, что на них можно купить две жирные шотландские селедки, или килограмм ржаной муки, или монпансье (по-нашему «кисленькие»), столько, что хватит сосать до вечера. Пока я стоял и думал, появился один из техников. Я остановил его и протянул монету, объяснил, что честно поднял ее и считаю его собственностью: во-первых, она лежала под их окном, во-вторых, у всех остальных обитателей Конюшенного дома кошельки не дырявые, в общем-то пустоватые – и монетами они не раскидываются. Как бы грозно ни выглядел этот толстый техник, меня он выслушал терпеливо, но деньги не взял, а полез в карман и достал еще двадцать сантимов. Теперь говорил он, а я слушал. Я сказал «битте», единственное ненецкое слово, значение которого я знал, и техник сказал «битте» и, кажется, хотел вручить эти двадцать сантимов мне. Я покачал головой, что этот номер не пройдет. Какое-то время мы одаряли друг друга «битте», потом разошлись каждый в свою сторону, каждый со своим никелевым кружком; я свой в конце концов положил на подоконник техникам – если в это дело вмешается Рутынь, я могу сказать, что я безупречен.
Техники сантимов не считали. Германские мостостроители швыряли из обоих окон станиоль от шоколада, лезвия «Сатурн», разноцветные картонки, коробки из-под сигар, медные деньги. Но мы не изумлялись, глядя на них, как (я знал это по книгам и газетам) негритята изумляются, глядя на белых чиновников и офицеров, хотя бы уже потому, что мы были черными в одном только смысле – ходили часто измазюканные (про меня и мою сестру и этого нельзя было сказать, потому что у нас была чистоплотная и строгая мать). Вот только заработки техников казались мне сказочными. Одна коробка сигар с прозрачной крышкой стоила два лата, а помещались в ней всего две сигары. Лат штука! Три года назад я был свидетелем одного эпизода, связанного с сигарами. Как-то собрались местные «миножьи князьки» – доподлинные тузы, потому что в нашем столетии человека оценивают не по голубой крови, а по кошельку. А у всех у них были тугие бумажники и огромное самоуважение. Они не ходили в бархатных кафтанах, в куньих шубах, лакированных сапогах, не умащали свою плоть благовониями: облачены они были в шерстяные фуфайки, застегивающиеся на брюхе, на груди и на плечах; самотканая «одёжа», юфтевые сапоги на толстенной подошве, благоухали они ворванью и потом, густая щетина на щеках и подбородке. «Красная головка» – бутылки со спиртом тут же полетели из карманов, тяжелые кулачищи забухали по столу, а синие рыбацкие – пьющие носы обратились только в одну сторону, в сторону «красной головки». Это было не у моего деда, потому что у деда было электричество, нет, там горела керосиновая лампа. Я, как обычно в таких случаях, держался поодаль и, разумеется, наблюдал за всем происходящим. Один из них побывал в Риге, привез большущий ящик с толстенными сигарами. Я еще ничего не знал ни про «Гавану», ни про «Вирджинию», видел только большую картонную коробку, толстые сигары с золотыми поясками, слышал, как владелец велел остальным бросить обычный «Спорт» и подымить сигарой. Каждого, кто откликался на предложение, владелец вместе с сигарой оделял словами:
– Это курево стоит лат штука.
И тут свой «характер» проявил другой «миножий князек», у которого тоже был истинно латышский нрав, который ни за что не хочет отстать от другого; этот вытащил бумажку в десять латов, сложил ее вдоль, зажег от лампы и поднес хвастуну:
– А этот серник стоит десять латов штука!
Такова была латышская знать – во всем отличная от поджарых, точно накрахмаленных, немецких инженеров. Изо дня в день инженеры шагали из имения к строящемуся мосту, и изо дня в день на локте каждого из них висела его «фрау». «Будто проволокой привязанные», – сказал кто-то, восхищаясь этой немецкой выдержкой. Мне же казалось, будто их вообще сдерживает какая-то проволока. Движутся, будто часовой маятник или другого рода механизм. Сдвоенный маятник…
«Неужто там, в Германии, – размышлял я, – все сплошь ходят вот так под ручку с женой или дочерью?»
Зимой, первой школьной зимой, я очень много читал и очень мало занимался домашними заданиями. У меня создалось некоторое представление о мире, в который я явился неполных восемь лет назад. Я знал, что Латвия небольшая страна, без ощутимого политического веса и вооруженных сил, но здесь был мой дом, моя родина, здесь жил народ, говорящий со мной на одном языке. И тысячи незримых нитей в виде книг связывали меня с широким миром – с различными народами и языками: маленькие японцы пекли рисовые лепешки, маленькие эскимосы ели сырую рыбу, американцы – почти одни консервы, чукчи верили шаманам, французы занимались винодельчеством и революциями, итальянцы обожали макароны, называемые «спагетти», у русских был пятилетний план, самая большая в Европе река Волга, грустные волжские песни и знаменитый балет, у эстонцев – горючий камень сланцы и сходная с латышами судьба… И были еще другие народы, и обо всех я все время что-то узнавал и хотел узнать еще больше.
Май стоял солнечный, теплый. Последний школьный день – слава богу, теперь никто не помешает мне читать книги обо всем на свете, не помешает знакомиться с окружающим миром. Я наотмашь зашвырнул сумку, в которой лежали на редкость скучные учебники и исписанные моим корявым почерком, испещренные кляксами и замусоленные тетради, – а вдруг до будущей осени все это пойдет прахом вместе с никому не нужной школой!
Я побежал под мост через протоку и ловко ухватил в горсть зелено-красную колюшку вместе с водой и илом. Золотая рыбка, чудесница моя, – плыви, плыви! Я сяду тебе на спину, упрусь ногами в шипы, как в ступицу «Торпедо», и мы поплывем, поплывем по всем морям! Айсберги с пингвинами, гибралтарская скала с пушечными стволами, пролив Магеллана, Огненная Земля – плыви, рыбка, плыви! Огнедышащая Мауна-Кеа, клуб ее дыма на горизонте – неси меня, рыбка, к коралловому острову! Теплая-претеплая вода, каменистый пляж, сверкание жемчуга, морские звезды и синее небо, изумительное небо – синее-синее! Я дрожал от восторга – в прибрежных зарослях надрывались хоры соловьев. Солнце – над коралловым островом, над золотой рыбкой, надо мной, над соловьиной песнью. Миг, когда я уже был не я, а весь этот мир: прозрачная бесконечность, огненный круг, песенное половодье, пестрящий цветами луг, зеленая чаща, игра лучей над спокойной заводью…
За закольским загоном лежали две брошенные моторки, которые до открытия автобусного сообщения поддерживали связь между обжарочной на берегу Гауи со столицей на берегу Даугавы. Старая лодка была уже совсем в печальном состоянии, утонув в буйной зелени. С той, что поновее, был только снят мотор, а так лодка как лодка: железный руль, капитанская каюта (будочка при моторе), задранный кверху нос. Только поставить пушки, поднять флаг и отправиться в плавание. За чем же дело стало: я набил папиросами маленькую коробочку из-под «Риги» (что же это за мореход без табака!), в карман бутылку рома (а без рома?!), шестистрельный пистолет (собственноручно вырезанный), патроны (ольховые шишки), бинокль (увеличительное стекло от карманного фонарика) и с огромным самообладанием в мужественном голосе отдал команду:
– Господа! Под моим водительством мы одержим блистательную победу!
Я поднял бинокль к глазам и заметил по бакборту вымпела королевского флота – голубые, розовые, оранжево-золотистые, салатные, они кичливо, вызывающе реяли по ветру, точно символы высокомерного владычества, не признающего нужды, голода, Двора отбросов и Нищего чердака. «Эй, поднимите наш черный флаг, пусть эти барончики в шелковых портках поймут, что их ждет. Зарядить пушки!» – «Да здравствует король!» – «Плевали мы на всех королей! За свободу! Наша свобода придаст нашему оружию силу. Огонь по баронам, за свободу! Кому нужны эти расфуфыренные вельможи, да и эти серые вельможи? Да здравствует свобода! Свобода будет только тогда, когда никто не посмеет гнать меня в школу и ставить двойки. Зарядить пушки! Огонь по угнетателям!»








