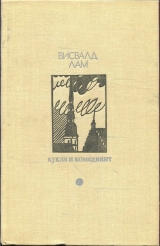
Текст книги "Одну лишь каплю даруй, источник"
Автор книги: Висвалд Лам
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Какой-то будет Царникавская школа, настоящая школа?
«Вот я вырасту и стану…» Нет, нет, не пахарем. Я видел Казимира за плугом, эта неинтересная работа не по мне. «А не стать ли мореходом?» Любому понравится! Косые потолки чердачной комнаты сразу исчезают, перед моими глазами волшебно высокий свод, такой чистый, синий-синий, невиданный… И теплое море, коралловое море, волны колышутся, с зеленоватым отливом, в белой пене, острова со стройными пальмами, яркие цветы, среди которых поют и танцуют шоколадной красоты девушки. Буду моряком! На это у меня имеется, так сказать, моральное право – мать из рода знаменитейшего в Латвии моряка. Двоюродный брат дедушки капитан дальнего плавания Альфред Киршфельд считался лучшим навигатором в Латвии – недавно он получил золотой венок за сотый переход Атлантического океана. И материны дядья и кузены – капитаны, но уже не такие прославленные – такой мог быть только один. И другие материны родичи, с другими фамилиями, судовые механики, штурманы, матросы – моряки, моряки. Чего только они не повидали, где только не побывали, чего не переживали! В Атлантике столкнулись с огромным морским змеем, который вот уже столетия является сказкой и пугалом моряков всех народов, в Порт-оф-Спейне разгромили «под чистую» кабак, в Тель-Авиве «разживались апельсинами» в цитрусовых рощах, в Бискайском заливе чуть не пошли на дно, а там, где Берег Слоновой Кости, без малого не изжарились. Где-то на берегах реки Святого Лаврентия курили трубку мира с краснокожими, где-то в Девисовом проливе взяли на борт эскимосов – женщины уж такие пахучие были! Они рассказывали, что устья Амазонки даже увидеть нельзя – такое оно широкое, а Суэцкий канал такой извилистый, что встречный корабль издали кажется идущим по песчаной пустыне. Хватает у них рассказов и о недалеких английских угольных портах и французской стороне, где вино пьют как воду, а все девушки красивые, одни красотки. Да, моряки!
«Конным воином лихим»? Гм… уж воевать так воевать, только вот верхом мне не нравится. Кони эти кусаются, лягаются, копытом землю роют, иной раз понесут, а другой раз вдруг упрутся и стоят, и всаднику и тем, кого лошадь везет, приходится терпеливо ждать, пока это животное не справит нужду. То ли дело железный конь – его не надо особо кормить, ходить за ним, он полностью послушен воле человека. Рванул рукоятку – трах! – и пошла; если у тебя сильная рука и надежный глазомер, то нечего бояться, что мотор поскачет через канавы или вдруг из него повалятся «яблоки». Еще лучше в самолете – поверх всех этих дорог и канав. Правда, в газетах часто пишут про летчиков, что они бьются, но ведь разбиваются на автомобилях и на лошадях, даже на велосипедах, и, в конце концов, почему это именно я должен разбиться?

Стало быть, дело только за школой?
А какая же в Царникаве школа?
Длинное-длинное, на высоком кирпичном фундаменте и все равно приземистое, припало к земле это бревенчатое сооружение. Расползающаяся, почернелая дубовая крыша, окошки о шести стеклах, две чердачные комнаты – одну занимает учительница, в другой спальня девочек. Вот такой была Адажская школа первой ступени в Царникаве. Светлый дворец. На холме церковь, у подножия школа. Дорога огибала кладбищенский склон и приводила к школе. Три комнаты заведующего, кухня с плитой для заведующего, с плитой для школьников – для тех, кому приходится здесь ночевать, столярная мастерская, по замыслу – класс ручного труда, и два классных помещения: в одном занимались подготовительный и первый класс, а второй, третий и четвертый классы – в несколько меньшем. Всего было около сорока учащихся.
В ненастное время дождевые капли весело стучали по полу. Были там черные большие доски и цветная географическая карта – я был удивлен, что школа такая пустая, бедная. Был заведующий, настоящий мужчина: с фельдфебельским лицом, щеточка под носом, как у Гитлера, который в то время еще не был ни канцлером, ни фюрером, ни даже политиком, с которым кто-то считался, так, просто дерьмо собачье; заведующий был при крахмальной манишке и черном галстуке бабочкой; заведующему принадлежало целое стадо, пасека, лошадь для обработки земли, – вероятно, в душе этот настоящий мужчина был больше «народным хозяином», чем народным учителем. Школа, школа… Похоже, что в этом старомодном строении материализовалась вся история латышской народной школы: постоянный надзор священника, целование рук и «Бой у Книпски»[1]1
Рассказ Я. Порука из жизни старой латышской школы.
[Закрыть], сказки поздним вечером, розги. Но нас вместо священнослужителя посещал инспектор, целование руки было отменено, катехизис, по требованию родителей, можно не учить, не разрешается применять розги, и этот старого замеса заведующий мужественно сдерживался, разве что потрясет согрешившего и пообещает вздуть. Но уж на уроках пения мера его переполнялась, и смычок заведующего больно тюкал того, кто не мог «держать голос». Мне сколько раз доводилось отведать его.
«Земледел отеческий…» Нет, я не испытывал желания после школы пахать землю. Машина – да, лошадь – нет. Даже если мне дадут центр имения или равную имению усадьбу, например Вилкатирели (как в книге Пурапуке). Не надо! Всю жизнь этот Зелменис, точно крот, рылся в своем углу, на своем лоскутке, чтобы потом лечь в яму на орешниковом холме и оставить это «счастье» своим внукам-правнукам. Не надо! Вот ведь совсем по-иному смотрел на это лорд из рассказа Гарольда Элдгаста. Из сословия земледельцев, а поднимался на самолете выше туч, разбивался черт знает как и наконец-таки разбился. И уж бросили-то его не в яму к червям, а в пламя, чтобы потом – под залпы английских крейсеров у скал Нордкапа – утопить пепел в водах полярного моря. Жажда просторов, простор и жажда. Так с вечеринки на вечеринку, от кружки к кружке бродили вдоль видземского взморья мой дед с его отцом, музыкантами, по всем эстонским и латышским простонародным свадьбам: вдохновенно рвали струны, одерживали верх над батареями бутылок, закруживали девиц. Они томились жаждой. Младшие братья ходили в постолах, бились впроголодь, но осилили мореходную школу, а потом чужеземным коньяком возмещали возвышенное воздержание молодости; эти скоро вошли во вкус обеспеченного преуспеяния, женились на немках и отращивали животики. Одаренный, но без большого душевного горения, без сильных чувств и жизненного упорства – вот какой был этот род.
Помощницей учителя работала приветливая и милая барышня. Она даже отчитывала без злости. С первых же дней она расхваливала мое умение читать, только заметила, чтобы я не торопился, а старался отчетливее выговаривать слова; очень внимательно оценивала написанное мной, хотя буквы у меня были корявые, и в счете я был признан весьма преуспевающим. Ее оценка повлияла на решение заведующего: меня тут же вместе с сестрой, которая была на год старше, приняли в первый класс.
И вот я сижу за партой в первом классе (большой разницы нет – длинная парта, на восемь человек, за которой примостились и «приготовишки» и первоклассники) и уношусь через годы сначала к дедовским музыкальным странствиям, потом на корабль, где я буду капитаном. Дед пилит на своей скрипке: эстонская свадьба, пришли на нее повеселиться и черти, понимаете, черти – в виде блистательных, с золотыми погонами прапорщиков, скачут, так что только шпоры звенят, кидают на стол серебряные полтинники, кричат: «Польку, музыкант, польку!» Уже и струн не хватает, но и черти уплясались – трах! бах! – валятся на пол, а через них, развевая юбками, прыгают эстонки. Капитан приказывает кинуть якорь на Айнажском рейде и в честь музыкантов выпалить из всех пушек. Только дым клубится – бах! – флаг полощется по ветру…
– Ты что, оглох, чурбан? – дикий вопль прямо мне в ухо, сильная рука вздергивает меня вверх. – Отвечай!
Это же заведующий, ей-богу, заведующий. Да где же я? В школе, ей-богу, в школе. Чертей больше нет, только чертовски злой учитель.
– Ты глухой или ходишь в школу отсыпаться?
– Я… я… не слышал.
– Сколько будет, если к семи прибавить шесть?
– Тринадцать.
Красные от злости глазные яблоки, сверлящие зрачки. Но рука все же выпускает мой воротник, злость как будто спадает.
– А к восьми прибавить пять?
– Тринадцать.
– Теперь ты слышишь?
– Да…
– Попробуй только еще раз не услышать!
Ученые в области медицины, наверное, высоко бы оценили мои адаптационные способности – вероятно, произошла какая-то мобилизация «дежурных нервных групп», потому что, когда заведующий (не учительница) впредь произносил мое имя, я вскакивал как на пружинке.
Удивительное число это тринадцать. Почему его люди боятся? И как чудно выглядят цифры. У крейсеров спереди броневая башня с двумя орудиями, верхняя башня тоже с двумя, и на корме тоже, всего, выходит, восемь тяжелых орудий. Да к ним еще прибавить бортовые пушки. Вот бы поглядеть, как они дадут залп, – скалы Норвегии отбрасывают эхо, трясется снежный покров на горных вершинах, но воды фьордов остаются спокойными. Тринадцать пушек никак не получается. Берген стоит у фьорда, это центр рыбной торговли, а Гаммерфест среди северных скал. Там ревет буря, свистит метель, летают чайки и альбатросы, ходит косяком сельдь. Норвежские суда под белыми парусами – и могучее море. Серое, угрюмое, сплошное кипение. Дым от залпов клубится поверх гребней волн, тяжелые стволы по шесть метров длины…
Я вскакиваю. Я не слышал, как меня окликают, до сознания это еще не дошло, предупредила «дежурная нервная группа». Точно пробудившись от глубокого сна, я глупо хлопаю глазами и сквозь туман растерянности ясно слышу голос заведующего:
– Ну, сколько?
Он же пригрозил: «Попробуй только еще раз не услышать!» – и я говорю:
– Шесть.
Оба класса – подготовительный и первый – ржут: результат, то есть сумма, у меня получился меньше одного из слагаемых. Той «высшей математики», по которой часть может быть больше целого, в то время не признал бы даже Эйнштейн, не то что этот «крепкий хозяйчик» заведующий.
– Садись, остолоп! – взревел он, я радостно выполнил приказание и тут же уплыл далеко-далеко от этой жалкой лачуги.
…В школу надобно идти…
Сестра заболела, и несколько дней по осенней дороге ходил я один. Когда мы идем с сестрой, то всегда встречаем тамажских ребят: или они заметят нас на шоссе и подождут, а мы ускоряем шаг, или наоборот. Сестра общительный человек. А теперь вот я хожу один, и никогда не подвертываются попутчики – я стараюсь от них отделаться.
Идти весело. По белой щебенчатой дороге – «эрзацному шоссе» – я иду быстро. Там все такое скучное, однотонное. Сворачивая вправо, это шоссе сливается с шоссе Рига – Саулкрасты, я же ухожу по старой дороге берегом Гауи. Липы уже скинули листву, пронзительно воет лесопилка Лидика. Резкий вскрик – то ли дереву больно, то ли всему туманному утру; голые, мокрые почернелые ветви роняют тяжелые капли. Голые и толстые, трухлявые внутри ивы и ольха, но их наготу скрывает дымка тумана – он сгущается, уплотняется, клубится на моем пути. Я напеваю песенку. На душе как-то странно, но я ничуть не удручен, сквозь грусть пробивается свет – свет надежды, что-то такое брезжит, будто за валами тумана ясное небо, какая-то радость, предвещание каких-то моих чаяний, хоть я и не научен этому слову. Мир начинается на берегу Гауи. Река струится под туманом быстро-быстро. Старица молчаливая и темная. Черный асфальт; деревянный мост через Гаую. Узкая пешеходная полоска, от медленно едущей машины гудит дощатый настил. Гауя где-то глубоко-глубоко… Под мостом струится только туман, призрачный туман, может быть, наполненная призраками ладья. Вода тяжелотяжело вздыхает у бортов ладьи, тяжелый груз, тяжелое дыханье, тяжелая жизнь, тяжелое небытие, тяжел уход в него. Воды Гауи, глубокие-глубокие… тяжелые-тяжелые… В тумане призрачно проглядывают кладбищенские гранитные и чугунные кресты – тяжелые-тяжелые. Вокруг кладбища сосны, а на самом кладбище лиственные деревья: они питаются тлением, они голые, они сгорбились в тумане – тяжелые-тяжелые. Ноги мои следуют мимо ворот с красными кирпичными столбами, тяжело-тяжело. Меня ждет школа – припавшая к холму, почернелая, тяжелая-тяжелая. Потолок в классе давит.
– Сколько?!
Я рывком вскакиваю. «Сколько?» Я уже усвоил, что итог должен быть двузначный. Говорю наобум. На сей раз смеются только те, кто точно знает ответ. Слепой курице порой доводится наткнуться на ячменное зерно, но мне в игру со счастьем никогда не везло. Заведующий, «взъевшись», все чаще вздергивает меня, я все чаще отвечаю невпопад. Старому – еще царских времен – учителю надоедает это.
– Да ты соображаешь что-нибудь в счете?
– Нет, – отвечаю я; я мог бы сказать и «да», но получилось почему-то «нет».
– Покажи твои тетради!
Он просмотрел все, даже по латышскому языку – основательный человек: перед тем как «принять решение», хотел «тщательно ознакомиться с материалами по делу». А у меня все делалось кое-как и с ошибками, по принципу «лишь бы поскорей с шеи свалить».
– Экий ты балбес! – презрительно вынес оценку заведующий и перевел меня обратно в подготовительный класс.
В школу надо бы идти…
Уже темно, свежий, бодрящий ноябрьский вечер. Поздно. Легко одетый, я выбегаю на поляну, где мы днем играли в салки. Холодно, снега еще нет. Небо черное как уголь, высокое, изогнутое, усеянное звездами. Млечный Путь как пояс, нет, как светлое шоссе через звездные дали к недостижимой вечности. Зябкая дрожь пробегает по мне, со мной что-то случилось, что-то приподнимает, делает могущественным. Я беру трепетное излучение звезд и, точно золотые струны – тонкие-тонкие струны, даже тоньше, чем волосы у ангела на рождественской елке, натягиваю эти струны на излучину Млечного Пути, настраиваю… Звучит мелодия, искрящиеся вспышки мелькают по небосводу, трепещет вся зыбкая тьма и отбрасывает отголосок в вечность, поверх вечности.
На тот миг, когда я затаил дыхание, были только удары моего сердца и эта изумительная, волшебная мелодия. Сломался драчливый смычок заведующего, улетучились все «до, ре, ми», звучала вселенная, звучала душа. Жаркое половодье окатывало мое лицо, стекая с подбородка на блузу. Я вскинул руки, словно охватывая что-то. Но руки опали. Ничего нельзя было обрести, совершенно ничего…
Единую каплю из источника.
«Зимушка, зимушка, милая матушка…» Но в Царникаве зима скорей напоминала сурового дядюшку – вроде заведующего школой, с морозно белой, накрахмаленной манишкой, с коротким ежиком волос и строгим лицом, с вечным посулом «задать взбучку». И «задавала» эта зима – будто белыми сыромятными плетями била через дюны, по руслу Гауи, по отмелям, по ольховым джунглям, заколам и птичьему щебету: заставляя все цепенеть, заточая все в сугробы, заставляя все заглохнуть. Один только ветер выл в этом ледяном саду, сковывающем оконные стекла. Но мне не холодно, не то что в чердачной комнате Конюшенного дома. Классное помещение тепло натоплено, над моей головой щедро льет яркий свет подвешенная под потолком керосиновая лампа. Остальные или толпятся в кухне, или в спальной комнате наверху. Я нарочно выбрал пустой класс. Я читаю о похождениях Тома Сойера. Входит учительница, приветливо улыбается, потом вдруг хмурится. Только что после обеда она дала мне эту книгу и теперь видит, что я уже перевалил за половину; ясно, что, как нынче говорят, пропускает «тягомотину», в то время говорили – «душеспасительное». Я виновато признаюсь, что задания на завтра не приготовлены – но как-нибудь выпутаюсь, авось заведующий не вызовет, а если вызовет, то пусть побранится.
Но учительница говорит о совсем ином:
– Нехорошо, что ты читаешь книгу с середины, надо с самого начала.
– Я с первой страницы начал.
Я все не понимаю, о чем она.
Лицо у учительницы делается такое же, как у заведующего, когда он сказал: «Экий ты балбес» – и перевел меня в подготовительный класс.
– Значит, ты не читаешь, а листаешь страницы. Так ты никогда не научишься читать, ничего не запомнишь.
Вместо ответа я пересказываю содержание книги, выделяю особо яркие абзацы и выражения. Я загораюсь и начинаю говорить все быстрее, учительнице трудно улавливать мои слова, но презрение на ее лице сменяется каким-то недоверием.
– Ты первый раз читаешь эту книгу?
Ей-богу, первый раз. Правда, добавляю я, интересные читаю по нескольку раз. Это какие же? Я называю кое-какие, в том числе унаследованные от Мирзды учебники по истории и географии. Выражение лица учительницы становится совсем непонятным. Наказав, что я должен хорошо готовить задания, она уходит.
Разумеется, я читал дальше, не думая ни о каких заданиях. Чрезмерное старание до добра не доводит… И получилось очень даже хорошо – на другой день заведующий куда-то уехал и всю школу согнали в один старший класс.
Урок истории. Вызванный мальчишка бекает-мекает, так и не может ничего толкового рассказать о редукции помещичьих имений при шведах. Я горжусь про себя – эх, вот бы учительница меня вызвала! Из развалин восстает Царникавское имение – Царникау, – в обитом белым шелком зале идет совещание держателей имения: белые пудреные парики, бархатные кафтаны, злые лица. Король в Стокгольме подверг сомнению их завоеванные предками, их священные права! Соль земли – бароны! Как они проезжают шестерней по усаженной липами дороге в имение – пыль клубится, сверкает лак карет, высокомерный взгляд скользит по согнувшимся в три погибели крепостным. Дворец высится тяжелыми стенами, колоннами и колоннадами, гранитными львами. А где-то в лесной излучине припали к земле крестьянские хижины с замшелыми соломенными крышами. Дым выходит в незастекленные оконца, тощая ржаная нива на месте недавней вырубки, но ярко цветут васильки, ночью из заросших рогозом топей доносится буханье выпи, С первыми петухами сиротка на мельне заставляет звенеть жернова и песню:
От господ одна работа,
Никакого отдыха.
Этого не слышат там – в имении, в пышном зале; там сверкает гладкий паркет, дамские шелка и бриллианты, ордена и мундиры, шпаги и вельможный гнев. Петр Великий прорубает окно в Европу – летят искры и обломки кирпича, в пробитый проем врывается гул волн, порыв ветра, донесшийся сюда дыханием морских далей. На воде тяжело колышутся транспортные шлюпки шведского королевского флота с солдатами Карла XII. Король первым выскакивает на песчаную мель и, бредя к берегу в клубах выстрелов, удивляется: «Что это за пчелы с таким страхом разжужжались вокруг?» Последний викинг! Он представляет историю рыцарским турниром, где все решает клинок. Мужицкие лачуги становятся добычей разорителей – зловещее пламя еженощно вместе с криками убиваемых детей и слезами замученных женщин вздымается к престолу всевышнего. Иисусе, спаси, где ты? Господи, твердыня наша и оплот! От Финского залива до берегов Даугавы проносится похвальба Шереметева: «В Лифляндии больше нечего грабить!» С мужиками не считаются власть имущие – дворяне в париках, рыцарственные и жестокосердные короли и цари.
Неожиданно я замечаю, что учительница следит за мной. Я краснею, съеживаюсь и утыкаюсь в свою тетрадь. Нет, если она и разрешит мне ответить, я все равно не смогу ничего сказать. Только осрамлюсь перед всеми.
Может быть, учительница сказала что-то заведующему? Он как-то опять проявил интерес к моим домашним работам, особенно к сочинениям на заданную тему.
– Это же поросячья мазня, а не буквы! – воскликнул он и, словно вынося окончательный приговор, заключил: – Ни темы никакой нет, ни сочинения.
Школьники и их родители в таких случаях винят поверхностный подход учителей, их бездушность и прочее. Но ради истины следует признать, что на месте заведующего я бы произнес то же самое. Мое письмо всегда было неразборчивым, а к сочинениям я всегда относился как к самому неприятному заданию.
Спустя двенадцать лет высказался и преподаватель гимназии. У него было обыкновение отпускать язвительные замечания об ученических сочинениях. Некоторых впечатлительных девиц он доводил этими замечаниями до слез. Обо мне он отозвался только однажды – в начале учебного года; взял мою тетрадь двумя пальцами, будто какую-то гадость, и сказал:
– А об этом и говорить не стоит! Ничего толкового не написал и никогда не напишет!
Святая истина. На заданную тему и по заданным указаниям я никогда не мог, да и не хотел писать.
В школе я ни с кем не дружил, хотя и держался чаще с сыном заведующего Айгаром. Вернее будет сказать, что Айгар держался подле меня, я как-то с этим свыкся, и наконец мы даже стали выглядеть приятелями. У Айгара был красивый перочинный нож, ручка которого напоминала блестящую рыбу, были даже коньки и еще много всякого, каждая вещь – подлинное сокровище, предмет вожделений любого мальчишки. У меня никогда ничего подобного не было, я мог только вздыхать об этом. Айгар был не жадный, давал подержать свои сокровища, нож разрешал открывать и закрывать, даже подарил золотое перо из трех имевшихся у него – перо действительно было золотого цвета, но когда оно заржавело, я усомнился в благородности металла. Айгар утверждал, что, наверное, только позолоченное, но все же большой ценности, потому что отец заплатил какую-то уйму латов.
Айгар учился в первом классе, вероятно, успешнее меня – в подготовительный его обратно не пересаживали, только как-то отец исключил из школы на две недели. Произошло это в начале второго года учения. Айгар все крутил у мальчишек перед носом золотыми и серебряными кирпичиками акварельных красок, мы впервые видели такое богатство, в наших коробочках ничего подобного не было; все восторгались, кое-кто осведомлялся, нельзя ли на следующем уроке рисования попользоваться Айгаровым богатством. Я совестился просить, видимо считая это зазорным, но Айгар сам предложил:
– Вместе будем красить!
Дежурный позвонил на урок. В этом году второклассники сидели в нашем помещении, но на уроки немецкого языка переходили в другой класс. Вошла учительница, но Айгар все еще хвастал своими изумительными красками и учительницу ничуть не слушал. Та терпеливо одернула хвастуна раз, другой, третий, наконец, рассердилась:
– Ты, Айгар, разболтался, как базарный торгаш.
Айгар довольно громко пробубнил:
– Сами вы базарная торговка.
Учительница вспыхнула и направила Айгара к отцу на «покаяние».
В классе Айгар больше не появился, и дальнейшего хода событий мы не видели, зато под вечер услышали страшные вопли – они доносились из задней комнаты квартиры заведующего и ничуть не напоминали обычный голос Айгара.
– Старикан престолонаследника дерет! – произнес Паюпов Эрнест, а я подумал, что иногда не так уж плохо, если нет отца, у которого такой суровый нрав и тяжелая рука. Но розги и строгость были хорошо знакомы и мне.
На другой день лил дикий дождь, дул холодный ветер, мы в классе долбили таблицу умножения, а Айгар через дорогу пас отцовское стадо, вид у него – промокший, нахохленный – был не особенно молодецкий.
– Привязали престолонаследника к коровьему хвосту, – вновь произнес Эрнест.
У учительницы было доброе сердце, она готова была простить: Айгар извинится – погорячился, сказал необдуманно. Но заведующий остался непреклонным: пусть учится охлаждать свою горячку и укорачивать длинный язык! В конце концов на уроках Айгар смог появляться, но все остальное время до позднего вечера пастушил, пока не миновали две недели наказания.
Да, строгонек заведующий, полагали царникавцы, но зато… Слышались и другие оценки, говорили, что все окончившие у него четыре класса потом учились в школе на пятерки, что у него в четвертом классе любой, у кого голова на плечах, уже мог разговаривать по-немецки, тогда как в других местах окончившие шесть классов только и знали, что «дер, ди, дас… ер, вир, вас».
Во время Айгаровой «ссылки» я часто подходил к осужденному, и он благодарно счел меня своим истинным другом. Я же скрыл, что прихожу только потому, что мне не нравится, как галдит большая орава. И в каком-то смысле был обязан Айгару. Первой же осенью он открыл мне тайну «большого скачка»… Не подумайте, что это было как-то связано с политикой, – наш большой скачок являлся искусством кувыркаться через перила балкона над главным входом в школу. Сначала это казалось мне невероятным цирковым трюком, но Айгар сумел мне втолковать:
– Сначала правой рукой держись за перила, падай головой вниз, пока не упрешься левой рукой в край балкона, потом резко перекидывай ноги через голову, отталкивайся левой рукой, в полете разворачивайся и опускайся за клумбой на дорожку. Совсем просто!

Я стал учиться «совсем просто» делать кульбиты в воздухе; сначала не повезло: загнал занозу в палец правой руки, располосовал левую ладонь, отбил зад, подвернул ногу и разворотил клумбу. Кое-как мы замаскировали следы падения, но кто-то все же наябедничал, заведующий тряс меня и кричал:
– А вот я тебя вздую, вот возьму и вздую!
Вскоре я кувыркался так прекрасно, что Айгару приятно было смотреть, а сам я испытывал счастье полета.
Потом во время зимних вечеров я испытал прелесть иного полета – это уже открыл я сам. Резкий разбег, оттолкнуться руками от края парты, ноги вперед – и через всю восьмиместную парту. Мы прыгали оба, так что класс дрожал, пока я не пострадал – вогнал в руку забытое кем-то чернильное перо. Не очень-то приятно, когда этакое копье глубоко воткнется тебе в мякоть ладони. Я закусил губу и вырвал перо, потом долго тряс рукой.
Боль притихла, мы бесновались дальше. Загрязненное, раненое место стало ныть, «тукать», покраснело. Даже во сне я это чувствовал. На другой день под мышкой появилась какая-то шишка, а ладонь так болела, что трудно было писать, пальцы одеревенели. И все больше мутило – есть не хотелось, знобило, даже желание читать куда-то делось. Я еле продержался вечер, ночью начались кошмары, я потел, временами кричал и только под утро немного забылся. Вставать не хотелось, но я взял себя в руки – если заведующий проведает, в чем дело, тут только держись!
Несколько дней я покряхтел, пока наконец опухоль не спала и не рассосалась.
И вновь мы бесились с Айгаром, – видимо, я был очень уж несдержанный, потому что свалилась новая беда. Мы играли в классе в салки, я хотел доказать, что Айгар меня не сможет догнать, и, порхая через скамьи, ударился бровью о край парты. В тот вечер еще как-то обошлось, но к утру глаз заплыл и стал нарывать. Заведующий уже не обещал задать взбучку, даже не ругался, а запряг лошадь, закутал меня в шубу (впервые в жизни такое счастье – тепло одетый) и повез в Адажи к врачу.
Ездить к врачу пришлось еще раз – он и сам боялся за глаз, но наконец опухоль спала, и остался только рубец на брови. Еще долгие годы потом врачи считали мое зрение превосходным.
А нас ведь и учили, что всевышний бережет каждое чадо, приглядывая за ним с небес.
Нередко заведующий во время утренней молитвы повторял слова Христа «Блаженны не видевшие – и уверовавшие».
Так, верно, оно и есть – бога никто не видел, а вот верят же в него. Так думал я, стоя у стола и хлебая суп. Заведующему я свои мысли не поверял – страшно, хотя и хотелось потолковать с таким умным человеком, который, может быть, еще умнее моего покойного друга Меллаусиса, чью неухоженную могилу осенние и летние дожди уже совсем сровняли, даже с дороги видно, когда идешь мимо кладбища. Нет, нет, Меллаусис много знал, одних языков вон сколько, а заведующий только русский и немецкий. Хорошо бы с ним побеседовать, но ведь заведующий – он заведующий, я ему даже пискнуть не посмею, что суп-то ужасно невкусный. Заведующий в таких делах шуток не признает, есть приказ, что посуда должна быть пустая, упаси бог того, кто принесет на кухню недоеденное. Я и мучаюсь – ем. Рядом мучается Эйдис; Эйдис довольно привередлив, я-то нет, разве что хлебный суп с изюмом в меня трудно впихнуть. Уроки кончились, можно бы и домой, да вот злосчастный суп – единственная помеха.
Вдруг Эйдис подталкивает меня:
– Эй, погляди, чтобы кто-нибудь не уволок мою миску, я схожу погляжу, не приехали ли за мной из дома. – И, добавив на ходу: – Скоро буду, – исчезает, чтобы уже не появиться.
– Ладно, – коротко ответил я и подивился про себя: «Вот чудак, нашел что беречь, скорей уж надо едока от такого супа оберегать». Потом домучил свою порцию; отодвинул пустую миску и удрученно поглядел на миску, оставленную Эйдисом. Надо бы идти, да он велел ждать. Что же делать?
Вдруг меня позвали к заведующему – он в коридоре; в другое время это приглашение было бы не особенно приятно, что хорошего можно ждать от такого строгого человека, а сейчас я с радостью кинулся от стола.
Заведующий на сей раз был грозен:
– Ишь ты, барчук какой выискался… Ковыряешься в миске!
Онемелый, обалделый, я смотрел на заведующего и ничего не мог понять.
– Привереда, неженка!..
– Я – я ничего…
– Молчи, паршивец! Вздуть бы тебя!
И, схватив меня за плечи, затряс так, что швы затрещали.
– Вздуть, вздуть!..
Я близко видел его исказившееся от злости лицо: подбородок, выбритый до синевы, губы сжаты, глаза красные, точно воспаленные. Я упирался ногами, но где удержаться в такую бурю… Уже когда все миновало, я на минуту прислонился в коридоре к стене. Какие-то девчонки захихикали: «Барич не хотел есть, привередничал!» А ведь они только что стояли у стола, не видели, натворил я что-нибудь или нет, и все же верили… Во что? В недоразумение, в легкомысленную жалобу, а может быть, и в гнусный оговор? При всей моей наивной склонности «сражаться за правду», в тот момент я был так пришиблен, унижен, оскорблен, что не хотел ни оправдываться, ни защищаться, даже Айну не стал ждать, только бы скорей из школы!.. Во рту горечь…
Я сглотнул эту горечь, забыл, вынужден был забыть и никогда больше не вспоминать эту историю, но против моей воли она часто всплывает из подсознания.
«Блаженны не видевшие – и уверовавшие».
Я хотел узнавать, а не легко верить, требовал, чтобы мне доказывали, а не принуждали и не заверяли. Мне хотелось мира, где бы сверкали противоречивые, но смелые, мудрые мысли, красота и жизнь.
Красота? Можно ли было считать ею бездушную «расфуфыренность» Белого дома: пестрая лепнина на стенах, что-то вроде торта, что-то вроде герба на уровне второго этажа с буквами ЭВМ, пыльные гравиевые дорожки и грядки с розами. Приезжали гости в лимузинах, появлялся сам президент государства Альберт Квиесис с супругой Минной. Как рассказывали, заметив высоких гостей, министерша сломя голову кинулась в розарий, нарезала цветов и поднесла президентше. Та вежливо попеняла ей: «Ну, зачем уж так пышно!»
В ту осень, когда мы еще жили подле Белого дома, генерал всех сзывал в Мартынов день: меня он любезно усадил на колени, угостил крутым яйцом, в рюмке отказал. Но генерал был всего лишь отставным генералом – новохозяин с одной лошадью и одним работником. Правда, были еще огородница и кухарка, потому что генеральша, госпожа Эмилия, не думала сама ни огород полоть, ни варить, ни жарить, ни парить. Осенью в большом каменном амбаре пела молотилка, и генерал, точно истинный хозяин, подкидывал в горсти зерно. Я бродил по генеральским комнатам, слушал через наушники радио, восхищался ружьями в кабинете – одностволка, двустволка, трехстволка. Как стреляли ворон? Я видел, как с раскатом выстрела черная птица отделилась от стаи и тяжело упала вниз. Самого стрелка я не заметил, но полагал, что ружье держат за тонкий конец, а прикладом – все же потяжелее – «метятся». Когда Мирдза пробудила во мне тягу к рисованию, а сама уже отправилась пастушить, я своими силами стал изображать стрельбу в ворон. Айна спорила, что мой охотник держит ружье наоборот, но разве кто-нибудь мог опровергнуть то, что я забрал себе в голову.


![Книга Конан и Источник Судеб [Источник судеб • Корабль за облаками • Барабаны Томбалку] автора Роберт Ирвин Говард](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-konan-i-istochnik-sudeb-istochnik-sudeb-korabl-za-oblakami-barabany-tombalku-252163.jpg)



