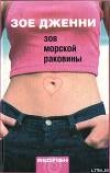Текст книги "Комната Джейкоба"
Автор книги: Вирджиния Вулф
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
– Я больше не приду! – закричала она в конце концов.
– Ну и не приходи, – сказал Ник, и она убежала, даже не попрощавшись.
Как изящно оно выглядело – это платье в магазине Эвелины неподалеку от Шафтсбери авеню! Было четыре часа дня, прекрасная погода, начало апреля, и неужели Фанни в такую погоду в четыре часа дня станет сидеть в помещении? Другие девушки на этой же самой улице склонялись над бухгалтерскими книгами, устало тянули длинные нити, пришивая кисею к шелку, или под гирляндами в магазине «Суон энд Эдгар» [19]19
Большой лондонский магазин преимущественно женской одежды на Пиккадилли-серкус.
[Закрыть]проворно складывали столбиком на обороте счета, пенсы и фартинги, закатывали ярд и три четверти в оберточную бумагу и спрашивали «Что вам угодно?» у следующего покупателя.
В магазине Эвелины неподалеку от Шафтсбери авеню женщина демонстрировалась по частям. В левой руке она держала юбку. Вокруг шеста посредине обвивалось боа из перьев. В строгом порядке, как головы преступников на Темпл-Бар, располагались шляпы – изумрудные, белые, с легкими веночками или кренящиеся под тяжестью ярко покрашенных перьев. А на ковре стояли ее ноги – остроносые золотые или кожаные лакированные с пурпурными прорезями.
Услаждавшая взгляды стольких женщин, одежда к четырем часам дня была засижена мухами ничуть не меньше, чем сахарные кексы в витрине булочной. Ими Фанни тоже полюбовалась.
Но по Джеррард-стрит шагал высокий мужчина в потрепанном пальто. На витрину упала тень – тень Джейкоба, хотя это был не он. И Фанни повернулась и пошла по Джеррард-стрит, расстраиваясь, что так мало читала. Ник вообще ничего не читал и никогда не говорил ни об Ирландии, ни о палате лордов, а уж на его ногти просто смотреть страшно! Она выучит латынь и будет читать Вергилия. Раньше она много читала. Вальтера Скотта, Дюма. В Слейде [20]20
Школа Слейда – художественное училище при Лондонском университете.
[Закрыть]никто не читает. Но Фанни в Слейде никто не знает и не догадывается, каким пустым ей все там кажется – эта страсть к сережкам, к танцам, к Гонксу и Стиру [21]21
Генри Тонкс (1862–1937) и Филип Уилсон Стир (1860–1942) – английские художники.
[Закрыть],– тогда как писать картины умеют только французы, говорит Джейкоб. Потому что современные художники ничтожны; живопись – самое презренное из искусств; и стоит ли читать что-нибудь, кроме Марло и Шекспира, говорит Джейкоб, ну и Филдинга, если уж так хочется романы.
– Филдинг, – ответила Фанни, когда продавец на Чаринг-Кросс-роуд спросил, какая книга ее интересует.
Она купила «Тома Джонса».
В десять часов утра в комнате, которую она снимала вместе с одной учительницей, Фанни Элмер читала «Тома Джонса» – эту загадочную книгу. Ведь эта скучища (думала Фанни) про людей со странными именами и есть то, что нравится Джейкобу. То, что нравится порядочным людям. Небрежно одетые женщины, которые сидят как попало, читают «Тома Джонса» – эту загадочную книгу, потому что в книгах, думала Фанни, есть что-то такое, что, если бы я была образованная, мне бы, наверное, нравилось – нравилось бы гораздо больше, чем сережки и цветы, вздохнула она, вспоминая коридоры Слейда и бал-маскарад на следующей неделе. Ей нечего было надеть.
Есть настоящие люди, думала Фанни Элмер, кладя ноги на каминную полку. Их немного. Может быть, и Ник один из них, только он очень глупый. А женщин таких нет, кроме мисс Сарджент, но она всегда в обед уходит и слишком уж задается. Они тихо сидят по вечерам и читают, думала она. Не ходят в мюзик-холл, не разглядывают витрины, не меняются одеждой, как они с Робертсоном, когда она надевала его жилет, а он ее шаль, а Джейкобу сделать это было бы очень неловко, потому что ему нравился «Том Джонс».
Вот она лежит у нее на коленях, напечатанная в два столбца, купленная за три с половиной пенса, загадочная книга, в которой Генри Филдинг много-много лет назад выговаривал Фанни Элмер за ее любовь к роскоши, да к тому же превосходной прозой, подчеркивал Джейкоб. Ведь он не читал современных романов. Ему нравился «Том Джонс».
– Мне так нравится «Том Джонс», – сказала Фанни в половине шестого того же апрельского дня, когда Джейкоб, сидящий в кресле напротив, вынул трубку изо рта.
Увы, женщины лгут! Кроме Клары Даррант. Безупречная душа, сама искренность, дева, пригвожденная к скале (где-то рядом с Лаундс-сквер), вечно разливающая чай старичкам в белых жилетах, голубоглазая, глядящая прямо тебе в лицо, играющая Баха. Из знакомых женщин Джейкоб почитал ее больше всех, Но сидеть со знатными дамами в бархате за столом, где стоят бутерброды, и не иметь возможности сказать Кларе Даррант больше того, что говорил мистер Бенсон попугаю, покуда старая мисс Перри разливала чай, – вот уж воистину вопиющее поругание человеческого достоинства и нарушение всяческих приличий или что-то в этом духе. Потому что Джейкоб молчал. Он не сводил глаз с огня. Фанни отложила «Тома Джонса».
Она что-то шила или вязала.
– Что это такое? – спросил Джейкоб.
– В Слейде устраивают маскарад.
И она достала свой головной убор, брюки, туфли с красными кисточками. Что ей надеть?
– А я буду в Париже, – сказал Джейкоб.
Но зачем тогда вообще маскарады, подумала Фанни. Встречаешь одних и тех же людей, надеваешь тот же самый костюм. Мангин напивается, Флоринда сидит у него на коленях. Как она бесстыдно флиртует – сейчас, например, с Ником Брамемом.
– В Париже? – переспросила Фанни.
– По пути в Грецию, – ответил он.
Потому что, добавил он, нет ничего отвратительнее, чем Лондон в мае.
Он забудет ее.
Воробей пролетел за окном, таща соломинку из стога, стоящего у амбара на ферме. Старый коричневый спаниель обнюхивает землю, ища крысу. Уже верхние ветви вязов усыпаны гнездами. Каштаны обмахиваются своими веерами. И бабочки красуются над дорожками в лесу. Может быть, нимфалина пирует, как пишет Моррис, на куче гниющей падали у подножия дуба.
Фанни думала, что все это идет из «Тома Джонса». Он мог один пойти с книжкой в кармане и любоваться барсуками. Садился на поезд в восемь тридцать и шел пешком всю ночь. Он видел светящихся жуков и приносил домой светлячков в коробочках из-под лекарств. Охотился с шотландскими борзыми. Это все идет из «Тома Джонса», и он поедет в Грецию с книжкой в кармане и забудет ее.
Она потянулась за зеркальцем. Вот ее лицо. А что, если нарядить Джейкоба в чалму? Вот его лицо. Она зажгла лампу. Но так как за окном был день, лампа мало что освещала. И хотя Джейкоб казался грозным и величественным, и готов был вырубить лес, говорил он, и прийти в Слейд и быть турецким рыцарем или римским императором (и дал ей покрасить себе губы черным, и стискивал зубы, и гримасничал перед зеркалом), все-таки рядом лежал «Том Джонс».
XI
– Арчер, – сказала миссис Фландерс с той нежностью, с какой матери обычно говорят о первенцах, – завтра будет в Гибралтаре.
Почта, которую она ждала (прогуливаясь по холму Доде, в то время как разрозненные церковные колокола вызванивали над ее головой мелодию псалма; часы, рассекая кружащийся мотив, пробили четыре раза; трава полиловела под грозовой тучей, а два десятка деревенских домиков бесконечно жалобно съежились под набежавшей тенью), почта со всем разнообразием писем, конвертов, написанных четкими и летящими почерками, то с английскими, то с колониальными марками, а то с поспешно оттиснутой желтой полосой, почта вот-вот должна была разбросать по свету мириады посланий. Есть ли какая-нибудь польза от принятой у нас столь обильной переписки или нет, судить не нам. Но то, что в наши дни письма и в особенности письма молодых людей, путешествующих в чужих краях, как правило, лживы – факт совершенно неоспоримый.
Вот, например, такая сцена.
Перед нами Джейкоб Фландерс, отправившийся за границу и остановившийся на несколько дней в Париже. (В июне прошлого года умерла кузина его матери, старая мисс Бербек, и оставила ему сто фунтов в наследство.)
– Не надо повторять весь этот бред сначала, Краттендон, – рассердился Маллинсон, маленький лысый художник, сидящий за мраморным столиком с лужицами пролитого кофе и кружочками от винных бутылок; он говорил очень быстро и вне всякого сомнения был изрядно пьян.
– Что, Фландерс кончил писать своей барышне? – спросил Краттендон, когда подошел Джейкоб и уселся рядом с ними, держа в руке конверт, адресованный миссис Фландерс, в окрестностях Скарборо, Англия.
– Ты признаешь Веласкеса? – спросил Краттендон.
– Разумеется, признает, а то нет!:– сказал Маллинсон.
– Вот, вечно он так, – раздраженно произнес Краттендон.
Джейкоб с подчеркнутой невозмутимостью поглядел на Маллиисона.
– Я тебе назову три величайших произведения из всех когда-либо созданных мировой литературой, – снова заговорил Краттендон. – «Душа моя, виси, как плод» [22]22
«Цимбелин», акт V, сц. 5.
[Закрыть]– начал он.
– Что слушать человека, который не любит Веласкеса, – перебил Маллинсон.
– Адольф, больше мистеру Маллинсону вина не приноси, – распорядился Краттендон.
– Ты не прав, ты не прав, – сказал Джейкоб тоном третейского судьи. – Пусть человек напивается, если ему хочется. Это Шекспир, Краттендон. Тут я с тобой согласен. Шекспир, разумеется, выше всех этих лягушек вместе взятых. «Душа моя, виси, как плод», – певуче и с выражением начал декламировать он, размахивая бокалом. «Чтоб черт тебя обуглил, беломордый!» [23]23
«Макбет», акт V, сц. 3. Перев. Б. Пастернака.
[Закрыть]– воскликнул он, и вино выплеснулось через край.
– «Душа моя, виси, как плод», – начали Краттендон с Джейкобом одновременно, и оба расхохотались.
– Проклятые мухи, – проворчал Маллинсон, хлопая себя по лысине, – за кого они меня принимают?
– За какое-нибудь благовоние, – ответил Краттендон.
– Прекрати, Краттендон, – велел Джейкоб. – Он у нас неважно воспитан, – очень любезно пояснил он Маллинсону. – Не дает людям выпить. Слушайте! Я хочу отбивную. Как по-французски отбивная? Отбивную, Адольф! Ты что, балбес, не понимаешь?
– А вторая прекрасная вещь в мировой литературе, скажу я тебе, Фландерс… – проговорил Краттендон, опуская ноги на пол, ставя локти на стол и почти касаясь лицом лица Джейкоба.
– Хи-хи-хи, ха-ха-ха, кошка съела петуха, – перебил Маллинсон, барабаня пальцами по столу. – Самая изы-скан-но прекрасная вещь в мировой литературе… Краттендон – парень очень хороший, – продолжал он доверительно, – но дурачок. – И мотнул головой.
И ни слова об этом не было рассказано миссис Фландерс, и ничегошеньки о том, что происходило потом, когда они, расплатившись, ушли из ресторана и двинулись по бульвару Распай.
А вот еще один отрывок разговора: время действия – около одиннадцати утра; место действия – мастерская, день – воскресенье.
– Уверяю тебя, Фландерс, – говорил Краттендон, – я действительно ставлю эти маленькие вещи Маллинсона не ниже Шардена. И когда я так говорю… – Он надавил на кончик истощавшего тюбика. – Шарден был молодчина… Сейчас он продает их, чтобы расплатиться за обед, но увидишь, что будет, когда за него ухватятся торговые агенты. Он – молодчина, правда, просто молодчина.
– Жизнь, конечно, у вас восхитительная, – сказал Джейкоб, – возиться тут, наверху, с красками. И все-таки, Краттендон, искусство ваше дурацкое. – Он побродил по комнате. – А кстати, этот человек, Пьер Луис [24]24
Пьер Луис (1870–1925) – французский писатель.
[Закрыть]…– Он взял в руки книжку.
– Послушайте, сударь, вам не надоело ходить из угла в угол? – спросил Краттендон.
– Вот отличная работа, – произнес Джейкоб, ставя картину на стул.
– А, этим я сто лет назад занимался, – ответил Краттендон, поглядев через плечо.
– По-моему, ты настоящий художник, – сказал Джейкоб спустя некоторое время.
– Если хочешь, я тебе покажу, что я сейчас делаю, – предложил Краттендон, ставя перед Джейкобом картину. – Вот. Вот это. Скорее даже вот это. Вот… – большим пальцем он обвел шар лампы, написанный белым.
– Отличная работа, – сказал Джейкоб, который стоял перед ней, широко расставив ноги. – Но объясни мне, пожалуйста…
В комнату вошла мисс Джинни Карслейк, бледная, веснушчатая, болезненного вида.
– О, Джинни, познакомься Фландерс. Англичанин. Богатый. Со связями. Давай дальше, Фландерс.
Джейкоб молчал.
– Вот это– совсем не то, что здесь надо, – заметила Джинни.
– Нет, – ответил Краттендон решительно. – Тут уж ничего не поделаешь.
Он снял картину со стула и поставил на пол, тыльной стороной к ним.
– Прошу садиться, леди и джентльмены. Фландерс, мисс Карслейк из ваших краев. Из Девоншира. Да? А мне показалось, ты говорил Девоншир. Чудесно. Она к тому же дочь церкви. Паршивая овца в своей семье. Мать ей пишет такие письма. Слушай, – у тебя, может, есть с собой? Они обычно по воскресеньям приходят. Знаешь, впечатление как от колокольного звона.
– Вы со всеми художниками познакомились? – спросила Джинни. – Маллинсон, наверное, был пьян? Если пойдете к нему в мастерскую, он вам подарит какую-нибудь картину. Послушай, Тедди…
– Секунду, – сказал Краттендон. – Какое там у нас время года? – Он выглянул в окно.
– По воскресеньям, Фландерс, мы не работаем.
– А он… – спросила Джинни. – Вы…
– Да, он поедет с нами, – сказал Краттендон.
А потом – Версаль.
Джинни стояла на каменном парапете, склонившись над прудом, а Краттендон поддерживал ее, чтобы не свалилась.
– Вон там, вон! – закричала она. – Вон, на самом верху! – Несколько вялых рыбин с покатыми спинами поднялись из глубины, чтобы проглотить крошки, которые она им бросала. – Посмотрите теперь вы, – сказала она, спрыгивая. А затем ослепительно белая вода, бурная, сдавленная, вырвалась в воздух. Заработал фонтан. Сквозь его шум издали донеслись звуки марша. Вся поверхность пруда сморщилась от падающих капель. Голубой воздушный шарик мягко стукнулся о воду. Как сразу же столпились у пруда няньки, дети, и старики, и молодые люди, как они наклонялись и размахивали тростями! И маленькая девочка, протягивая руки, побежала к своему шарику, но он утонул около самого фонтана.
Эдвард Краттендон, Джинни Карслейк и Джейкоб Фландерс шагали втроем по желтой гравиевой дорожке, потом прямо по траве, прошли под деревьями и оказались у беседки, в которой Мария Антуанетта имела обыкновение пить шоколад. Эдвард и Джинни вошли внутрь, а Джейкоб остался стоять, усевшись на ручку трости. Скоро они вышли.
– Ну? – сказал Краттендон, улыбаясь Джейкобу.
Джинни ждала, Эдвард ждал, и оба смотрели на Джейкоба.
– Ну? – сказал Джейкоб, улыбаясь и опираясь о трость обеими руками.
– Пошли, – решил он и двинулся вперед. Остальные двое, улыбаясь, последовали за ним.
А потом они завернули в маленькое кафе, в каком-то переулке, где люди сидели и пили кофе, разглядывали военных и задумчиво стряхивали пепел в пепельницы.
– Нет, он совсем другой человек, – говорила Джинни, сцепив пальцы над своим бокалом. – Вы, наверное, себе не очень представляете, о чем говорит Тед, – сказала она, глядя на Джейкоба. – А я его понимаю. Я иногда готова с собой покончить. Бывает, он лежит в постели целый день – просто лежит… Еще не хватало, прямо на стол! – Она замахала руками. Жирные переливчатые голуби вразвалку ходили у их ног.
– Смотрите, какая у той женщины шляпа, – сказал Краттендон. – Надо же такое придумать… Нет, Фландерс, я бы, наверное, не смог жить, как ты. Ходить по этой улице напротив Британского музея – как она называется? – понимаешь, о чем я? Там все такое… Эти толстые женщины, и этот, который стоит посреди улицы, как будто с ним сейчас припадок будет…
– Их все здесь кормят, – сказала Джинни, отмахиваясь от голубей. – Дурацкие птицы.
– Не знаю, конечно, – произнес Джейкоб, затягиваясь сигаретой. – А зато там есть собор Святого Павла.
– Я говорю про то, что ты ходишь в свою контору.
– Да черт с ней, с конторой! – запротестовал Джейкоб.
– Нет, ну про тебя что говорить, – сказала Джинни, глядя на Краттендона. – Ты же сумасшедший, ты же только о живописи и думаешь.
– Да, так оно и есть. Ничего не поделаешь. Послушай-ка, а как там насчет пэров, уступит король или нет?
– Да уж ему придется уступить, – ответил Джейкоб.
– Видишь! – воскликнула Джинни. – А он в этом разбирается.
– Понимаешь, я б и жил так, если б мог, – сказал Краттендон, – но я просто не могу.
– Я бы, наверное, смогла, – сказала Джинни. – только так живут все, кто мне не нравится. Я имею в виду – дома. Они же ни о чем другом не разговаривают. Даже люди вроде моей матери.
– Если бы я сюда переехал и стал бы жить здесь… – начал Джейкоб. – Сколько я тебе должен, Краттендон? Ну, ладно. Как хочешь. Вот глупые птицы, когда нужно, так их и нет, – улетели.
И наконец, под дуговыми фонарями у Гар-дез-инвалид, одним из тех непостижимых движений, которые почти неощутимы, но вполне определенны, которые могут либо обидеть, либо остаться незамеченными, но, как правило, вызывают ощущение неловкости, Джинни и Краттендон потянулись друг к другу. Джейкоб остался в стороне. Они должны были проститься. Следовало что-то сказать. Сказано ничего не было. Мимо прошел человек с тележкой, и так близко: что тележка чуть не проехалась по ногам Джейкоба. Когда Джейкоб вернул себе утраченное равновесие, те двое уже отворачивались, хотя Джинни оглядывалась через плечо, а Краттендон, помахав рукой, исчез, как и подобает настоящему гению.
Нет, Джейкоб ничего не рассказал об этом миссис Фландерс, хотя чувствовал – совершенно точно, – что важнее этого ничего на свете нет; а Краттендон и Джинни казались ему самыми замечательными людьми, каких он когда-либо видел, – ведь он, конечно, не мог представить себе, как оно потом обернулось – что Краттендон стал писать фруктовые сады и ему поэтому пришлось жить в Кенте; и хотя теперь он, как будто, мог бы уже распрощаться с яблоневым цветом, потому что жена, ради которой все это делалось, ушла от него к одному писателю, – но нет, Краттендон по-прежнему, свирепо, в одиночестве, пишет фруктовые сады. А Джинни Карслейк после романа с Лефаню, американским художником, зачастила к индийским философам, а сейчас живет в Италии по разным пансионам и бережно хранит шкатулку для драгоценностей, в которой лежат обыкновенные камушки, подобранные на дороге, Но если внимательно в них вглядеться, говорит она, разнообразие переходит в единство, и это каким-то образом оказывается тайной жизни, что отнюдь не мешает ей следить за тем, как миска с макаронами обходит стол в пансионе, а иногда весенними вечерами она ошарашивает застенчивых молодых англичан своими признаниями.
Джейкобу нечего было скрывать от матери. Просто он сам не мог разобраться в своем удивительном волнении, а уж перенести его на бумагу…
– Письма Джейкоба так на него похожи… – отметила миссис Джарвис, складывая письмо.
– Да, кажется, ему там… – сказала миссис Фландерс и остановилась, потому что кроила платье и ей надо было разгладить выкройку, – …очень весело.
Миссис Джарвис думала о Париже. Окно за ее спиной было открыто – вечер стоял теплый, безветренный, луна словно была чем-то окутана и яблони застыли совершенно неподвижно.
– Мне не жаль мертвых, – произнесла миссис Джарвис, поправляя у себя за спиной подушку и сплетая руки на затылке. Бетти Фландерс ее не расслышала из-за громкого лязганья ножниц над столом.
– Они обрели покой, – продолжала миссис Джарвис. – А мы проводим дни, занимаясь бессмысленными, никому не нужными вещами, и сами не знаем зачем.
В деревне миссис Джарвис не любили.
– Вы в такое время не ходите гулять? – спросила она у миссис Фландерс.
– Вечер, конечно, удивительно теплый, – ответила миссис Фландерс.
И впрямь, она давным-давно не выходила по вечерам через садовую калитку на холм Доде.
– Совсем сухо, – сказала миссис Джарвис, когда они закрыли за собой калитку и ступили на дерн.
– Я далеко не пойду, – предупредила Бетти Фландерс. – Да, в среду Джейкоб уезжает из Парижа.
– Из них троих Джейкоб всегда был моим любимцем, – проговорила миссис Джарвис.
– Ну, дорогая, я дальше не иду, – сказала миссис Фландерс. Они взобрались на темный холм и оказались у римского лагеря.
У их ног подымался крепостной вал – гладкий, опоясывающий лагерь или могилу. Сколько иголок потеряла здесь Бетти Фландерс! И гранатовую брошку.
– Бывает гораздо лучше видно, – сказала миссис Джарвис, стоя на возвышении. Небо было чистое, но над морем и над пустошами поднималась какая-то дымка. В Скарборо мерцали огни, как будто женщина в бриллиантовом ожерелье поворачивала голову туда-сюда.
– До чего тихо! – вздохнула миссис Джарвис.
Миссис Фландерс носком поводила по дерну, вспоминая гранатовую брошку.
Сегодня миссис Джарвис не хотелось думать о себе. Было так покойно. Ветер улегся, ничто не неслось, не летело, не исчезало. Черные тени неподвижно застыли над серебристыми пустошами. Кусты дрока стояли совершенно неподвижно. И о Боге миссис Джарвис не думала. За ними, впрочем, была церковь. Церковные часы пробили десять. Донеслись ли удары часов до дрока, услышал ли их терновник?
Миссис Фландерс нагнулась и подобрала камушек. Бывает же, что люди что-то находят, подумала миссис Джарвис, однако при таком тусклом лунном свете ничего невозможно разглядеть, только кости и обломки мела.
– Джейкоб купил ее на свои деньги, а потом я повела сюда мистера Паркера полюбоваться видом и, наверное, ее обронила, – бормотала миссис Фландерс.
Что это пошевелилось – кости или заржавевшие мечи? Значит, дешевенькая брошка миссис Фландерс стала навсегда частью этого огромного скопища? И если бы сюда явилась толпа призраков и окружила миссис Фландерс плотным кольцом, разве она не оказалась бы совершенно на своем месте, живая английская матрона, полнеющая с годами?
Часы пробили четверть.
Часы делили время на четверти, и хрупкие волны звука замирали в суровом утеснике и ветках боярышника.
Застывшие широкогрудые вересковые пустоши выслушали утверждение «прошло пятнадцать минут», но сами безмолвствовали, разве что чуть шелестели куманикой.
Но даже и при таком тусклом свете можно прочитать надписи на гробницах, разобрать голоса, слышные лишь мгновение: «Я Берта Рук», «Я Том Гейдж». И еще они сообщают, какого числа умерли, и тут же Новый Завет говорит что-то очень величавое, очень выразительное или утешительное.
И вересковые пустоши принимают и это тоже.
Лунный свет бледной страницей падает на церковную стену и озаряет коленопреклоненную семью в нише и мемориальную доску, установленную в 1780 году в честь сквайра этого прихода, который помогал беднякам и верил в Бога, – так, двигаясь по мраморным скрижалям, повествует размеренный голос, как будто пытающийся запечатлеться во времени и в вольном воздухе.
Из-за кустов утесника крадучись выходит лиса.
Часто, даже по ночам, кажется, что церковь полна народу. Скамьи потерты и засалены, и священники на своих местах, и псалтыри на полочках. Корабль со всей командой на борту. Балки силятся удержать всех мертвых и живых, пахарей, плотников, джентльменов, охотившихся на лис, и крестьян, пахнущих дорожной грязью и спиртным. Их языки хором выговаривают по складам отчетливо звучащие слова, которые испокон веков отсекают время от широкогрудых пустошей. Жалоба и вера, и скорбный напев, отчаяние и ликование, но в основном здравый смысл и хмельное безразличие тяжелой поступью выходят из окон в любое время суток последние пятьсот лет.
И все же, как сказала миссис Джарвис, выйдя на пустоши: «До чего тихо!» Тихо в полдень, если только по вереску не рассыпается во все стороны охота; тихо во второй половине дня, когда слышно лишь, как перегоняют овец; и совсем тихо на пустошах ночью.
Гранатовая брошка упала в траву. Бесшумно крадется лиса. Лист поворачивается ребром. Миссис Джарвис, которой уже пятьдесят, отдыхает в римской крепости в тусклом лунном свете.
– …а мне, – проговорила миссис Фландерс, выпрямляясь, – никогда не нравился мистер Паркер.
– Мне тоже, – согласилась миссис Джарвис. Они двинулись к дому.
Но над лагерем еще некоторое время витали их голоса. Лунный свет ничего не разрушал. Вересковые пустоши принимали все. И пока стоит надгробье, кричит Том Гейдж. В целости и сохранности пребывают скелеты римлян. И штопальные иглы Бетти Фландерс тоже целы, и ее гранатовая брошка. А иногда в полдень, когда светит солнце, пустошь как нянька перебирает эти маленькие сокровища. Но в полночь, когда никто не разговаривает, и не скачет верхом, и терновник застыл совершенно неподвижно, глупо было бы досаждать пустошам вопросами – что и почему?
Часы, однако, бьют двенадцать.