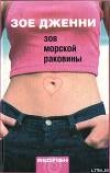Текст книги "Комната Джейкоба"
Автор книги: Вирджиния Вулф
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
VI
Пламя пылало вовсю.
– Смотрите, собор видно! – крикнул кто-то.
Когда дрова вспыхнули, на секунду озарился город; с трех других сторон костер окружали деревья. Среди лиц, выхваченных из тьмы, – молодых, живых, как будто написанных желтыми и красными красками, – самым примечательным было лицо одной девушки. Свет падал так, что казалось, у нее нет тела. Овал лица и волосы висели рядом с костром в темной пустоте. Словно завороженные блеском зелено-голубые глаза пристально смотрели в огонь. Все мускулы лица были напряжены. В том, как она смотрела, ощущалось что-то трагическое; на вид ей было лет двадцать – двадцать пять.
Чья-то рука, возникнув из подвижной темноты, надела ей на голову белый колпак Пьеро. Она дернула головой, не сводя глаз с огня. Над ней появилось лицо с бакенбардами. В костер бросили две ножки от стола и охапку сучьев и листьев. Все это, разгораясь, высветило множество лиц в глубине – круглых, бледных, гладких, бородатых, в котелках, внимательно вглядывающихся; высветило и собор Святого Павла, плывущий в клочковатом белесом тумане, и несколько узких белых как бумага церковных шпилей, похожих на огнетушители.
Огонь продирался сквозь сучья и гудел, когда вдруг взявшиеся бог знает откуда ведра выплеснули воду красивыми выгнутыми струями, похожими на отполированные черепашьи панцири, потом плеснули еще раз и еще, и, в конце концов, раздалось шипение, напоминающее пчелиный улей, и все лица погасли.
– Ах, Джейкоб, – сказала девушка, когда они в темноте поднимались вверх по холму, – я так ужасно несчастна!
Отовсюду доносились раскаты хохота – заливистого, басовитого, кто-то вырывался вперед, кто-то отставал.
Зал в отеле был ярко освещен. Гипсовая оленья голова стояла на одном конце стола, на другом – какой-то римский бюст, размалеванный черным и красным. Он должен был изображать Гая Фокса, которому посвящался праздник. Сидящих за столом соединяли гирлянды бумажных роз, так что когда они, скрестив руки, пели «Забыть ли старую любовь», желто-розовая цепь поднималась и опускалась вдоль всего стола. Страшно громко звенели зеленые бокалы. Встал какой-то молодой человек, и Флоринда, схватив один из огромных фиолетовых шаров, лежащих на столе, швырнула его прямо ему в голову. Шар рассыпался в порошок.
– Я так ужасно несчастна, – сказала она Джейкобу, который сидел с ней рядом.
Стол отправился как будто на невидимых ножках в угол зала, и шарманка, украшенная красной тканью и двумя вазами с бумажными цветами, раскручиваясь, заиграла вальс.
Джейкоб танцевать не умел. Он стоял, прислонившись к стене, и курил трубку.
– Мы считаем, – сказали двое танцующих, отделившись от остальных и низко ему кланяясь, – что вы самый красивый человек на свете. – И они возложили ему на голову бумажные цветы. Потом кто-то принес белый с позолотой стул и усадил его. Проходя мимо, все вешали ему на плечи стеклянные побрякушки, и в конце концов он стал похож на носовое украшение затонувшего корабля. Потом Флоринда взобралась к нему на колени и спрятала лицо в его жилете. Одной рукой он придерживал ее, в другой была трубка.
– Давай поговорим, – сказал Джейкоб, шагая в пятом часу утра шестого ноября вниз по Хаверсток-хилл под руку с Тимми Даррантом, – о чем-нибудь серьезном!
Древние греки – да, вот о чем они говорили – о том, что в конечном счете, когда распробованы все литературы на свете, включая китайскую и русскую (хотя славяне, конечно, все-таки дикари), во рту остается вкус древнегреческой. Даррант цитировал Эсхила, Джейкоб – Софокла. Разумеется, ни один древний грек их бы не понял, и ни один профессор не удержался бы, чтобы не указать на… – но какое это имеет значение: для чего же еще существует древнегреческий, как не для того, чтобы декламировать стихи, стоя на рассвете на Хаверсток-хилл? И Даррант при этом прислушивался к Софоклу не больше, чем Джейкоб – к Эсхилу. Оба хвастались, ликовали, им обоим казалось, что они прочли все книги на свете, познали все грехи, страсти и радости. Цивилизации стояли вокруг как цветы, готовые к тому, что их вот-вот сорвут. Века плескались у ног как волны, по которым хоть сейчас отправляйся в плавание. И внимательно оглядев все это, маячащее в тумане, в свете фонарей, в сумеречном Лондоне, два молодых человека решили в пользу Древней Греции.
– Может быть, – сказал Джейкоб, – мы единственные люди на земле, которые по-настоящему понимают древних греков.
Они выпили кофе у стойки, где блестели кофейники и вдоль прилавка горели лампочки. Приняв Джейкоба за военного, хозяин рассказал ему про своего сына, который воюет в Гибралтаре, а Джейкоб обругал английскую армию и похвалил герцога Веллингтонского, и они стали дальше спускаться с холма, разговаривая о древних греках.
Странная вещь – если подумать – эта любовь к Древней Греции, расцветающая тайком, исковерканная, подавляемая, но прорывающаяся вдруг, особенно когда выходишь из комнат, набитых людьми, или когда надоедают все печатные тексты, или когда луна плывет по волнам холмов, или в пустые желтоватые бесплодные лондонские дни как спасительное снадобье, блестящий клинок, вечное чудо. Джейкобу его знания древнегреческого хватало лишь на то, чтобы с грехом пополам продраться сквозь пьесу. Из древней истории он вообще ничего не знал. Однако когда они, печатая шаг, входили в Лондон, ему казалось, что у них под ногами звенят каменные плиты на пути в Акрополь и что, если бы Сократ увидел, как они приближаются, он воспрянул бы и сказал «любезные мои друзья», потому что им был так близок самый дух Афин – свободный, бесстрашный, пылкий… Она называла его Джейкобом, не спросив, можно ли. Она сидела у него на коленях. В Древней Греции так поступали все порядочные женщины.
В этот момент воздух взорвался от дрожащего, вибрирующего, жалобного стона, который, казалось, никак не мог набрать полную силу, но протяжно длился, и на этот звук в проулках мрачно распахивались двери, и тяжелой поступью выходили рабочие.
Флоринду тошнило.
Миссис Даррант, как всегда мучаясь бессонницей, поставила значок на полях против каких-то строчек «Ада».
Клара спала, зарывшись головой в подушки, на ее туалетном столике лежали облетевшие розы и пара длинных белых перчаток.
Флоринду, которая так и осталась в белом колпаке Пьеро, тошнило.
Комната ее казалась как будто нарочно созданной для такого рода неприятностей – дешевая, оклеенная обоями горчичного цвета, не то чердак, не то мастерская, причудливо украшенная звездами, вырезанными из серебряной бумаги, валлийскими шляпками и четками, свисающими с газовых рожков. Что касается истории самой Флоринды, то именем своим она была обязана одному художнику, стремившемуся подчеркнуть, что цветок ее девичества еще не сорван. Как бы то ни было, она обходилась без фамилии, а родителей ей заменяла фотография надгробья, под которым, если верить Флоринде, лежал ее отец. Иногда она рассказывала, какого оно размера, кроме того, молва гласила, что отец Флоринды умер от увеличения костей, рост которых ничто не могло остановить, тогда как мать пользовалась расположением кого-то при Дворе, а порой и сама Флоринда оказывалась королевских кровей, правда, главным образом когда была пьяна. Предоставленная сама себе, к тому же хорошенькая, с трагическим взглядом и детским ртом, она говорила о девственности больше, чем обычно склонны женщины, и обнаруживалось, что либо она ее утратила только накануне, либо все еще дорожит ею больше, чем сердцем в груди, в зависимости от того, с каким мужчиной она разговаривала. Что же, она разговаривала только с мужчинами? Вовсе нет, у нее была задушевная подруга – матушка Стюарт. Стюарты, как указывала эта дама, – фамилия королевской династии, но что отсюда следовало и чем она занималась, никому известно не было; знали только, что по понедельникам миссис Стюарт получает почтовые переводы, что у нее есть попугай и что она верит в переселение душ и умеет гадать по чаинкам. Рядом с целомудрием Флоринды она была как грязные обои в меблированных комнатах.
Утром Флоринда поплакала, а потом целый день гуляла по улицам; постояла в Челси, глядя, как течет река; послонялась у магазинных витрин; несколько раз в омнибусах открывала сумочку и пудрила щеки; читала любовные письма в кондитерской, прислонив их к кувшину с молоком; обнаружила в сахарнице стеклышко; обвинила официантку в том, что та хочет ее отравить; заявила, что молодые люди пялят на нее глаза, а ближе к вечеру вдруг заметила, что бредет по улице, на которой живет Джейкоб, и тут ее осенило, что этот человек, Джейкоб, нравится ей гораздо больше, чем какие-нибудь грязные евреи, и, подсев к его столу (он переписывал свою статью об Этике Непристойности), она стянула перчатки и рассказала ему, как матушка Стюарт ударила ее по голове чехольчиком для чайника.
Джейкоб поверил ей, когда она сказала, что целомудренна. Сидя у камина, она лепетала что-то о знаменитых художниках. Было упомянуто отцовское надгробье. Она казалась сумасбродной, хрупкой, красивой, и такими были женщины в Древней Греции, думал Джейкоб, и это и есть жизнь, а он мужчина, и Флоринда целомудренна.
Она ушла от него, зажав под мышкой томик стихов Шелли. Миссис Стюарт, сказала она, часто говорит о нем.
Как прекрасны простодушные! Верить, что девушка сама по себе стоит выше любой лжи (потому что Джейкоб был не такой дурак, чтобы верить всему), завистливо удивляться ее неприкаянной жизни, по сравнению с которой его собственная кажется такой изнеженной и даже затворнической, – ведь у него под рукой, как дешевые снадобья от всяческих душевных недугов, Адонаис [6]6
«Адонаис» – поэма Шелли, посвященная памяти Китса.
[Закрыть]и пьесы Шекспира; воображать себе дружбу, такую пылкую с ее стороны, такую великодушную с его, но в которой оба равны, ведь женщины, думал Джейкоб, такие же люди, как и мужчины, – подобное простодушие и в самом деле прекрасно и, может быть, вовсе не так глупо.
Потому что когда Флоринда вечером пришла домой, она сперва вымыла голову, потом съела несколько штучек шоколадных помадок, затем открыла Шелли. Разумеется, ей стало страшно скучно. Господи, да о чемэто все? Ей пришлось держать с собой пари, что она сумеет дочитать страницу до конца, прежде чем возьмет еще одну помадку. В результате она уснула. Но ведь у нее был такой длинный день. Матушка Стюарт бросила в голову чехольчик… и на улицах всякие ужасающие сцены; и хотя Флоринда была чудовищно невежественна и вряд ли могла научиться читать как следует даже любовные письма, все-таки она испытывала какие-то чувства, предпочитала одних мужчин другим и вся без остатка отдавалась течению жизни. А сохранила она девственность или нет, видимо, вообще нисколько не важно. Если только, конечно, это не самое важное на свете.
После ее ухода Джейкоб не находил себе места.
Всю ночь неистовствовали мужчины и женщины, взлетая и падая во всем известном ритме. Те, кто поздно возвращались домой, видели тени за шторами и в самых респектабельных предместьях. Не было скверика в снегу или в тумане, в котором не сидели бы парочки. Все пьесы сводились к одному сюжету. В гостиничных номерах почти каждую ночь кто-нибудь пускал себе пулю в лоб по этой самой причине. Но даже если телу удается избежать увечья, редкое сердце уходит в могилу без шрамов. В театрах и романах ни о чем другом практически не говорится. А мы утверждаем, что это не важно.
Да еще тут Шекспир, Адонаис, Моцарт, епископ Беркли – на любой вкус, и факт этот утаивается, и вечера у большинства из нас проходят весьма благопристойно, может быть, только с едва заметной дрожью, как бывает, когда змея проползает в траве. Но и само утаивание отвлекает голову от текстов и звуков. А вот если бы Флоринда соображала хоть немного, она бы, наверное, могла читать внимательнее, чем мы. Она и ей подобные разрешили этот вопрос, превратив его в пустяк вроде ежевечернего мытья рук перед сном, когда единственное, что надо решить – холодной водой их мыть или горячей, а справившись с этим, голова может спокойно заниматься своим делом.
Но Джейкобу вдруг посреди ужина случилось-таки задуматься над тем, соображает ли она вообще.
Они сидели за маленьким столиком в ресторане.
Флоринда поставила локти на стол, устроив подбородок в чашечке ладоней. Плащ ее соскользнул на пол. Она возвышалась над столом, золотая с белым, в ярких бусах, лицо вырастало из тела, как цветок на стебле, невинное, чуть подрумяненное, взгляд, не таясь, блуждал по залу или медленно останавливался на Джейкобе. Она говорила:
– Ты помнишь тот большой черный сундук, который когда-то забыл у меня в комнате австралиец?.. По-моему, меха женщину старят… А вот идет Бехштейн… Я все пыталась себе представить, каким ты был в детстве, Джейкоб.
Она отщипнула кусочек булки и взглянула на него.
– Джейкоб. Ты похож на одну статую… По-моему, в Британском музее есть прелестные вещи. Правда? Там полно прелестных вещей, – говорила она мечтательно. Зал заполнялся, становилось жарко. Разговор в ресторане – все равно что разговор оглушенных сомнамбул: так много всякого вокруг, такой шум, другие разговоры. Можно подслушивать? Да, только наснельзя.
– Она похожа на Эллен Нейгл, вон та девушка… – и так далее.
– Я ужасно счастлива, что с тобой познакомилась, Джейкоб. Ты такой хороший.
Народу в зале все прибывало, разговоры становились громче, ножи звенели сильней.
– Вот знаешь, почему она это говорит…
Флоринда замерла. Все остальные тоже.
– Завтра… воскресенье… мерзкий… врешь… убирайся! – Бац! И выбежала вон.
Голос, взвивавшийся все выше и выше, звучал за соседним с ними столиком. Внезапно женщина сбросила тарелки на пол. Мужчина остался сидеть. Все вокруг жадно глазели.
Затем: «Вот бедняга. Не надо на него смотреть! Ну и дела! Слышала, что она сказала? Да, вид у него дурацкий. Наверное, не оправдал надежд. Вся горчица на скатерти. Даже официанты смеются».
Джейкоб не сводил глаз с Флоринды. Что-то страшно бессмысленное было у нее в лице, когда она так сидела и пялилась.
Она выбежала вон, эта черная женщина с пляшущим пером на шляпе.
Но куда-то она должна была деться. Ночь – ведь это не черный бурный океан, в котором тонешь и все или плывешь как звезда. Собственно говоря, стояла сырая ноябрьская ночь. Фонари в Сохо отбрасывали на тротуар жирные пятна. В переулках было темно, и, прислонившись к дверям, мужчина или женщина становились невидимыми. Когда Джейкоб с Флориндой приблизились, кто-то двинулся прочь.
– Она уронила перчатку, – сказала Флоринда.
Джейкоб, бросившись вперед, отдал женщине перчатку. Она рассыпалась в благодарностях, пошла в другую сторону, снова уронила перчатку. Но зачем? Для кого?
Куда же тем временем пропала та, другая женщина? А мужчина?
Фонари не настолько мощны, чтобы нам об этом поведать. А голоса, сердитые, похотливые, отчаянные, страстные, едва ли отличаются от ночных голосов запертых в клетках зверей. Но ведь они не в клетках и не звери. Остановите человека, спросите его, как пройти, он вам скажет, но боязно его спрашивать. Чего мы боимся? Человеческого взгляда. Тротуар сразу делается уже, бездна – глубже. Вот! Они растворились в ней – и мужчина, и женщина. А дальше, назойливо выставляя напоказ свою добродетельную солидность, некий пансион, не задергивая шторы на окнах, приглашает всех желающих удостовериться в здоровье города. Вот они сидят, ярко освещенные, одетые как господа, в бамбуковых креслах. Вдовы коммерсантов старательно доказывают, что они в родстве с судьями. Жены торговцев углем незамедлительно отвечают, что их отцы держали свой выезд. Слуга приносит кофе, и приходится отодвигать корзиночку с вышиваньем. И дальше – сквозь темноту, мимо девушки, торгующей собой, мимо старухи, продающей спички и ничего больше, мимо толпы, выходящей из метро, мимо женщин в вуалях и, наконец, уже мимо одних только запертых дверей с резными косяками и одинокого полицейского Джейкоб с Флориндой под руку вернулся к себе и зажег свет, не говоря ни слова.
– Мне не нравится, когда ты такой, – сказала Флоринда.
Эта проблема неразрешима. Тело привязано к мозгу. Красота сочетается с глупостью. Вот она сидит, уставясь в огонь так же, как тогда уставилась на разбитую горчичницу. Несмотря на то, что он выступал в защиту непристойности, Джейкоб не был уверен, так ли она ему по душе на самом деле. Его вдруг сильно потянуло в мужское общество, к затворническому существованию, к сочинениям классиков. Он готов был гневно обрушиться на того, кто бы он ни был, кто так устроил жизнь.
Потом Флоринда положила ему руку на колено.
В общем-то, она была не виновата. Но эта мысль опечалила его. Вовсе не несчастья, не убийства, не смерти и болезни старят и убивают нас, а то, как люди смотрят, и смеются, и взбираются по ступенькам омнибусов.
Во всяком случае, для глупой женщины сойдет любая отговорка. Он сказал, что у него болит голова.
Но когда она взглянула на него, безмолвно, не то догадываясь, не то что-то поняв, может быть прося прощения, но так или иначе говоря теми же словами, что и он, «Я не виновата», такая стройная и красивая, с лицом под шляпкой словно в ракушке, тогда он понял, что затворничество и классики помочь тут никак не могут. Проблема эта неразрешима.
VII
В это самое время одна торговая фирма, связанная деловыми отношениями с Востоком, выпустила в продажу маленькие бумажные цветы, которые распускались, соприкоснувшись с водой. А так как после еды было принято пользоваться чашами для ополаскивания рук, новинка пришлась как нельзя более кстати. Пестрые цветочки плавали и скользили по поверхности спокойных озер, а иногда, размокнув, тонули и лежали камушками на стеклянном дне. За их судьбой следили внимательные прелестные глаза. Изобретение, которое приводит к союзам сердец и образованию семей, смело можно назвать великим. А ведь именно это и делали бумажные цветы.
Разумеется, не следует думать, что они вытеснили цветы живые. Розы, лилии и, конечно, гвоздики, выглядывая из-за ободков ваз, наблюдали за яркой, но скоротечной жизнью своих искусственных собратьев. Это соображение высказал мистер Стюарт Ормонд, и оно было сочтено очаровательным, вследствие чего полгода спустя Китти Крастер вышла за мистера Ормонда замуж. Но без живых цветов никак не обойтись. Если бы только это удавалось, жизнь человеческая была бы совсем иной. Ведь цветы вянут, особенно хризантемы: вечером выглядят прекрасно, а наутро – желтые, поникшие, смотреть невозможно. В общем, хоть цена, конечно, немыслимая, гвоздики выгоднее всего; единственное, что все-таки непонятно – следует ли скреплять их проволокой. В некоторых магазинах советуют это делать. На балу, естественно, нет другого способа их сохранить, но нужно ли так поступать, когда устраиваешь прием, если в комнатах не очень жарко, – вопрос спорный. Старая миссис Темпл говаривала, что лучше всего взять лист плюща – одного достаточно – и бросить в вазу. Она уверяла, что он целую неделю не дает воде застаиваться. Но есть некоторые основания полагать, что старая миссис Темпл ошибалась.
Визитные карточки, однако, с выгравированными на них именами, представляют собой проблему еще более серьезную, нежели цветы. Из-за них истоптано больше конских ног, истрачено больше кучерских жизней и изведено больше прекрасного послеполуденного времени, чем нам потребовалось, чтобы выиграть битву при Ватерлоо и вдобавок за это поплатиться. Безобразные эти карточки – источник такого же числа роковых отсрочек, бедствий и тревог, как и сама битва. Бывает, миссис Бо-нем только что вышла, в другой раз она, наоборот, дома. Но даже если от визитных карточек когда-нибудь откажутся, хотя непохоже, все равно останутся необузданные силы, которые ураганами врываются в жизнь, губят утреннее прилежание и возмущают спокойствие полуденных часов, – это, конечно, портнихи и кондитерские магазины. На платье нужно шесть ярдов шелка, но если необходимо выбрать из шестисот фасонов, да еще из тысячи расцветок? И в ту же секунду надо срочно решить, как быть с пудингом с розочками из зеленого крема и бортиками из миндальной пастилы. Его должны были доставить – и не доставили.
По небу мягко, как красно-желтые фламинго, скользили вечерние часы. И неизменно их крылья погружались в полную темноту, например, в Ноттинг-хилле или в окрестностях Клеркенуэлла. Неудивительно, что итальянский язык так и оставался тайной за семью печатями, а рояль всегда играл одну и ту же сонату. Для того чтобы приобрести резиновые чулки для миссис Пейдж, вдовы шестидесяти трех лет, которая получает пятишиллинговое пособие для неимущих и то немногое, чем может помочь ей единственный сын, работающий в красильне мсье Маки и в холодную погоду страдающий грудной болезнью, приходилось писать письма и заполнять колонки тем же круглым разборчивым почерком, которым в дневнике, выпущенном мистером Леттсом, было написано, что погода стоит чудесная, дети – безобразники, а Джейкоб Фландерс – человек несветский. Клара Даррант раздобывала чулки, играла сонату, ставила цветы в вазу, занималась пудингом, оставляла визитные карточки, а когда появилось великое изобретение – бумажные цветы, плавающие в чашах для ополаскивания рук, – была одной из тех, кто особенно восхищался их недолгой жизнью.
Нашлись и поэты, отметившие это событие. Например, Эдвин Маллет написал стихи, которые кончались:
Прочесть ответ во взгляде Хлои,
и которые заставили Клару покраснеть при первом чтении и рассмеяться при втором, потому что это было так похоже на Эдвина – назвать ее Хлоей, когда ее зовут Клара. Эдвин такой смешной! Но когда в одиннадцатом часу дождливого утра Эдвин Маллет принес свою жизнь к ее ногам, она выбежала из комнаты и заперлась в спальне, и Тимоти все утро не мог работать из-за ее рыданий.
– Вот что бывает, когда слишком много развлекаешься, – сурово сказала миссис Даррант, просматривая ее бальную книжечку, всю исчирканную одними и теми же инициалами – на сей раз, правда, другими, Р. Б. вместо Э. М., теперь это был Ричард Бонами, молодой человек с носом как у Веллингтона.
– Но я никогда не выйду замуж за человека, у которого такой нос, – сказала Клара.
– Чушь, – отрезала миссис Даррант. – «Однако я, наверное, чересчур строга», – подумала она про себя. Потому что Клара, потеряв всю свою веселость, разорвала бальную книжечку и бросила ее в камин.
Вот какие серьезные последствия имело изобретение бумажных цветов, плавающих в чашах.
– Пожалуйста, – сказала Джулия Элиот, занимая место у шторы почти напротив входа, – не знакомьте меня ни с кем. Я люблю быть зрителем. Самое занятное, – продолжала она, обращаясь к мистеру Салвину, которому из-за его хромоты поставили кресло, – самое занятное на вечере – наблюдать за людьми, как они приходят, уходят, приходят, уходят…
– Прошлый раз мы с вами встречались, – произнес мистер Салвин, – у Фаркуаров. Вот бедняжка, а? С чем только ей приходится мириться!
– Правда, очаровательна? – воскликнула мисс Элиот, когда Клара Даррант проходила мимо них.
– А кто из них?.. – спросил мистер Салвин, понижая голос и принимая шутливый тон.
– Их так много, – отвечала мисс Элиот. В дверях стояли три молодых человека, ища глазами хозяйку.
– Вы не помните Элизабет в ее годы, а я помню, – сказал мистер Салвин, – как ока водила шотландские хороводы в Банхори. Кларе не хватает материнского темперамента. Она чуть вяловата.
– Какие разные люди здесь бывают! – проговорила мисс Элиот.
– К счастью, мы не обязаны слушаться наших вечерних газет, – сказал мистер Салвин.
– Я их никогда не читаю, – призналась мисс Элиот. – Я ничего не смыслю в политике, – добавила она.
– Рояль настроен, – сообщила Клара, проходя мимо них, – наверное, надо будет кого-нибудь попросить его передвинуть.
– Что, танцевать собираются? – спросил мистер Салвин.
– Вас никто не потревожит, – властным тоном сказала миссис Даррант на ходу.
– Джулия Элиот. Это действительно Джулия Элиот, – произнесла старая леди Хибберт, протягивая обе руки. – И мистер Салвин. Скажите, что с нами будет, мистер Салвин? При всем моем знании английской политики… Боже мой, мистер Салвин, я вспоминала вчера вечером вашего отца, он был одним из старейших моих друзей. Не говорите мне, что десятилетние девочки не влюбляются. Мне не было и тринадцати, когда я знала наизусть всего Шекспира, мистер Салвин!
– Вы шутите! – сказал мистер Салвин.
– Нисколько, – отвечала леди Хибберт.
– Ой, мистер Салвин, простите, пожалуйста…
– Я пересяду, если вы любезно согласитесь дать мне руку, – сказал мистер Салвин.
– Вы будете сидеть рядом с мамой, – заверила его Клара. – По-моему, все перешли сюда… Мисс Эдвардс, позвольте вам представить мистера Калторпа.
– Вы куда-нибудь уезжаете на Рождество? – спросил мистер Калторп.
– Если брат получит отпуск, – ответила мисс Эдвардс.
– В каком он полку? – спросил мистер Калторп.
– В двадцатом гусарском, – ответила мисс Эдвардс.
– Может быть, он знает моего брата? – спросил мистер Калторп.
– Простите, я, кажется, не расслышала вашу фамилию, – ответила мисс Эдвардс.
– Калторп, – сказал мистер Калторп.
– Но где доказательства, что обряд венчания был действительно совершен? – спросил мистер Кросби.
– Нет никаких оснований сомневаться в том, что Чарльз Джеймс Фокс... – начал мистер Берли, но тут миссис Стреттон поведала ему, что хорошо знает его сестру, гостила у нее всего полтора месяца назад и находит ее дом очаровательным, только для зимы чуть холодноватым.
– При том, как нынче девушки себя ведут… – говорила миссис Форстер.
Мистер Боули огляделся, заметил Роуз Шоу, подошел и, простирая к ней руки, спросил: «Ну?»
– Ничего, – ответила она. – Ничего не вышло, хотя я нарочно оставляла их весь день наедине.
– Боже мой, боже мой, – вздохнул мистер Боули. – Я приглашу Джимми к себе завтракать.
– Но кто может устоять перед ней! – воскликнула Роуз Шоу. – Милая Клара, мне не хотелось бы тебя задерживать…
– Вы с мистером Боули о чем-то сплетничаете, я уверена, – сказала Клара.
– Жизнь – ужасна, жизнь – отвратительна! – воскликнула Роуз Шоу.
– В общем, ничего хорошего в этом нет, правда? – говорил Тимми Даррант Джейкобу.
– Женщинам нравится.
– Что нравится женщинам? – вмешалась Шарлотта Уайлдинг, подходя к ним.
– Откуда ты взялась? – удивился Тимоти. – Наверное, была уже где-нибудь в гостях…
– А почему бы и нет? – сказала Шарлотта.
– Спускайтесь все вниз, – велела Клара на ходу. – Веди Шарлотту, Тимоти. Здравствуйте, мистер Фландерс.
– Здравствуйте, мистер Фландерс, – сказала мисс Элиот, протягивая ему руку. – Как вы поживаете?
– Сильвия! Ах, кто ж она,
Та, что всех пленила? —
запела Элсбет Сиддонс.
Все застыли на своих местах или сели, если рядом был свободный стул.
– Ах, – вздохнула Клара, которая на полпути из комнаты остановилась возле Джейкоба.
пела Элсбет Сиддонс.
– Ах, – воскликнула Клара громко и захлопала в ладоши, не снимая перчаток, и Джейкоб, без перчаток, тоже хлопал, а потом она пошла вперед, чтобы пригласить тех, кто толпился в дверях, пройти в комнату.
– Вы теперь живете в Лондоне? – спросила мисс Джулия Элиот.
– Да, – сказал Джейкоб.
– Снимаете что-нибудь?
– Да.
– А вон мистер Клаттербак. Он всегда здесь бывает. Ему, к сожалению, не очень уютно дома. Говорят, миссис Клаттербак… – Она понизила голос. – Вот почему он так часто гостит у Даррантов.
– Вы ведь были у них, когда ставили пьесу мистера Уэртли? Ах, нет, нет, конечно же, в последний момент вы, кажется, получили… да, вы должны были встретиться с матерью в Харрогите, насколько я помню. В последний момент, да, да, да, когда все уже было готово, и костюмы сшиты, и все… Сейчас Элсбет опять будет петь. А Клара, наверное, будет ей аккомпанировать или переворачивать страницы мистеру Картеру. Ах, нет, мистер Картер играет один… Это Бах, – прошептала она, когда мистер Картер сыграл первые такты.
– Вы любите музыку? – спросила миссис Даррант.
– Да, слушать люблю, – ответил Джейкоб. – Но я совсем в ней не разбираюсь.
– Это очень мало кто умеет, – сказала миссис Даррант. – Вас просто, наверное, этому не учили. Почему это так, сэр Джаспер?.. Сэр Джаспер Бигем – мистер Фландерс. Почему это, сэр Джаспер, никого не учат самым необходимым вещам? – Она ушла, оставив их стоять у стены.
В течение следующих трех минут ни один из джентльменов не произнес ни слова; Джейкоб, правда, двинулся дюймов на пять влево, а потом на столько же вправо. Затем что-то буркнул и быстро пересек комнату.
– Вы не хотите пойти что-нибудь съесть? – спросил он Клару Даррант.
– Да. Мороженое. Немедленно. Сейчас.
Они пошли вниз.
Но на лестнице они встретили мистера и миссис Грешем, Герберта Тернера, Сильвию Рашли и приятеля из Америки, которого те позволили себе привести. – Зная, что миссис Даррант… Чтобы показать мистеру Пилчеру… Мистер Пилчер из Нью-Йорка… А это мисс Даррант.
– О которой я столько слышал, – сказал мистер Пилчер, низко кланяясь.
И Клара его бросила.