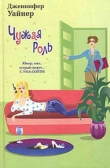Текст книги "В ролях"
Автор книги: Виктория Лебедева
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
По всему выходило, что развод, к которому вконец перетрусивший Герой Берлина не знал, как подступиться, выгоден всем сторонам.
Сойдя с поезда, Гербер собирался сразу ехать в театральное училище разыскивать Любочку, чтобы уж отмучиться одним махом, вступить в этот неприятный разговор, как в ледяную реку Ангару, но постеснялся прочих студентов, прилюдного скандала побоялся. Представил, как приходит на какую-то лекцию, во время которой Любочка почему-то стоит на сцене в гриме и в платье начала XIX века, как поднимается к ней и начинает объяснять ситуацию, а она белеет лицом и падает в обморок, и зрители, сидящие в зале, свищут Герберу, шикают и топают ногами, а Любочка уже сидит на полу, рыдающая, и шепчет, заламывая руки: «За что, за что?!». Он даже представил ее большие выразительные глаза, наполненные слезами, – крупным планом, как в кино… Нет, никак нельзя было ехать сразу в училище.
Время было к обеду. Гербер нашел у самого вокзала какую-то сомнительную столовку, где решил пересидеть и подкрепиться. В столовке стойко пахло многажды использованной половой тряпкой, но кормили довольно сносно. Он без аппетита хлебал горячий наваристый рассольник, запивал компотом и все искал, какими словами начнет разговор о разводе, но подходящие слова не находились. Потом он расплатился, вышел, попил у ларька пресного разбавленного пива, цветом напоминающего перестоявшую заварку, купил вчерашнюю газету, посидел в скверике на скамейке, смотря мимо передовицы, сложил кораблик, выбросил его в урну. Чем ближе было опасное объяснение, тем страшнее и неуютнее Герберу становилось. Он расспросил прохожих, как отыскать нужную улицу, долго ждал трамвая, пропустил его, сочтя слишком переполненным, чтобы через сорок минут с титаническим трудом втиснуться в следующий, еще более набитый, вышел, не доезжая двух остановок, у маленькой уютной рюмочной, где заказал себе для храбрости сто грамм, а потом еще сто грамм, и еще, – пока нечистая совесть его не умолкла, уступив место бравурному, лихорадочному эмоциональному подъему.
Добравшись до квартиры зловредной бабки, Герой Берлина долго не мог понять, почему это Любочка давно здесь не живет, рвался войти в темный коридор, но бабка стояла как скала, грудью загородив проход. Наконец ей удалось вытолкать его на улицу, где он еще некоторое время топтался под одиноким фонарем, пошатываясь, и силился прочесть на клочке бумаги непослушные подпрыгивающие буквы. Он вышел на дорогу, поймал такси, сунул шоферу клочок с адресом и немедленно уснул, а спустя несколько минут, когда таксист с матюками вытаскивал его из машины, никак не мог сообразить, где находится и зачем здесь оказался в такой поздний час.
Холодало, и Герой Берлина потихонечку трезвел, разыскивая нужный подъезд. Снова подступал страх.
Дверь открыл Яхонтов. Гербер решил, что попал не туда, заизвинялся и собрался было уходить, когда в глубине темного коридора, в ореоле желтого света, льющегося из ванной в спину, появилась простоволосая Любочка в прозрачном воздушном пеньюаре и спросила с ноткой недовольства в голосе:– Аркаша, кто там на ночь глядя?Гербер был в бешенстве. Он себе много чего напредставлял за время пути, но уж точно не этого пошлого седовласого старца в полосатых пижамных брюках. Сначала он не находился что сказать, только задыхался от ярости и открывал рот, как живой карп на магазинном прилавке, а потом его будто прорвало.
Он громко, с надрывом выкрикивал Любочке разные оскорбительные слова, из которых самым мягким было «шлюха», топал ногами и бил в коридорную стену нетвердым пьяным кулаком, разбив костяшки в кровь; он кричал, что завтра же поедет в Выезжий Лог, заберет сына у ненавистной тещи, навсегда заберет, вырастит сам: нельзя доверять воспитание падшей женщине, и в этот момент представлял себя почему-то Карениным, а перепуганного старика, который пытался слабо, по-интеллигентски возражать, – коварным Вронским. Любочка горько рыдала, примостившись на югославском мягком пуфике под зеркалом, размазывала слезы тыльной стороной ладони и шептала, захлебываясь: «Ты сам, сам виноват, зачем ты уехал, зачем бросил меня одну?!», – кашляла, умоляла оставить сына в покое, и чем униженнее звучал этот едва слышный, стыдом и слезами напитанный шепот, тем увереннее чувствовал себя Герой Берлина – ему теперь не надо было оправдываться и просить прощения, а, наоборот, можно было расправить грудь колесом и чеканить в глубину коридора обличительное: «Я требую развода!». Про ребенка – это он загнул, для красного словца, и в страшном сне ему не могло присниться, что привезет он своей беременной и по беременности и без того нервной, до предела взвинченной хозяйке чужого пацана и заставит воспитывать. Красивый бы получился жест, да. Благородный. Но это было при сложившихся обстоятельствах абсолютно невозможно.
Любочка, конечно, не из-за развода плакала, развода она давно и горячо желала. Просто ей было себя ужасно жалко – уж больно некрасивой казалась эта новая роль обманщицы и изменницы, пойманной с любовником. «Любовник», «сожитель» – всё это были плохие слова, оскорбительные; а Илюшеньку она ни за что не отдаст, ребенка любой суд при матери оставит, как же иначе?!
Яхонтов, действительно немного перетрусивший сначала и показавший себя не с лучшей стороны, теперь исподтишка наблюдал за кричащим Гербером и плачущей Любочкой, но в семейную сцену не вмешивался. Был он взрослым человеком, умудренным, четырежды женатым (и это только официально), насмотрелся он подобных сцен за свою долгую жизнь вдоволь. Он хорошо знал мужчин и прекрасно понял, что тут дальше крика дело не пойдет, если даже в пьяном угаре этот молодой неопрятный мужчина, брызжущий слюной и размахивающий руками, с порога не полез в драку.Позже, когда страсти немного утихли, он крепко взял Героя Берлина за локоть и увел в кухню на мужской разговор, на стол выставил початую бутылку пятизвездочного армянского коньяку, наскоро покромсал лимончик, и бедная Любочка битый час изнывала в неведении за закрытой дверью, пытаясь прислушиваться к бубнящим голосам, то взвивающимся вверх, то шепчущим, но с перепугу не понимала ни единого слова.Всё закончилось полюбовно. Любочка с Гербером на следующий же день подали документы на развод. Им предлагали, согласно правилам, подождать три месяца на случай возможного примирения, но примирение никому не было нужно, и Яхонтов, воспользовавшись своими богатыми связями, дал кому следует взятку, чтобы максимально ускорить процесс. Присмиревший Гербер до суда прожил у них с Любочкой как гость, потому что в гостинице пристроиться не удалось – мест не было. Днем он гулял по городу, встречался со старыми институтскими приятелями, пытался отыскать Марину, да безуспешно – она к тому времени вышла замуж и со всеми прошлыми кавалерами распрощалась, – по вечерам пил с Яхонтовым коньяк в кухне (Любочка молча подавала на стол и уходила в комнаты, чтобы не мешать мужчинам), и в результате все расстались если не друзьями, то добрыми приятелями.
После развода Герберу положили платить алименты согласно действующему Гражданскому кодексу; он пробыл в городе еще пару дней, покупая гостинцы для своей беременной хозяйки, а потом потихоньку вернулся на Север и навсегда исчез из Любочкиной жизни.
Глава 20
Роль невесты чрезвычайно нравилась Любочке. Она пересняла театральную выкройку и на работе, в перерывах, потихонечку шила свадебное платье – как у Офелии из спектакля «Гамлет». Даже мрачные обстоятельства, при которых было это платье надето, Любочку нимало не смущали. Это было платье мечты – именно такое представляла себе Любочка долгими скучными вечерами в Выезжем Логе, пока ждала выхода фильма «Хозяин тайги» и мечтала сойти по мраморной лестнице. Все оказалось точь-в-точь: широкие летучие рукава с разрезом от локтя; юбка, берущая начало под грудью и мягкими складками струящаяся к полу; короткий облегающий лиф в стиле «ампир», по верху отороченный мелкими бутафорскими розочками и выгодно подчеркивающий молодую упругую грудь; атласный пояс, бантом завязывающийся под лопатками. Материал Любочка подобрала белый-белый, точно снег в тайге. Казалось, от него исходит сияние. Коллеги по костюмерному цеху, хоть шить помогали, за спиной только пожимали плечами. Платье красивое, да, но все это было против моды. И чего так выделываться? Купила бы гипюра полтора метра, взяла модель из «Работницы» и за вечер бы управилась. Там шитья-то всего ничего – четыре вытачки, два шва. На материале, опять же, экономия, и ноги у Любки не такие, чтобы прятать. А тут сиди теперь, глаза ломай да пальцы кровянь, дались ей эти розочки, право слово!
Любочка, однако, советов не слушала. Плевать она хотела на моду. То есть не вообще плевать, а в данном конкретном случае. Жалела только, что нет в городе подходящей мраморной лестницы, по которой можно было бы хоть в день свадьбы спуститься, как задумывала в юности. Дворец бракосочетаний представлял собой низкий одноэтажный особнячок, больше похожий на общественную баню, рестораны все располагались сплошь на первых этажах. «Жаль», – горевала Любочка. А лестница меж тем была – в театральном училище. Но Любочка, памятуя о прошлых неприятностях, забегала туда редко и неохотно и как-то не обратила на нее внимания.На голову решено было не фату (все-таки не девица уже), а круглую шапочку-сеточку, расшитую бисером и фальшивыми жемчужинами. Еще Любочка достала по случаю прозрачные белые перчатки до локтя, очень красивые, но совершенно не идущие к платью, и туфли натуральной кожи, на высоченном каблуке – благо рост Яхонтова позволял ей даже в этих каблуках казаться рядом с ним хрупкой и беззащитной. Весело было быть невестой, так бы и проходила в невестах до старости, честное слово!Яхонтов все время позднего своего жениховства ходил – грудь колесом, точно тридцать лет сбросил, и от избытка чувств хотелось ему какого-нибудь подвига, оглушительно-громкого поступка. В его обрывочных мечтаниях, где спасал он Любочку от ночных грабителей, выносил из огня и воды, была мальчишеская несолидность, которой не допускал он даже в ту давнюю пору, когда ухаживал за первой женой, дочерью завхоза театрального училища. Ему больше не хотелось сидеть дома у телевизора, бдительно охраняя свою женщину от возможных соперников, а тянуло на люди, к свету и блеску. Он, казалось, заново знакомил Любочку с многочисленными друзьями – так нарочито он ею хвастался, появляясь на очередном культурном мероприятии.
Однажды вечером Яхонтов зазвал Любочку на капустник в театральное училище. Было начало октября, и старшекурсники подготовили небольшое приветствие для новобранцев. Любочка идти не хотела. Даже по прошествии трех лет рана еще саднила, страшно было столкнуться здесь с людьми, которых окатывала она презрением накануне своего оглушительного провала. Но Яхонтов оказался непреклонен и идти пришлось, делать нечего. Любочка постаралась одеться как можно скромнее и незаметнее, даже тонкую нитку жемчуга, подаренную на Восьмое марта, собиралась поначалу оставить дома, да только Яхонтов настаивал и обижался – ему хотелось, чтобы его молодая прекрасная невеста блистала всегда и везде.
Вошли, сдали одежду в раздевалку. Сразу при входе, у лестницы, натолкнулись на Семенцова. Любочке стало неловко, захотелось втянуть голову в плечи и убежать прочь.
– Здравствуй, Аркадий, – обрадовался Семенцов. – Ты у нас прямо Алеша Попович, как я погляжу! Добрый молодец!
– А что нам, молодым да красивым?! – в тон ему ответил Яхонтов. – И вечный бой, покой нам только снится!
– Вечный? Ну-ну… Нам с тобою пора кефир, клистир да теплый сортир, как в том анекдоте.
– Ты, Борис, как хочешь, а я в старики записываться не намерен. Повоюем еще!
– Ну воюй, вояка, пока шашка не затупилась, – усмехнулся Семенцов.
– Не веришь?! – воскликнул раззадоренный Яхонтов, неожиданно подхватил Любочку на руки и, тяжело дыша, понес ее, насмерть перепуганную, по мраморным ступеням на второй этаж, откуда с любопытством смотрели удивленные первокурсники. Любочка обеими рукам обхватила Яхонтова за шею и со страху едва не задушила.
Он с достоинством проделал путь до площадки второго этажа, под всеобщие аплодисменты осторожно опустил покрасневшую Любочку на пол и гордо, резко, вызывающе распрямился.Тут в пояснице что-то оборвалось, Яхонтова прошила боль, и он потерял сознание. К счастью, студенты его подхватили, иначе он неминуемо скатился бы по ступенькам и переломался насмерть.Свадьбу отложили.
Второй месяц Яхонтов лежал, почти не вставая и стараясь не шевелиться, и даже дойти до туалета стоило ему огромных трудов. Утром и вечером приходила медсестра делать обезболивающие уколы; Любочка клеила Яхонтову на спину перцовый пластырь и готовила народные притирания, подавала в постель куриный бульон и овсянку, помогала бриться, причесывала, переодевала. Выздоровление продвигалось медленно, спину все не отпускало, появились пролежни.
Любочка взяла в театре отпуск, чтобы ухаживать за больным. Она спала теперь отдельно, в соседней комнате, отговариваясь тем, что боится ночью случайно потревожить его каким-нибудь неосторожным движением. На самом же деле бежала от густого запаха мазей и растирок, которыми спальня пропиталась насквозь, хоть топор вешай. Каждый раз, входя к Аркадию, чтобы покормить его и обиходить, она делала глубокий вдох, собиралась с силами, боясь показать отвращение и подступающую тошноту.
Яхонтова навещали друзья и ученики. Чаще прочих заходил Семенцов, приносил продукты и обязательно шоколадку для Любочки. Наблюдая, как возится она с Аркадием, он почувствовал к ней уважение. Она не была талантлива, да, но не всем же быть талантливыми; элементарная человеческая порядочность и забота часто оказывались важнее, и Семенцов знал об этом не хуже остальных.
Любочка, хоть виду не подавала, скучала нестерпимо. Выходить дальше магазина она не решалась, боясь оставить беспомощного жениха в одиночестве, по телефону долго болтать так и не научилась. Роль сиделки при лежачем больном давалась трудно – всё дела, дела, и никаких тебе развлечений. Любочка подолгу отмокала в пенной ванне и, закрыв глаза, представляла себя медсестричкой при военном госпитале. У медсестрички была косынка до плеч, с красным крестом во лбу, шерстяное коричневое платье и белый крахмальный передник (кажется, похожую картинку Любочка видела раньше в каком-то учебнике). К медсестричке приставали раненые солдатики. Дверь ванной всегда оставалась приоткрытой – на случай, если Аркадию что-нибудь понадобится. Иногда он действительно слабым голосом звал ее из спальни. Тогда она нехотя вылезала; не вытираясь, заворачивалась в мохнатое банное полотенце и шла, оставляя на паркете мокрые следы, узнать, что ему нужно. Она подходила – распаренная и расслабленная, наклонялась, легонько целовала в щеку; с мокрых волос капало на наволочку. Яхонтову от этого становилось, кажется, еще больнее – видеть ее такой свеженькой и прекрасной, но не уметь даже пошевелиться. Он выпрастывал руку из-под одеяла, судорожно гладил Любочку по голому колену. Хотелось плакать.
Яхонтов был польщен, что Любочка так возится с ним, немощным. Стало быть, не ошибся, нашел на старости лет человека верного и благодарного. Он лежал на крахмальных простынях, в свежем белье, окруженный заботой и вниманием, читал книги и газеты, слушал радиоприемник. Ему мешала боль. Только боль, не дающая уснуть, винтом врезающаяся в позвоночник при малейшем движении. Он начал потихонечку капризничать, как умеют капризничать только стареющие больные мужчины, просить для себя кусочка послаще. Придумал даже, чтобы Любочка читала ему вслух, но быстро от этой мысли отказался – эта девочка, как ни была прекрасна, совершенно не умела держать интонацию согласно знакам препинания.За окном была уже совершенная зима, вечерело к обеду, по телевизору транслировали все больше балет, который Любочка не понимала и не любила за бессловесность, в домашней библиотеке преобладала русская классика, еще в школе на зубах навязшая, – и всю свою молодую энергию Любочка тратила теперь на то, чтобы достойно встретить многочисленных гостей, пришедших навестить больного.Глава 21
Любочке больше нравилось, когда к Яхонтову приходили студенты. С ними было веселее и проще. Они не охали, не перечисляли свои болячки, не обсуждали последних театральных сплетен, а старались всячески ее ободрить и отвлечь от грустных мыслей.
Особенно забавлял Вася Крестовой. Этот нескладный, щупленький, лопоухий четверокурсник, больше похожий на подростка-старшеклассника, показывал уморительнейшие пантомимы и, рассказывая анекдоты, ни разу не повторился.
Однажды Вася пришел один. Почти ночью. Он был слегка навеселе, а с собою принес бутылку белого столового вина и две больших антоновки для Яхонтова. Сначала Вася около часа просидел у постели «мастера», подробно и обстоятельно рассказывая о работе над дипломным спектаклем, просил совета насчет своей роли. Потом Любочка подала больному стакан молока и блюдечко печенья. Яхонтов сказал, что утомился и будет теперь спать. Она подождала, пока он допьет молоко, заботливо подоткнула под ноги сбившееся одеяло, забрала грязный стакан и повела Васю на кухню кормить ужином.
Около двух ночи Яхонтов проснулся. Спина болела нестерпимо. Казалось, будто все тело завязано сложным морским узлом, так что и руки не поднять, и головы не повернуть. Из кухни слышался смех, доносились голоса. Два голоса – мужской и женский. Яхонтов хотел было крикнуть Любочку, но передумал, остановленный внезапным подозрением. Это было как ведро ледяной колодезной воды за шиворот.
Он стал прислушиваться. Из-за двери доносилась какая-то возня, взрывы безудержного хохота, перезвяк посуды, мерещились даже охи и стоны. Яхонтову сделалось нестерпимо холодно, дыхание перехватило. За те долгие минуты, которые показались Яхонтову часами, он успел представить себе все, на что сам из-за болезни не был сейчас способен. Ему живо рисовалась растерзанная и довольная Любочка на коленях у Васи, поскуливающая от удовольствия; в ушах на полную громкость звучало горячее молодое дыхание. Яхонтов порывался вскочить, прекратить все это, но не мог – боль держала его накрепко, не пускала, и он ворочался в своей одинокой постели, метался в отчаянии, ничего не умея предпринять.
А Любочка действительно стонала – от смеха. У нее даже бок заболел.
Принесенное вино как-то незаметно выпилось, и Вася совсем разошелся. Он нетвердо перемещался по кухне от двери к окну, изображая сокурсников и преподавателей, и особенно удавалась ему стремительная, подпрыгивающая походка мэтра Семенцова; он выдвинул на середину кухни стул и сделал на нем стойку на руках – тапочки едва не свалились в тарелку, закачалась, набирая амплитуду, люстра, задетая ногами; покатилась по столу и брызнула об пол грязная рюмка, которую Любочка случайно смахнула, пополам сложившись от хохота.
Вася рассказывал и рассказывал, и чем больше пьянел, тем смешнее становились его истории.
– Ботинки… к полу… гвоздями… Ой, не могу! – стонала Любочка.
– А еще касторка, полный стакан! – вторил ей Вася. – Он… его… за щеками… И прямо на декоратора, представляешь?! Еле донес!
– А что, что декоратор-то?
– Матом его… В семь этажей… Так что в зале слышно… Со сцены Шекспир, представляешь…
– … а тут матом…
– … и зрители такие сидят…
– Ой, не смеши! Не могу больше!– Не можешь? А я смотри что умею! Внимательно смотри! – и Вася, окаменев мышцами лица, старательно пошевелил своими большими оттопыренными ушами…Яхонтов собрал всю волю в кулак, перевернулся на живот и, кривясь от боли, сполз с кровати. Сначала он стоял на четвереньках – восстанавливал разлаженное дыхание; упершись лбом в перекрученную простыню, считал до десяти и обратно, чтобы не закричать. Потом с величайшим трудом поднялся, обрушив с прикроватной тумбочки тарелку недоеденного печенья, и осторожно пополз по стеночке – сделал шаг, другой. Каждое движение остро отдавалось в пояснице. За время болезни Яхонтов похудел, и клетчатые семейные трусы едва держались на бедрах, растянутая домашняя майка сползала с плеча. Искать тапочки не было сил, и он так и шел босой – по колючим крошкам печенья, по холодному скользкому полу, хватаясь за дверные косяки, за стенку, за вешалку – к прямоугольнику оранжевого света, струящегося из-за мутного тонированного стекла, за которым ходили нетвердые тени и все громче звучал предательский Любочкин смех.
Шажок, еще шажок – и он дошел, резко распахнул кухонную дверь. Дверь стукнулась о стену, жалобно задребезжало стекло.Любочка сидела на табуретке, обхватив себя обеими руками за живот, и хохотала. Щеки ее были красны, волосы растрепаны, глаза счастливо блестели. А у окна стоял, нелепо раскинув руки в стороны, любимый ученик Вася Крестовой, и его измятая рубаха углом вылезала из брюк.– Аркаша, что?! Тебе плохо, да? – Любочка подбежала к нему, хотела обхватить, подставить плечо для опоры, но он ее оттолкнул; из-за резкого движения аж зашелся от боли, так что слезы на глазах выступили.
Вася всё понял, едва увидел учителя в дверях – жалкого, всклокоченного, бледного, босого, в сползших трусах. Он молча оправился и скользнул мимо, в коридор, даже не попрощавшись. Тихо захлопнулась входная дверь.
– Аркаша, милый, что с тобой?! – встревожилась Любочка. – «Скорую» вызвать?
– Су-ука! – проревел Яхонтов и со всех своих слабых силенок ударил Любочку по лицу.
Глава 22
За Любочку Галина Алексеевна была теперь относительно спокойна и все силы посвятила воспитанию Илюшеньки.
В пятницу после обеда, вместо того чтобы отметить с мужиками окончание трудовой недели, Петр Василич заводил свой на ладан дышащий автомобилишко и вез мальчика в Красноярск, в Дом пионеров, на уроки живописи. Были куплены Илюше изящный детский этюдник, беличьи кисточки третьего, четвертого и восьмого номеров и набор ленинградской акварели на меду (по последнему пункту пришлось стоять в очереди три с лишним часа). А по субботам, с утра пораньше, квелого упирающегося внука, еще не вполне проснувшегося, положено было везти в музыкальную школу – на фортепьяно и на вокал.
Петру Василичу это было в радость – Илюшеньку он любил фанатично.
Конечно, выбор занятий не пришелся старому бригадиру по душе. Отдали бы лучше на авиамоделирование, что ли. Или на самбо. Только спорить с женой он давно уж зарекся. Вот и насчет Любки оказалась она права, взяли ее в артистки. Так что смирился, решил – Алексеевне виднее; из города на крытом грузовике было доставлено в Выезжий Лог черное блестящее пианино «Красный Октябрь», которое в дом вносили с мужиками вшестером, все руки себе оборвав; по вечерам после детского сада Илюшенька под строгим надзором Галины Алексеевны нехотя гонял на нем гаммы. По дому были в беспорядке раскиданы ноты за первый класс и акварельные рисунки – яблоки, танки и вазы.
Рисовал Илюшенька, честно говоря, так себе. Не чувствовал ни пропорций, ни перспективы: яблоки выходили похожими на блины, вазы – на замочные скважины; самый удачный танк, повешенный Галиной Алексеевной на почетном месте над пианино, напоминал шляпу, которую проткнули палкой. Зато с музыкой дела сразу пошли на лад. У Илюшеньки обнаружился абсолютный слух. Поэтому, когда поступило предложение отправить мальчика учиться в детскую школу-интернат при Новосибирской консерватории имени Глинки, Галина Алексеевна согласилась не раздумывая. «Жаль, конечно, что не Москва и не Ленинград, – размышляла Галина Алексеевна, – ну да ничего, мы еще повоюем!»
Она приняла это решение единолично, ни с кем не посоветовавшись, так что Петр Василич оказался поставлен перед фактом накануне отъезда, когда Галина Алексеевна предъявила ему два билета до Новосибирска – на себя и на внука. К тому времени она уже успела списаться с «профессорами» и обо всем с Валентиной Сергеевной договорилась. Галина Алексеевна справедливо рассудила, что у родственников будет мальчику лучше, чем в интернате.
Новосибирская бабушка была рада, что внук будет жить и учиться у нее: она как раз вышла на пенсию, похоронила старенькую тяжелобольную мать, и приложить кипучую свою энергию стало решительно некуда. Зато Петр Василич пребывал в бешенстве.
– Совсем ты, мать, белены объелась! – кричал он на Галину Алексеевну в сердцах. – Мало тебе, что с пяти лет мальчонку по кружкам умотала? Так теперь и с глаз долой?! А вот не пущу, и точка!
– Пу-устишь, куда денешься! Дурак ты старый! – парировала Галина Алексеевна. – Заучили маленького, вишь ты! Скажите пожалуйста!
– А и заучили! – грозился Петр Василич. – Ему бы с пацанами в войнушку, а он бренчит цельный вечер, как заведенный!
– От войнушки твоей польза невелика. На себя вон посмотри. Много добился-то? Всего и занятий – шабашить да под «москвичонком» пыль собирать!
– А денежка тебе, поди, с неба падает, ладоши только подставляй?
– Денежка… Да кому она нужна, твоя денежка, в эдакой дыре? Куда ее потратить-то здесь? Катанки разве прикупить.
– То-то ты в каракуле ходишь, что я все на катанку извел! – пуще прежнего заводился бригадир. – Любку-то хоть спросила? Она ему, я чай, мать!
– Любка мала еще – решения такие принимать! – выходила из себя Галина Алексеевна. – Где бы она была сейчас, кабы не я? В Шаманке сратой сидела, спиною печь подпирала! Ты мне Любку не тронь! Ей год доучиться надо! И мы с тобой не молодые уже, пусть теперь «профессора» повоспитывают! А то, ишь, хорошо устроились!Так и препирались до самого отъезда. Петр Василич во время этих скандалов зло ходил по кухне из угла в угол, шаркая тапочками, а Галина Алексеевна деловито паковала чемоданы.Илюшенька во время домашних бурь забивался в дальний угол в сенях и тихонечко плакал. Ехать он никуда не хотел, боялся. И что родители ругались – боялся. Это было странно, непривычно. Он рос тихим домашним мальчиком. Галину Алексеевну давно уже звал мамой, Петра Василича – папой. В детском саду его часто обижали – задирались, ругали «соплей» и «нюней», а иной раз даже обидным словом «интеллигент», пугающим своей непонятностью. Гулять Илюшенька из-за этого не любил. Уж лучше было за пианино, под маминым присмотром, долгими вечерами перебирать звуки. Или рисовать героические краснозвездные танки. Или подавать папе, лежащему под машиной, увесистый промасленный инструмент. Или смотреть мультики по телевизору. Или полоть грядку. Или рассматривать картинки в книжках. Все что угодно, только не на улицу, где стреляют из рогатки в спину, всей толпой ни за что ни про что валяют в сугробе, обзываются и исподтишка цепляют репей в волосы.
Пока Любочка разбиралась со своей непростой личной жизнью, судьба Илюшеньки устроилась самым благополучным образом. Вторая бабушка оказалась веселая и добрая, да и с ребятами из музыкальной школы он быстро подружился – для них не было никакого чуда в том, чтобы с утра до вечера бренчать, дудеть или пиликать.
Валентина Сергеевна очень старалась – ей хотелось избежать всех тех ошибок в воспитании, которые были допущены с Героем Берлина. Ведь обалдуй же вырос и пустой прожектёр, хоть и учитель.
Посоветовавшись с мужем, рисование она отменила как бесперспективное. Зато, помимо музыки, новосибирский дед Боря дважды в неделю возил мальчика в футбольную секцию на другой конец города.
Пианино из Выезжего Лога забирать не стали, купили другое, точно такое же. Для дополнительных занятий наняли частного педагога – тут же, при консерватории. Про него говорили, что он лучше всех в городе ставит руку. А еще дед Боря по вечерам повадился решать с Илюшенькой разные смешные логические задачки, так что теперь мальчик не рисовал яблоки, а считал их (и это, кстати сказать, у него гораздо лучше выходило). Бабушка Валя быстро научила мальчика читать и в течение следующих лет, памятуя об ошибках прошлого, старалась, чтобы в руки ему попадало поменьше приключенческих романов и побольше добрых поучительных реалистических историй из «Библиотечки школьника».Илюшенька делал успехи в музыке. Консерваторские преподаватели его хвалили и намекали на большие перспективы. И футболисты его хвалили – за высокую скорость и отменную реакцию. А когда мальчику исполнилось семь лет, его по знакомству отдали учиться в самую престижную английскую спецшколу города. Там Илюшу тоже потом хвалили – за великолепное произношение (должно быть, при абсолютном слухе явление это было неудивительное).Петр Василич тяжело пережил разлуку с мальчиком. Заскучал, зачах, стал часто выпивать с друзьями-приятелями. Очень он был обижен на жену за то, что чуть не в двадцать четыре часа собрала и отправила внука к чужим людям, которых никогда в жизни не видела. Да будь они хоть какая родня, все это казалось Петру Василичу как-то не по-человечески. Так до конца дней своих и не простил.
А жизнь меж тем показала, что напрасно сердился на жену старый бригадир. Галина Алексеевна много наделала глупостей, но это был тот редкий случай, когда она оказалась права.
Глава 23
Свадебное платье висело в шкафу у Любочкиной приятельницы Нины, тщательно отглаженное и бережно обернутое целлофаном, – до лучших времен.
Любочка верила, что с Аркадием все наладится, дай только срок. Конечно, получить ни за что ни про что пощечину было ужасно обидно, и сначала Любочка долго рыдала в подушку в большой комнате, но, странно, Аркадий никак на это не среагировал. Проковылял в свою комнату, с трудом, сопя и постанывая, улегся. Так что, хочешь не хочешь, пришлось успокоиться. Нельзя же плакать все время.
«Господи, какое нелепое недоразумение», – думала Любочка, засыпая.
Наутро она как ни в чем не бывало понесла Яхонтову овсяную кашу. Он есть отказался. Поднос царственным жестом отстранил и молча отвернулся к окну. Опять стало очень обидно. Но, оставив гордость (отчасти это объяснялось тем, что Любочка чувствовала себя немного виноватой: не понес бы ее по лестнице – не лежал бы сейчас обездвиженный, отчасти страхом потерять нажитое в этом доме добро; да и гордости было негусто, если откровенно), Любочка стала подробно и сбивчиво объяснять про вчерашнее. Яхонтов сурово молчал, Любочка волновалась, от волнения рассказ ее все больше запутывался, а оскорбленный жених еще больше укреплялся в своих подозрениях. Как-то глупо все выходило. И всё – одно к одному, одно к одному.
Через два дня, не выдержав каменного этого молчания, Любочка попросилась пожить к Нине в театральное общежитие. С Ниной они вместе работали и немного дружили. Это был типичный случай дружбы по возрасту: Нине было двадцать семь, Любочке – двадцать четыре, остальным коллегам – глухо за сорок пять. Сначала Любочка думала, что Яхонтов пообижается-пообижается, да и приползет с покаянием. Но шли дни, недели, а от него – ни слуху ни духу. Она пыталась ему звонить – он бросал трубку. Ссора странным образом затягивалась – разрасталась, точно бензиновое пятно на воде.