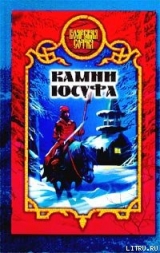
Текст книги "Камни Юсуфа"
Автор книги: Виктория Дьякова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Благодарствую, батюшка, за совет, – князь поднялся. – Пора мне. Завтра отстою обедню святому Кириллу – и в дорогу.
– Ну, с Богом. Храни тебя Господь, – Геласий снял со стены икону Богоматери, Алексей опустился на колени, склонив голову.
– Благословляю тебя, – иеромонах перекрестил князя иконой. – Помни, что денно и нощно молюсь я о здравии твоем и об успехах твоих, ратных и думных.
Алексей поцеловал икону, прижался на мгновение лицом к святому изображению:
– Помню, батюшка. Живота не пожалею, коли придется.
– Пойдем, провожу тебя до крыльца. Княгинюшке, красавице, кланяйся в пояс от меня. Зинка-то Голицына хоть и богата, а красавицы равной княгине Вассиане во всем свете не сыщешь. Береги ее от завистников. И сам берегись. Князю Никите Романовичу от меня поклон и благословение, Григорию тоже. На брата моего Афанасия всегда положиться можешь. У него в Москве остановишься – тоже кланяйся. Сугорским, если свидитесь – поклон. Скажи всем, как духовный пастырь, одно намерение имею и один завет для всех: чтоб род наш был един и славен. А ты – сердечная надежа наша, Алексей Петрович. С Богом, с Богом, князюшка, поезжай.
* * *
Возвращаясь в усадьбу, Алексей думал обо всем, что узнал от Геласия. Особенно встревожили его слухи об иноземцах в белозерских лесах. Леса вокруг были глухие, густые, заплутать в них легко, коли без проводника идти. Вряд ли смогли бы иноземцы, кто бы они ни были, без помощи местных изменников обойтись. Надо послать людей порасспросить народ.
Новости о притязаниях князя Андомского тоже не радовали. Алчный, самолюбивый Голенище привык добиваться своих целей, не считаясь ни с кем и ни с чем. Из Белозерского дома изгнан он был шесть лет назад за воровство, точнее за попытку воровства.
Украсть Андрюшка вознамерился все те же рубины Юсуфа из ризницы Кириллово-Белозерского монастыря. А причиной послужил отказ боярина Старицкого выдать за Андрюшку свою старшую дочь Марию, которую Андрюшка приглядел как-то в Москве на пасхальных гуляниях. Мол, бедноват жених, всего лишь пятый или десятый по знатности среди своих сородичей, да и наследством не вышел, чай не Белозерский князь и даже не Ухтомский…
Через своих дружков, чтобы не вызывать подозрений, Андрюшка подговорил Марию бежать вместе с ним на смоленщину, где рассчитывал укрыться у князя Захария Сугорского, тамошнего воеводы, некогда весьма к Андрюшке расположенного. Вести из Москвы до Смоленска когда еще дойдут – а там видно будет, можно и в Литву податься. А чтобы было чем торговаться со строптивым папашей да утереть ему нос, решил Голенище выкрасть из ризницы Кириллово-Белозерского монастыря знаменитые рубины, подаренные великим князем Василием и княгиней Еленой. Когда хватятся – уже поздно будет: дочка честь не сберегла, людская молва страшна – куда папаше деваться, придется девку за ожерелье отдавать.
Только прослышал о его намерениях кто-то из дворовых и донес князю Ивану Петровичу. Князь предупредил монахов монастыря. Рубины из ризницы вынесли, а Андрюшку прямо на месте преступления и поймали. С позором князь Андомский из Белозерья бежал, а разгневанный боярин Старицкий, которому сам князь Иван Петрович рассказал о намерениях его несостоявшегося зятя, вынудил дочь за черные помыслы ее постричься в монахини и отмаливать грехи. Несколько лет об Андрюшке не было ни слуху ни духу, но видать, обиды старые он не позабыл.
Богатая добыча Юсуф-мурзы на московском шляхе, как оказывается, не давала покоя не только одному Андрюшке. Кто-то еще явно вознамерился легко разбогатеть за счет грязного дела, как следовало из рассказа Геласия. Но кто?
Россказням о неведомой злой силе, якобы охраняющей камни, князь Алексей не верил, хотя у него было не меньше поводов, чем у самого Юсуфа, в существовании той силы убедиться. Со злосчастными рубинами, как уверяла столетняя знахарка и ведунья Лукинична, почти всю жизнь прожившая в усадьбе князей Белозерских и лечившая его мать, была связана смерть княгини Натальи Кирилловны. Синеокая красавица Наталья Кирилловна, урожденная Шереметева, славилась на всю северную Русь не только редкостной природной красотой своей, но и добрым, отзывчивым сердцем. Немало средств из богатого приданого, пожалованного ей отцом, потратила она на устроение богомольных домов и приютов для нищих, убогих стариков и детей-сирот по всему белозерскому краю, жертвовала на монастыри, с особым же рвением и сочувствием души помогала она игумену Кириллово-Белозерского монастыря в устроении госпиталей для изувеченных воинов.
За благочестивое рвение ее игумен монастыря преподнес княгине на именины рубиновое ожерелье из ризницы обители. Надела его Наталья Кирилловна только раз – когда принимала у себя в усадьбе подругу свою, вдовствующую великую княгиню Елену с малолетним сыном Иваном. Вскоре после отъезда великой княгини Наталья Кирилловна заболела. Чем только ни лечили ее, кого только ни звали к больной: и сновидцев, и волхвов, и народных знахарей-травников, и чухонских колдунов-язычников, и порчу отводили, и сглазы снимали, за Орловым камнем посылали, змеиные рожки толкли в порошок, наузы завязывали да наговаривали на них, монастырская братия молилась денно и нощно – ничто не помогло. Княгиня угасала на глазах, а на теле ее уже на второй день болезни как раз в том месте, где висело ожерелье, появилась красноватая сыпь, и чем ни терли ее, чем ни выводили, пятна все увеличивались, постепенно превращаясь в кровоточащие язвы.
Не спас и ученый лекарь-итальянец, присланный из Москвы великой княгиней Еленой. Через десять дней с начала болезни Наталья Кирилловна умерла. Лекарь сказал – от простудной лихорадки.
Среди дворовых долго ходили слухи – мол, наслали по ветру на государыню кручину или след из-под ноги выбрали злоумышленники, чтобы иссушить. Только Лукинична была уверена, что вся беда – в злосчастных рубинах. Заклинание лежит на них, проклятые камни всю жизнь из Натальи Кирилловны и высосали. Десять камней в ожерелье – вот десять дней и промучилась, бедняжка, пока каждый не насытился. Ведь никто и не подумал прежде, что княгиня Белозерская стала первой, кто надел ожерелье из ларца после гибели иностранца на шляхе.
Князь Петр Иванович, глубоко верующий и благочестивый человек, Лукиничну слушать не стал, приказал ей помалкивать, а ожерелье вернул монастырю вместе с другими драгоценностями умершей супруги на помин души усопшей.
Сам он пережил любимую жену на два года. От перенесенного горя открылись раны, полученные в государевых походах, и князь Петр Иванович Белозерский скончался, оставив сиротами двоих сыновей своих, Ивана и Алексея, на попечение дядьев князя Юрия Шелешпанского и Романа Ухтомского, да на неустанные заботы великой княгини Елены, оплакивавшей смерть Натальи Кирилловны.
Но чем ближе подъезжал Алексей Петрович к дому, тем чаще мысли его обращались к Вассиане. Привязанность его к гречанке не допускала разлук, терзая сердце тоской даже и при кратком расставании. Оттого везде и всюду, на поле брани и в посольских трудах Вассиана следовала за ним, подруга, советчица, утешительница… Теперь, после гибели старшего брата Ивана, она стала самым близким ему человеком.
Оставшись без матери в раннем детстве, Вассиана за месяц до встречи с русским князем похоронила своего отца.
Обитая позолоченными листами галера с бордовыми парусами и командой немых чернокожих матросов, объяснявшихся между собой жестами, да полуразрушенный замок где-то на одном из средиземноморских островов – вот и все, что досталось обедневшей греческой царевне от отца-мореплавателя.
Чуть не каждый день князь вспоминал, как в первое утро их знакомства он вышел с Вассианой на палубу. Солнце только всходило, дул восточный пассат, друг всех мореходов. Золотая галера под бордовыми парусами неслась навстречу солнцу, гордо рассекая бирюзово-алые волны. Гречанка прошла на самый нос корабля и, прижавшись щекой к золотому венку богини, украшавшей галеру, с нетерпением всматривалась в даль: когда же появится берег? Ветер трепал ее длинные черные волосы, глаза блестели бронзовой лазурью навстречу приветственным лучам восхода. Ее дивное стройное тело сливалось в едином стремлении с наполненными ветром парусами: скорее, скорей…
Ревниво поглядывал с мостика галеры на незваного русского принца, капитан, молчаливый, гордый, наполовину испанец, наполовину араб, как выяснилось позднее, выходец из знатного кастильского рода, дон Гарсиа де Армес де Лос-Анхелес. Он начал служить еще при отце Вассианы и был единственным человеком на корабле кроме нее самой, кто не только слышал, видел, но и говорил. Это его команды беспрекословно выполняли чернокожие матросы, это он каждый день обедал и ужинал за одним столом с хозяйкой, скрашивая беседой морские путешествия. Дерзко и уверенно он вел галеру по зеленоватым зыбям Тирренского моря, мимо базальтовых скал островов, небрежно стряхивая с ботфорт клочья соленой морской пены, залетающие на мостик.
По словам Вассианы, ее отец однажды повстречал де Армеса в порту Барселоны. Испанец понравился ему, и грек пригласил дворянина к себе на службу. Когда-то капитан служил на испанском флоте и даже принял участие во втором походе Кортеса в страну ацтеков.
Аристократические манеры испанца, его изысканный вкус в одежде и в еде, расшитые золотом неизменные брабантские манжеты и фамильный кастильский клинок на поясе с усыпанным алмазами и сапфирами эфесом свидетельствовали о благородстве происхождения, а шрамы на теле и лице – о недюжинной отваге и яростных схватках в далеких странствиях.
Теперь «золотая» галера качается на волнах Белого озера прямо напротив княжеского дома. Вассиана скорее бы умерла, чем рассталась с единственной памятью о своем отце, и преданный ей капитан привел сюда судно северным торговым путем, по которому издавна ходили русские торговые суда в Англию и Европу – через Белое море и Онежское озеро, по холодным ледовитым морям, на которые не отваживались высовываться датские пираты и балтийские витальеры.
Католик по вере, капитан де Армес с завидным хладнокровием принял решение хозяйки переехать жить в православную страну. На Белозерье он на удивление быстро выучился понимать и даже немного говорить по-русски, сдружился с Никитой Ухтомским. Вместе они ездили на охоту и даже ходили в русскую баню. Ныне почти все обитатели усадьбы воспринимали его как своего, и давно забыли, что всего пару лет назад шарахались, как от чумного…
* * *
Впереди показалась княжеская усадьба, основанная еще князем Глебом Васильевичем Белозерским, но неоднократно перестраивавшаяся с тех пор. По величине она была огромна, почти равнялась царской – около четырех десятин земли – и стояла на одном из холмов, дабы избежать паводков, нередких в этих местах весной. Оборонял усадьбу высокий прочный частокол с пряслами и смотровыми вышками от набегов незваных гостей из соседних лесов: волков, лисиц, да и разного бродячего люда тоже. Внутрь вело семь ворот. Главными считались те, что выходили к озеру – их украшали киот с иконами и столбы, покрытые резной росписью. Почти всегда, и днем и ночью, ворота держали на запоре – лучше лишний раз створку распахнуть, чем единожды ворога внутрь пустить.
Княжеские хоромы располагались на самой вершине холма. Это был четырехугольной формы дом с каменным подклетом и двухэтажной надстройкой из дубовых бревен. Он состоял из восьми отдельных строений, соединенных вместе переходами и общей крышей. Каждая ветвь рода белозерских князей, в том числе и три уже угасших, имели под этой крышей свои отдельные покои.
Княжеский дом отнюдь не отличался стройностью: его достраивали, перестраивали, надстраивали на протяжении веков, и гармонией пропорций он вряд ли мог порадовать глаз. Крыша терема, сделанная из теса, была покрыта от сырости березовой корой и потому казалась пестрой. На фронтонах и на стенах дома резьбой были выполнены украшения: сцены из истории белозерского края, из сказаний о князе Васильковиче, просто листья, цветы, травы. Тончайшая резьба, напоминающая работу белозерских кружевниц, окаймляла окна и выписаны ставни.
Окон в здании имелось немало: как большие, так называемые «красные», так и обычные, поменьше, причем маленьких несравненно больше. Окна поменьше закрывались по традиции прозрачной слюдой, расписанной узорами, в «красных» же окнах красовалось недоступное простым дворянам и боярам драгоценное цветное венецианское стекло, привезенное князем из Италии.
За домом и по обеим сторонам усадьбы вдоль забора располагались различные хозяйственные постройки. Тут были хлебни и поварня, для приготовления еды, причем небольшая поварня для разогревания уже готовой еды находилась прямо в доме. Рядом – домик для пивоварения и винокурня, так как белозерские князья с давних пор имели государево разрешение варить пиво и курить вино. Далее виднелась мыльня, отдельный домик с печью и притвором, в дополнение к тем маленьким мыльням, которые устраивались для хозяев в первом этаже их покоев.
Отдельный сосновый сруб у самого озера – просторная русская баня с мостками, выдающимися в озеро: чтоб и охладиться после парилки, и чтоб белье прополоскать. За господским домом, дабы не мозолили глаз, стояли двухэтажные клети для хранения имущества и погреба с ледниками. В отдельных дворах, отгороженных заметами от главного – житница, конюшня с сенницей наверху, рядом – сараи для экипажей, сараи для дров, хлев для свиней и коров, птичники для кур, уток и гусей, омшанники для зимовки пчел. Между дворами располагались гумно и овин с печами и ригами. По краям усадьбы обосновались кузнецы, а за двором на одном из притоков Белого озера высилась мельница. Перед господским домом был разбит пышный сад из вишневых, грушевых деревьев, яблоневые аллеи окаймляли его с обеих сторон. Где-то вдалеке виднелись теплицы и огороды, на которых княжеские люди выращивали не только привычные русские огурцы, морковь, свеклу, репу, но и апельсины, и сладкий виноград.
Со стороны княжеский дом напоминал настоящий город. Да что там напоминал – в близкой Европе имелось не так уж много городов, которые могли бы своими размерами и богатством соперничать с просторной усадьбой белозерских князей.
Всем хозяйством в доме Алексея Петровича заведовали ключник Матвей и его жена Ефросинья. Коренные белозерцы, жили они в княжеской усадьбе давно, служить начали еще при отце Алексея Петровича. Княгиня Наталья Кирилловна, вникавшая в хозяйственные дела, Матвея и Ефросинью жаловала, дарила подарками, доверяла всецело.
Главным же распорядителем по служилому люду считался дворецкий Василий, помнивший не только отца Алексея Петровича, но еще и его деда. Был он вдовец, жил с внучкой Настасьей, главной поварихой и творительницей знаменитых застолий белозерских князей, не раз встречавших на пиры в своей усадьбе посещавшего Кириллов монастырь государя московского.
Все вместе они преданно берегли княжеское имущество, чтобы ничего не разворовывалось и не ломалось, и будучи в дальних отлучках по делам государевым, князь Алексей Петрович мог быть вполне уверен, что по возвращении найдет свой дом в целости и сохранности.
Проехав по аллее уже отцветающих пышным розовым цветом яблонь, князь Алексей подскакал к дому. Еще издалека, он услышал раскаты громкого хохота на площади перед крыльцом.
Князья Ухтомский и Вадбольский в вышитых шелковых рубахах, лихо подпоясанных золототкаными поясами, испанец де Армес, чопорный и застегнутый до последней пуговки на рукаве, холопы, дворовые девки в узорчатых белозерских кокошниках и с цветными лентами в волосах, даже ключник и дворецкий, хотя время было предобеденное, самое горячее по хозяйству – одним словом, весь честной народ, кроме княгини, сгрудились вокруг двоих захваченных по дороге в Белозерье свенов, один из которых, тот что поплотнее и повыше, активно жестикулируя, что-то рассказывал окружавшему его собранию. Второй же, тезка князя, сидел рядом с вытянутым лицом и явно не разделял общего настроения.
Явление на лесной поляне двух иноземцев, хотя и говорящих по-русски, но в неведомых одеждах, со странными манерами, в первую минуту побудило князя отдать приказ повязать их и сдать в ближнем городе в Разбойный приказ. Мало ли кто бродит по лесам? То ли ведуны какие, то ли и того хуже – сатанинская сила во плоти.
И не жить бы иноземцам, если бы Вассиана не вступилась за них. Как она сказала, когда-то много лет назад ей довелось побывать в их краях, и чудные нравы свенов не должны никого пугать. Оба они христиане. Более того – православные. Могут оказаться полезны во многих делах. А что до речей их, да до манер – так все же люди на земле говорят по-разному и по-разному одеваются.
Она распорядилась, чтобы иноземцам выдали одежду, и теперь в кафтанах да в отороченных мехом шапках они, по крайней мере на первый взгляд, ничем не отличались от окружавших их служивых людей. Только вот верхом плоховато ездили.
– Ну, расскажи, расскажи еще о своем царе! – подбивал Никита Романович одного из свенов, Виктора. Именно так, на французский манер, с ударением на последний слог называла Вассиана старшего из иноземцев, – Как ты говорил, его величают? Чудно как-то…
– Феликс Эдмундович, – солидно повторил Витя – Ты, боярин, не смейся зря. Я там, – он на миг замялся, – ну, в княжестве своем, в большом уважении был. Феликс Эдмундович меня примечал. Он без меня ни одного решения не принимал. Чуть выйдет какое дело, ну, война там, значит, или еще что, так он сразу, позво… ой, нет, пригласите, да, сразу, пригласите Растопченко, говорит, я без Растопченко не могу принять решения. И все бегут, ищут меня. А я всегда готов. Днем и ночью. Сразу оперативка, ой, то есть это… вече собираем, думу, ну, нашу, в княжестве. Я быстро всем распоряжения даю. А Феликс Эдмундович во всем со мной соглашается. Только и говорит: спросите Растопченко, Растопченко лучше знает…
– А этот твой Феликс Эдмундович к Сигизмунду, королю польскому, никакого отношения не имеет? – поинтересовался молодой Гришка Вадбольский. – Что-то звучит похоже.
– Да, не-е, – Витя махнул рукой, – какой там Сигизмунд, не смешите меня. Он похож… Да кстати, у меня же портрет его есть, – Растопченко вспомнил, что обнаружил в старой своей одежде в кармане наградной значок «80 лет ВЧК» с изображением Дзержинского и теперь все время носил при себе. – Во, смотри.
– Ну-ка, ну-ка, – князь Ухтомский выхватил значок из рук Вити и присвистнул: – Гриш, гляди, на царя-то Иоанна Васильевича как похож, прям, одно лицо. Не родственник ли Рюриковичам будет?
– Как не быть, – уверенно ответил Витя. – Самый что ни на есть прямой. Царь же.
Сидевший рядом с ним Рыбкин закашлялся. Витя стукнул его по спине и как ни в чем не бывало продолжал:
– У меня один раз такой случай вышел. Война шла большая там у нас. С немцами. С тевтонами, значит.
– И у вас с тевтонами? – удивился Вадбольский
– И у нас с тевтонами. А меня послали на важное дело. В самое логово их, поразузнать, что там да как. Иду я, значит, по коридору рейхсканцелярии…
– Где идешь? – в один голос спросили слушавшие.
– Ну, по замку иду, по замку их, – опомнился Витя
– А-а…
– Вот, говорю же, а тевтон их главный, Мюллер, фамилия у него такая, он меня уже подозревать начал, стакан мне сует. Выпей мол, водички. А я ему: «Чего водички-то, водки давай!»
– Вот правильно, – согласился Никита – Ну и что, дал?
– Налил. И я ему тост сразу: «За победу, говорю, за нашу победу!». И выпил залпом, не закусывая. Он так и обомлел. А пока он там раздумывал, я сразу за Катюшей…
– Верно, с молодухой-то оно веселее, – поддержал Никита.
– Да нет, темнота, это пушка такая у нас есть, «Катюша» называется. Я из нее как шарахну. Вся эта рейхсканцелярия, то есть замок их – вдребезги. Я документы прихватил, ну, свитки всякие там, грамоты, летописи, и к своим. Разгромили мы их за милу душу. Меня Феликс Эдмундович потом награждал. Я отказывался, ведь не за награды же старался – за Родину. А он мне: «Виктор, помни, с чего начинается Родина». Аж прослезился. И товарищ Сталин меня хвалил. Всем в пример ставил.
– А это еще кто таков? – удивился Ухтомский, – что-то мы о нем пока не слыхивали. Тоже царь?
– Да нет, боярин там один… – Витя, понимая, что слегка запутался, постарался уйти от ответа. – А работать как тяжело было, – перевел он тему, – все самому, самому, поручить некому. Тугодумы все такие. Вот подчиненный у меня был, ну, порученец, Безруков фамилия. Так выгнать пришлось, ни черта не соображает, только портил все. Уж я ему и так, и так объяснял…
– Да ты бы приказал его выпороть хорошенько, – весело посоветовал Никита. – Коли работать не хочет, пороть надо, вот и весь сказ. Верно я говорю? – он обернулся и тут заметил подъехавшего князя Алексея.
– Вот рассказывают нам свены о жизни ихней заморской, – весело сообщил Никита, беря под уздцы княжеского коня. – Ты бы послушал, Алексей Петрович. Не скучают свены за морем, воюют, да все с молодухами на войну ходят. Тевтоны, знаешь, и до них добрались, оказывается.
– Некогда мне слушать, – ответил князь, спрыгивая с лошади, – пойдем, Никита, надо потолковать. А остальные пусть слушают, коли охота. Тебе потом расскажут.
Видя, что князь настроен серьезно, даже озабочен, Ухтомский перестал шутить, пожал плечами и послушно последовал за Алексеем в дом. Настроение князя повлияло и на остальных, народ постепенно разошелся. Витя спрыгнул с опрокинутой бочки, сидя на которой он выступал перед публикой. Рыбкин, помалкивавший перед тем, наконец, высказал свое отношение к его рассказам, покрутив пальцем у виска:
– Спятили, что ли, товарищ майор, – тихо, чтоб не услышали, сказал он, наклонившись к витиному уху, – про Дзержинского такое говорить? Стыдно ведь, а вдруг раскусят?
– Да ладно, – отмахнулся Витя. – Откуда им знать-то? Ты вот что лучше мне скажи, тебе испанец этот, который на золотой лодке капитан, как? Подозрительным не кажется?
– Нет, а что? – удивился Рыбкин.
– Да так, ничего пока, – ответил Витя, – но иностранец все-таки. Ты присматривай, присматривай за ним. Католик он, а католики православных не любят. Читал, наверное, в учебниках? Так что гляди в оба.
– А зачем? – не понял Рыбкин
– Гляди, я тебе сказал, – повысил голос Растопченко. – Мы с тобой что, даром тут хлеб едим? Работать должны. Мало ли что… Коли не хочешь, чтобы тебя в огородники на задний двор сослали, показать себя нужно. Хоть как-то. Полезность свою доказать.
– А-а…
– Вот тебе и а-а… Все вы в милиции лопухи. Вот, гляди, все разошлись, а испанец все ходит и ходит по двору. А чего ходит? И князя вон каким взглядом проводил. Недобрым. А с чего бы это?
– Да как с чего, ревнует просто, – уверенно заключил Рыбкин – Он же давно с княгиней был, как Никита рассказывал, а тут, здрасьте, приехали в Московию.
– Простофиля ты, – еще раз одернул его Витя. – Если ревнует – не наше дело. Но разобраться надо. Может, он еще чего надумал. А вдруг покушение организует? У князя охрана-то вроде тебя, такие же оболтусы. Ни пароля у них, ни информации никакой, что за люди там на лодке – знать не знает никто, и даже в ус не дуют. А они не откуда-нибудь, из Италии приплыли. Иностранцы у нас с сотворения мира всегда напакостить норовят, нутро у них такое. Желание подгадить в крови, по наследству передается.
– Не надо нам лезть, – засомневался Рыбкин, – разгневаем княгиню. А она единственная наша заступница. Худо нам будет. Князь княгиню очень любит. Убьет за нее, если обидим.
– А мы княгиню не тронем, – пообещал Витя, – мы ее людишек пощупаем. Она сама-то, наверняка, не все про них знает. А мы узнаем. И если что – князю доложим. Тогда за место свое можно уже не бояться будет, говно выгребать не сошлют.
– Ну, если так… – кисло согласился Рыбкин.
– Ладно, не ной, пошли в дом, – Витя хлопнул приунывшего сержанта по плечу. – Делай, что я говорю, и полный порядок будет.
Сообразив, что ухнулся он в дебри веков окончательно и бесповоротно, и к своей обычной жизни ему уже никогда не вернуться, Растопченко, отоспавшись, да отъевшись немного на княжеских харчах, слегка успокоился, осмотрелся и решил, что раз так вышло, надо бы поудобнее устроиться в новой обстановке. Используя старый опыт работы в органах, путь для этого Витя видел только один и весьма привычный – выслужиться. А для этого проще всего кого-нибудь заложить. Выслужиться необходимо перед начальством – это был, конечно, князь Белозерский, он тут самый главный. А вот кого заложить?
Людишек вокруг много, весьма разномастных, ближайшее окружение трогать опасно – можно нарваться на неприятности. Какие там у них отношения – сразу не разберешь. Настучишь на доверенного человека – тебе же хвоста и накрутят. А вот кто подальше, меньше на княжеских глазах, тех и подставить можно. Князь, он ведь и в Африке князь. Он, как и все начальники, мыслит крупно, глобально, в мелочах копаться не станет, если правильно материальчик поднести – рубанет и готово. Старания Растопченко запомнит – тогда и положение укрепится, и доверия больше.
Только вот кого? Надо бы кого послабее, бабу какую найти, не княгиню, конечно – тут уж Вите не тягаться, тут, наоборот, прогнуться не грех. Надо выбрать какую-нибудь попроще, которую князь меньше знает. С бабой-то безопаснее выдвинуться. Она пока на эмоциях, а дело-то быстро сделается, коли правильно преподнести. Только вот незадача – все женщины тут по домам сидят, да с детьми заняты, больше ничем. На улицу не выходят вовсе. А дворня – так ее, опять же, князь куда лучше, чем его знает. Им скорее поверит.
Еще можно за иностранцев взяться, с ними привычнее. Огрех какой заметить, поступки подозрительные, да и донести. Даже если оправдаются – это уже неважно будет. Главное – старание показать.
Лучше всего, конечно, сделать князю настоящую услугу. Да такую, чтоб помнил. Жизнь спасти или деньги. Тогда все – будущее обеспечено. Но такая удача в руки идет редко, тут действительно постараться нужно. А потому нужно не лениться на мелочи внимания обращать. Мелкие «прогибы» тоже хороши. Например, по охране Витя подготовил свои соображения, ждал только удобного случая. Но князь Растопченко мало примечал, вообще в упор не видел. А с шестерками, вроде Ухтомского, как решил Витя, распространяться особенно не стоит.
«Подождем, – думал про себя бывший майор советской госбезопасности, поднимаясь по лестнице в княжеский дом, – подождем. Терпение и труд, как говорится, все перетрут. Главное помалкивать пока и впросак не вляпаться. И наблюдать, смотреть по сторонам, все примечать.
Глядишь, и найдется что-то интересное, на что другие внимания не обращают. С начальством главное – на глаза по хорошему поводу попасться. А там проще будет. Там совет дать, тут к незнакомцу первым подойти, как бы собой князя закрывая. Просто беседу интересную завести. Глядишь, и дослужусь до генералов здешних. Какие мои годы?»
– Весело рассказывал, Виктор. Забаву большую затеял. – Рыбкин поотстал, а Растопченко прямиком на пороге дома столкнулся с княгиней.
Вообще, княгиню Витя побаивался. Даже больше, чем князя. Было в ней что-то непонятное. Он толком сообразить не мог что именно, но подсознательно ощущал, не находя пока разумного объяснения. Пугала она его какой-то таившейся в ней неизвестностью, да и чувствовал он себя в ее присутствии плохо – квелым становился, вялым, будто вся энергия из тела утекала. Аж ноги порой подкашивались.
И еще эта тварь мерзкая, которая постоянно по ней ползала. Тоже еще украшение – людей пугать! Вот и сейчас из-за плеча княгини показалась жуткая треугольная голова змеи, и раздвоенный язычок замелькал в воздухе.
Витя в ужасе отступил на шаг назад. «Черт подери! Говорят, она даже спит с этой гадиной в изголовье. И как князь такое терпит…»
– Интересно рассказывал, – повторила княгиня. – Только почему не поведал, – она коварно улыбнулась, – что царь ваш Феликс Эдмундович давно умер, еще до того как ты родился?
Витя остолбенел – ей-то откуда знать?!
– Не бойся, – видя, как побледнел Растопченко, успокоила княгиня, – я никому не скажу. Но впредь будь осторожнее. Не все люди глупцы, помни об этом.
И не произнеся более ни слова, прошла в сад.
Хвост змеи оплетал ее распушенные волосы как серебряная лента, блестящая на солнце.
– Ты чего стоишь-то тут? – подбежал наконец Рыбкин.
– Да, ничего! Тебе-то что? – прикрикнул на него Витя, срывая зло. – Где ты шляешься?
– Я по нужде… – оправдывался Рыбкин. – А что она тебе сказала?
– Сказала, что ты давно в кустах сидишь, как бы кто не укусил за голый зад, сечешь?
– Да я… Простите, товарищ майор…
– Помалкивай, – строго оборвал его Витя. – Не все глупцы – помни об этом. Пошли.
Растопченко снова оглянулся вслед княгине.
«Не бойся, никому не скажу»… Майор хорошо знал, что означают подобные фразы в его работе. Чаще всего именно с них начинается вербовка…
В столовой под руководством дворецкого Василия уже накрывали столы алыми подскатертниками с золотошвейной бахромой, а сверху стелили алтабасовые скатерти.
В прежние времена, по русской традиции, столы покрывали скромными полотняными кусками, а дорогие скатерти доставали только по праздникам. Но княгиня Вассиана не любила, чтобы добро пропадало в сундуках, и приказала даже в будни стелить нарядные скатерти и подавать дорогую посуду.
– Как поохотились? – спросил Алексей Никиту, когда они поднялись в княжеские покои.
– Да, зря проносились, – ответил тот, усаживаясь за широкий деревянный стол и наливая себе в круглую кружку с крышкой медвяного кваса из кувшина, – устали мы с Гарсиа, да и только. Лошадей зря умучали. Пара зайцев да лисица – невелика добыча. А ты как съездил? Как батюшка Геласий? Здоров?
– Здоров. Благословение тебе передавал. И Григорьюшке тоже. Князь Воротынский, говорит, сослан к нам на Белое озеро. В Москве Голицыны и Трубецкие, используя момент, гнут против нас, хотят настроить государя. Андрюшка наш царю прошение подал об отчуждении в его пользу Белозерских земель, включая монастырские…
– Монастырские?! – Никита чуть не поперхнулся. – А брюхо-то у него не лопнет?! Государь Кириллову обитель почитает, не может он монастырь обидеть.
– Ехать надо, Никита Романович, не время отдыхать, наследство родительское защитить надобно.
– Поедем, конечно, – с готовностью согласился Ухтомский. – С охоты возвращаясь, заезхал я к Сугорским. Там тоже новости неутешительные. Князя Ивана Куракина в монахи постригли, имения отобрали. Поначалу за участие в сговоре казнить хотели, но государь помиловал.
– Ехать надо, Никита, – еще раз решительно повторил Алексей, пристукнув ладонью по столу. – Негоже нам по окраинам отсиживаться и царской милости али немилости дожидаться. Чему бывать – того не миновать. А сдаваться самим Андрюшке – умереть нам всем на месте со стыда.








