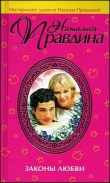Текст книги "Бог X."
Автор книги: Виктор Ерофеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Чтобы писать, я улетаю в ночь и в детство. Дача – страна моего детства, переплет нераздельных чувств: любви и брошенности, игры и страха, любопытства и жестокости, вкуса крови и запаха земли, смеха и смерти. Ночью, когда люди на время вымирают, эти чувства обостряются до того предела, что невозможное становится возможным, и слышно то, что мне нужно услышать. Встает солнце в соснах, я гашу лампу, тушу последнюю сигарету, срываю розовые резиновые перчатки, бросаю их на пол и по пути в кровать превращаюсь в обычного дурака.
ДракаВ любовной драке бей изо всех сил. Не щади эту сволочь. В любви женщина бьет мужчину от отчаяния, от больше так не могу, а мужчина бьет женщину в учебных целях, в назидание. И только когда женщина перестает любить, она бьет мужчину из мести, и это хорошо видно: где обрывается отчаяние, и начинается месть.
Рак любвиЛюбовь никогда ничем хорошим не кончается. Самый опасный враг – любимый человек. В любимом человеке отыскиваются несуществующие качества и замалевываются очевидные пороки. Если чего и стоит опасаться в жизни, так это любви. Любовь – это бешенство. Любовь – это подмена слов, ловушка, сдача позиций. Любимый человек может нанести тебе такой болезненный удар, от которого можно улететь в могилу.
Следи за тем, как тебе говорят «я тебя люблю». Я тебя люблю – очень коварная формула. Все дело в том, чем она наполнена. Она должна быть, к тому же, наполнена доверху.
Не допускай, чтобы тебе говорили, что тебя тоже по-своему любят, что ты родной и близкий человек.
Если тебя хотят, но не любят, это, может быть, блядство, но это весело. Если тебя любят, но не хотят – это рак любви. Это не лечится.
Четыре любовные иллюзииТы пришла ко мне как счастье, а ушла из моей жизни как наказание – это охуительно больно.
Ты пришла как наказание и ушла как счастье – значит, слава Богу!
Ты пришла как наказание и ушла как наказание, тогда я – мудак.
Но если ты пришла как счастье и ушла как счастье – значит, я – любимец богов и бессмертен.
Я живу случайной жизньюЛюбите ли вы горилку с перцем? И готовы ли вы ее сейчас выпить? Ну, допустим, люблю, а насчет того, готов или не готов, не знаю. Почему я, собственно, должен ее пить? Может быть, только потому, что получил ее в подарок от двух девиц, которые свалились мне на голову из Киева и которых я должен был встречать на вокзале утром невыспавшимся? Странно, что я вышел их встречать. У меня не было на них никаких планов. Одну я совсем не знал, а другую знал едва-едва, и вот они приехали в третьем вагоне. Но с таким же успехом могли приехать совсем другие люди, в других вагонах, из Киева или другого города, и вовсе, например, не девицы, а какие-нибудь пожилые люди, светские педерасты в шелковых шарфах, старосветские помещики или ветераны труда, и вместо горилки с перцем они бы привезли мне в подарок вина или самогону, или, например, ко мне бы в гости приехал весь Киев со своим известным киевским тортом, составленным из безе, за которым я прошлой осенью охотился в Киеве, а эти девицы остались бы дома, и я бы, вместо того, чтобы теперь сидеть на кухне и пить сорокатрехградусную горилку с Наташей и Женей, одну из которых я просто совсем не знаю, пил бы самогон и закусывал киевским тортом, а Наташа с Женей, пахнущие киевским парфюмом, спрашивают меня, достал ли я им билеты в Большой театр и, когда я начинаю оправдываться, непонятно, впрочем, с какой стати, они даже немного обижаются, переглядываются, а потом дружно уходят в душ, потому что они после поезда, всю ночь ехали, границу миновали спокойно, как будто мне нужно знать, спокойно ли они проехали через границу, и я сижу на кухне и слушаю, как шумит вода в ванной, и мне непонятно, почему они мне докладывают, как они переехали через границу, словно они везли с собой не горилку, а мешок, например, марихуаны, а потом я стою у себя в ванной и смотрю с недоумением, какие волоски они оставили после себя, не могли сполоснуть, и хочу при этом понять, как случилось, что я познакомился не то с Наташей, не то с Женей в Киеве, и кто из них студентка, а кто работает на телевидении, но чувствую, что у меня нет сил, чтобы задавать вопросы, хотя кто-то из них забросал меня электронной почтой и я почему-то пошел их встречать и даже, если бы не боялся опоздать, купил бы им немного цветов, а еще их встречал студент, высокий, худой молодой человек, который тоже очутился у меня на кухне, и когда девочки дружно пошли под душ, студент спросил, чем я в жизни занимаюсь, чем поставил меня в неловкое положение, потому что мне не хотелось ему ответить, что конкретно сейчас я занимаюсь полной, как бы это сказать, ерундой, потому что я не хотел, непонятно почему, обижать студента, и теперь я уже стою перед Большим театром, перед которым меньше всего хотел бы сейчас стоять, дует ветер, девчонки хотят фотографироваться, но сначала они хотели бы купить на сегодня билеты и пойти со мной в театр, но я не могу, потому что вечером у меня встреча с французами, которых я совершенно случайно встретил двадцать лет назад и которые с тех пор стали моими друзьями, хотя я мог бы встретить двадцать лет назад совершенно других французов, а с этими так бы никогда и не познакомиться, и мне надо будет с французами провести вечер, а француз мой стал большим чином французской дипломатии, и, напившись, я обычно внушаю ему, как вести себя Франции в отношении России, а также Америки, Африки, Австралии, вообще всего мира, в глобальном масштабе вселенной, а он кричит мне, размахивая сырным ножом, что он – француз, и потому не желает слышать от меня всевозможных инструкций, но я, говорю, мог бы вам купить билеты на вечер в Большой театр, и тут к нам подходят какие-то люди и предлагают билеты, но только не на сегодня, потому что сегодня Большой театр – выходной, и балерины не танцуют, и я стою и думаю, что дальше делать с Наташей и Женей, и куда делся их друг-студент, и я у себя на глазах превращаюсь в гида, и начинаю их возить по Москве и рассказывать, например, про дом на набережной, где в конце тридцатых годов уничтожили всех квартиросъемщиков, кроме одного, и Наташа с Женей дружно спрашивают, а кого же все-таки не уничтожили, и я понимаю, что у меня нет ответа на этот вопрос, а здесь, говорю, делают конфеты, вот именно, шоколадные, а это – мост, а это – Нескучный сад, в каком смысле, Нескучный, ну как вам сказать, и уже через несколько минут мы с Наташей и Женей оказываемся в незабываемом месте, на смотровой площадке на Воробьевых горах, и я начинаю рассказывать, что МГУ, что сзади нас, задумывался вовсе не как МГУ, а как гостиница для союзников, какой, вы спрашиваете, войны, теперь даже трудно сказать, что последней, хотя в принципе, конечно, последней из мировых, а этот трамплин, ну да, он для прыжков на лыжах, а у нас, они говорят, такого трамплина нет, ну вот и я обогатился от Наташи с Женей какой-то важной спортивной информацией, конечно, говорю, какой у вас может быть трамплин, у вас и снега нет такого, а мы привезли с собой хорошую погоду и в следующем году обязательно приедем к вам летом, и верно, смотрю, светит солнце, закат, на столах матрешки и храмы Василия Блаженного, давайте купим, а вот и панорама Москвы, город, в сущности, круглый и небольшой, приходят к выводу Наташа и Женя, а вы нас не сфотографируете, конечно, сфотографирую, а с нами не сфотографируетесь, конечно, снимусь, давайте сфотографируемся на здоровье, а почему у вас тут все акают, а это, отвечаю, из-за отсутствия любви, как, восклицают, вас понять, а не знаю, как хотите, как и понимайте, смотрю, обиделись, я вынул из кармана ключи от квартиры, пора мне к французам, а вы, пожалуйста, чувствуйте себя, как дома.
Роковая женщинаВсе кажутся наполненными очень мелкой энергией, почти мертвецы, я от них шарахаюсь, и отвлекают от случайности только мысли о славе и громкая музыка. Думаешь: почему мысли о славе отвлекают от случайности? Разве тщеславие – такая мощная печка, что справляется даже с любовью? А почему – рок-музыка? Конечно, лучше всего залезть под крышу Бога и несколько уценить любовь, но это тоже поначалу кажется очень случайным решением. И даже родные становятся случайными людьми, и это, конечно, пугает, но однажды, встретив того неслучайного человека, из-за которого все стало случайным, вдруг видишь, что и она – уже тоже случайность, и ноет ампутированная нога ветерана, и думаешь: полюбил курам на смех что-то такое невзрачное, как одна моя знакомая сказала: из нероковой женщины сделал себе роковую. Ну, тогда значит, уже полегчало.
Пасхальная неделяСтранные мысли приходят иногда в голову: кто все-таки прав в том далеком споре, Белинский или Гоголь? В письме Гоголю по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» Белинский утверждал, что русский народ по сути своей безрелигиозный, полон лишь предрассудков и слишком непочтительно думает о попах, а Гоголь в своем ответе, впрочем, никогда не отправленном, поражался слепоте Белинского и его нежеланию увидеть нашу с вами глубокую религиозность.
В пасхальную ночь я зашел в случайную для себя церковь возле Покровского бульвара, какую-то необычную, миражную, что ли: внизу трапезная, ярко освещенная и много на столах куличей; ходили в большом количестве принаряженные дети и подростки, шушукались быстроногие девчонки с молочными щеками, а на втором этаже шла праздничная служба, и так пели красиво, что я сразу подумал: надо бы чаще заходить, а то суета, времени нет, а тут все сразу куда-то отодвигается, и понимаешь, сколько в тебе наносного, даже не вслушиваясь в слова, а по состоянию, колебанию воздуха, и такой начинается, как говорится, «приход», что чувствуешь кожей эту самую невостребованную религиозность, которую так неистово отрицал Виссарион. Я вышел довольно скоро, куда-то торопился, и долго еще ходил под дождем, был теплый весенний дождь, с этим ощущением: надо бы как-то иначе жить.
Но не получается.
В жизни здешней, сегодняшней завязываются совершенно другие связи. Потому что все свои силы отдаешь разборкам с близкими и далекими людьми или с их функциями, все стараешься выяснить сложные отношения, и хотя понимаешь, что никогда с этим не разберешься, все разбираешься и разбираешься. На следующий вечер, например, я выяснял с отцом вопрос свободы слова в России. Разговоры о вечном откладываются на потом, и смешон Гоголь со своими моральными наставлениями, если здесь никто не может жить по морали, иначе тебя самого смерть попрет.
А в пасхальный понедельник мне случайно попадается ученый японец, который мне говорит, что они, японцы – нерелигиозные люди, на радость Белинскому, но при этом у них все получается. У них все держится на вкусовых ощущениях: невкусно врать и невкусно, когда в доме у тебя грязь. Как их к этому приучили без веры в Страшный суд, если у нас и Страшным судом, и налоговой полицией пугают, а все равно вкус к правильной жизни не вырабатывается?
Выходит, правы оба литератора. Мы безрелигиозны – поэтому не думаем о вечном, но мы же и религиозны – а потому не думаем, как создать нормальную цивилизацию. То есть, все хорошо, мы все в себе, как никто другой, совмещаем, но в любом случае мы не думаем.
А сверху тебе опять говорят: не японец ты, чтобы жить по-другому.
ПесняВот так, выпив энное количество рюмок, переглянувшись, но не сговариваясь, посреди недоеденных салатов и разводов на белой скатерти, люди вдруг начинают петь. В разное время жизни я смотрел на это странное занятие совершенно по-разному. То как на абсурд, то с допустимой для современного человека степенью умиления, то с легким презрением, то как на загадочное требование души.
Я сам не умею петь, ни слуха, ни голоса, но и то что-то там напеваю время от времени, какие-то отрывки любимых мелодий, непонятно почему, впрочем, любимых. Казалось бы, для песни нет никаких разумных оснований. Кроме одного: есть географически неосвоенные, белые пятна существования – их и покрывает собой песня.
В этом я вижу что-то архаическое, если не сказать пещерное. Вроде бы такой жесткий по своей логике народ, как французы, не должен был бы петь, а все равно на свадьбах, где-то в провинции, с красными от вина носами поет. И немцы поют, со своем жестокой сентиментальностью, и итальянцы, известное дело, и африканцы, я сам слышал, в деревнях все время напевают себе под нос, и американцы тоже поют.
Откуда берется? И не лучшее ли это доказательство того, что человек больше, шире заявленной и проявленной своей сущности, раз он с готовностью превращается в старый радиоприемник на лампах и начинает что-то из себя вещать в песенном виде?
Песня, какой бы она ни была, религиозна. Она нас связывает с другими мирами, непонятно какими, и в каждой песне, даже если она про Ленина, есть тоска, мука по утраченной цельности, как будто наша душа рассталась со своей половиной и ищет ее, хочет прилепиться, но не получается. И в счастливый момент жизни, когда, казалось бы, все получилось и жизнь удалась, песня нужна не меньше, чем в тоске, а значит, она еще и благодарность.
Песня, охватив собой тело, превращается в танец. Мы поем и пляшем о том, кто мы есть, и общий смысл наших песен в том, что нас мало любят, а мы хотим, чтобы нас больше любили, а нас любить особенно не за что. Общий смысл песен – дай. Не возьми, а дай. Раньше песня была о «возьми»: возьми меня, государство, я буду твоим слугой, буду водить самолеты и ездить на тракторе; или – возьми меня, любимая, я тебе подарю все, что хочешь.
А теперь песня стала «дай». Мне недодали, меня обманули, меня травмировали, дайте мне больше, не мешайте мне жить, я вам покажу, какой я крутой и бодрый. Дай, дай, дай.
А если не дать, будет обида, будет в лучшем случае ирония, эпатаж, а в худшем – месть. Я вам за все отомщу.
Страсти остались, но переместились.
В хорошей песне слова проплывают над смыслом, как гуси над землей. Смысл песни мерещится, и слова в ней не то чтобы бесплатное приложение, а непонятно откуда берущаяся вторая реальность.
Если в словах есть окончательная логика, песня скорее всего не получилась. Эта безумная потеря логики есть и в лучших современных песнях. Ирония лишь в том, что дурные песни с не меньшим успехом свидетельствуют об энтропии наших душ, и непонятно, на кого обижаться.
Зима грехов нашихУдарил наконец мороз. И слава Богу. А то нас всех развезло. На грани замерзания, между дождем и снегом скользим и падаем. Сосульки толстеют и падают. Все падает из рук.
Грехи наши теплые, жидкие, моросящие, и скоро в Сокольниках будут цвести папоротники, как во влажных лесах Амазонки, и появится много негров. Негры будут пестрые, разноцветные. Крикливые будут негры. Не выпьешь водки, войдя в дом с морозца. Солнце вообще куда-то закатилось. Раньше, бывало, высунешь голову в форточку и балдеешь, пока не замерзнешь.
А теперь только пот капает с бледного лба. И тело прыщавое, чешется, как у подростка, не тело, а земляничная поляна. Хорошо, что еще остались зимние праздники, как всеобщие ориентиры календаря, говорят, недавно был новый год, по дачам стреляли фейерверки и лаяли, поджав хвосты, собаки, но елки худосочные, иголок мало, да и те быстро осыпаются, пылесос ими забит, и поэтому по-особому воет, хрипло так, как бог ветра, и елочные игрушки тоже падают, но не бьются, а катятся по полу, как будто ненастоящие. И гирлянды зазывно подмигивают. А между тем где-то в мире есть ты. Ты с кем-то живешь. И где-нибудь, в пустой квартире под звон радио ты открываешь холодильник и смотришь на сырое, остывшее мясо с белыми жилками, берешь его в руки и снова кладешь в холодильник.
Мы никогда достоверно не узнаем о том, как на небесах прошел юбилейный банкет Иисуса Христа, но было бы странно предположить, что юбилей отмечался только на земле. Наверное, там было вкусно, и почему-то (причуда повара) по-мусульмански был приготовлен ужин, и мертвые, стоя на пестрых коврах, ели много винограда.
Кого пригласили, кого забыли пригласить? Неприглашенные, как водится, закусили губу.
Перед ужином прошел семинар на тему нравственности; на нем немножко посмеялись над Россией. Но не зло. На небе зло редко смеются. Хотя бывает. Знаю по себе.
Скорее всего, там было много поздравительных факсов и телеграмм, наверное, и сам звонил поздравить сына, хвалил за жертвенность.
Кого-нибудь там посмертно реабилитировали, может быть, наконец, Иуду, и тот тоже пришел на банкет, в белом смокинге, и раскаялся, а потом напился от двухтысячной усталости и умиления, и все апостолы плакали, называя Иуду другом, и несколько тысяч мелких грешников амнистировали, выпустили из ада, и они шли по дороге в крутую гору к небесному городу, как беженцы песчаной войны. Крупных грешников в ту ночь не особенно жарили, ни иностранцев, ни наших отечественных, вот было-то им, дуракам, послабление, а потом все решили, что в Москве нужно сделать теплую зиму, хотя их об этом никто не просил, и никто не молился по этому поводу.
Праздник кончился под утро большим разъездом гостей. Кто шел домой пешком в распахнутом пальто, без шарфа, кто нес женские серебряные туфли в пластмассовой сумке, кто ехал на такси и забыл там по-глупому туфли жены, и жена расстроилась, а я подумал, что ни разу в эту зиму не надел своей серой дубленки, и волчьей шапки не надел, купленной на Аляске, куда меня как-то раз занесло, и когда у меня в последний раз мерзли ноги, не помню. А мой брат медленно-медленно ехал на жигулях, зажав глаз рукой, потому что в глазах двоилось, но милиция его не тронула в ту ночь, народ стал пить чуть-чуть меньше, чем раньше, а у меня была очень молодая подруга с пятьюдесятью четырьмя африканскими косичками, большими серо-зелеными глазами, игрушечной шпагой мушкетера, и все этому удивлялись, а кто-то даже почесал в затылке, а ты выпила вдалеке от меня «кока-колки», разделась, легла спать с чужим человеком.
Последние судороги русского матаГоворят, скоро выйдет закон, запрещающий женщинам ругаться матом в присутствии мужчин. Это было бы очень своевременно, поскольку женщины, особенно молодые, перестали бояться мата, а вместе с ним и самих мужиков. Мат до сих пор считался словесным насилием, а монополию на насилие имел сильный пол.
Мат стал модной темой. Ко мне постоянно пристают с вопросами о мате. Можно ли его использовать в литературе? Наши современники могут похвастаться тем, что живут в эпоху выхода мата на языковую поверхность – историческое явление, которое можно сравнить с изобретением компьютера.
Мат – подсознание, подкорка русского языка. Он близок магии, ворожбе. Те, кто хотят его запретить, стремятся, по сути дела, закрепить архаическую мощь родного языка. Мат в запрещенном состоянии имеет большую разрушительную силу. Он травмирует, подавляет, ломает, подчиняет. Кроме того, он оказывается системой обороны для тех, кто попал в слабую позицию. Короче, мат до сих пор остается языком войны.
Кроме того, мат традиционно считался языком подонков, и «культурный человек» всю жизнь играл в игру под названием: «ни одного матерного слова ни при каких обстоятельствах». Многие отличились в этой игре. Например, не только моя мама, но и мой папа. Я от них не слышал даже слова «жопа», не говоря уже о мате (впрочем, наконец дошло и до них: на днях моя 80-летняя мама, цитируя строительных рабочих, строящих дом на соседнем дачном участке для богатого корейца, впервые в жизни сказала «хуй»). Кажется, Маршак утверждал, что если написать длинное стихотворение, и в нем хоть раз использовать слово «жопа», от стихотворения ничего не запомнится, кроме этого слова. Эти времена ушли в прошлое. Теперь никакое запретное слово не помешает стихотворению запомниться в сознании миллионов людей. Однако другие миллионы людей могли бы до сих пор запомнить одну только «жопу». Таким образом, отношение к мату стало национальной проблемой, гражданской войной русской морали и нравов.
Почему мат вышел на поверхность? Может быть, потому что исчезает понятие «культурного человека», к которому все еще апеллируют учительницы младших классов и редакторы провинциальных газет? С такой точки зрения мораль деградирует, мы становимся хуже с каждым часом.
Однако это не совсем так. Во Франции, например, нет мата. Это даже огорошивает поначалу. Когда я в юности учил французский язык, то очень интересовался их грязными словами. Но французы, которых я спрашивал, находились в недоумении, путались, несли околесицу. Впоследствии я понял, что французская культура перемолотила мат, вобрала его в повседневный язык на уровне «окраинных», грубых, но маловыразительных слов. А ведь маркиз де Сад в восемнадцатом веке писал французским матом, шокируя порядочную публику, и это видно в русских переводах. Теперь же получился переводческий парадокс. Маркиз де Сад в русских изданиях звучит гораздо резче, чем во французских: у них эти слова утратили свою силу и потерялись. Значит, французы справились с матом разрешительным способом и убили понятие ненормативной лексики. По их пути пошли, хотя и много позже, уже в 60—70-е годы XX века, англичане, американцы, итальянцы, немцы, которые еще недавно печатали матерные слова с точками (и до сих пор, уже в порядке исключения, так печатают в основных национальных газетах), но постепенно раскрепощали их, буквально одно за другим, последним, по-моему, «размякло» слово на наши русские пять букв (видимо, самое крепкое матерное слово), но и оно получило право на легальное существование. Теперь употреблять их в речи – такой же свободный выбор людей, как говорить или не говорить часто «волшебное слово» – дело вкуса и воспитания.
Стоит ли нам идти в этом случае своим отдельным путем, загоняя мат в подполье? Во-первых, это нереально: молодежная лексика уже освоила его в полном масштабе и уже притупила его основной ругательный оттенок. Во-вторых, запрет на матерные слова только провоцирует их использование «назло».
Ослабление мата как ругательства заметно у нас на разных уровнях. Язык придумал и слово «трах», и, позже, довольно забавное, пародийное слово «блин» совершенно неслучайно. Это – возможность альтернативной лексики, похожая на несение альтернативной военной службы (не хочешь, не надо). Кроме того, сами матерные слова принимают не свойственный им ранее иронический или даже юмористический смысл, становятся чуть ли не лаской.
Достоевский, и не только он, отмечал не без гордости (это бросается в глаза), высокохудожественность и лаконичность матерной фразеологии. С помощью интонации и прочих нюансов можно одним словом выразить целый мир. Виртуозность русского мата уникальна и не знает аналогов в других языках. Вопрос только: почему? Почему русскому мату удалось больше, чем другим матам, откуда у него такая сумасшедшая энергетика?
Дело, наверное, в том, что мат связан со срамными частями тела и срамными действиями, которые на русской земле были запретнее, чем в вольной, прошедшей через Возрождение Европе. В России тело всегда было под подозрением. Его рассматривали как духовный позор. Оно годилось скорее для наказания, пыток, унижения, нежели для эротики, красоты и воспевания. И русский мат – мощный бунт тела против такого бесправного положения. Тело нашло язык для метафорической оценки подлого мира, который его забивал.
Но мат – не только эмоциональный взрыв «телесных» метафор, переходящих в междометия. Мат – это и язык любви. Нравится это кому-то или нет, однако молодые люди сегодня все чаще называет в постели «всё» теми сильными словами, которые боялись произнести вслух их родители. Язык любви несомненно приведет к «окультуриванию» мата. А «окультуренный» мат – уже не мат, и через двадцать-тридцать лет в России мат сойдет на нет без всяких на него запретов.
И нечем будет ругаться. Вот это, блядь, жалко!