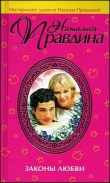Текст книги "Бог X."
Автор книги: Виктор Ерофеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
Ты не столько ебешься, сколько кусаешься. Мне приходится держать тебя за волосы, чтобы ты не обкусала меня до костей. Все заканчивается женской истерикой. После незамысловатых пирамид в духе моего советского детства ты в голос рыдаешь. Твоя подружка забралась на небеса со своими перламутровыми руками. Длинная Танька размазала всю свою французскую косметику. Она так хотела придти ко мне в длинном лиловом платье! Ты сидишь у кровати и рыдаешь. Мне ничего не остается, как подрочиться в твое рыдающее лицо. Посмотри на меня, собака! Лови! Лови! Она ловит все, что надо и не надо, поймала.
Я понимаю, что я разучился думать. Я понимаю, что плоские игры моей родины обворовали, растратили меня на пустяки. Москва приобретает очертания города. Пора ей снова облупиться до основания, расползтись по подвалам. Только это вернет мне способность соображать. Русское счастье – опасный оксюморон.
Я ненавижу тяжелый московский быт. Я ненавижу либеральные мемориальные доски, покрывшие Москву, словно сыпь. Я ненавижу отсутствие очередей. Я разрезаю Москву на несколько кусков. Дымится пролетарский восток кулебяки. Хрустят на зубах пустые бутылки в Текстильщиках. Лишенный с детства истории, я невольно оказываюсь ее непосредственным свидетелем и понимаю, что она для меня слишком мелка и нелюбопытна. В коридоре слышатся охи длинной Таньки. В Москве нельзя болеть и дико умирать. Голая страдающая баба страшнее и омерзительнее опрокинувшегося на спину жука. Она не вызывает ни желания, ни сострадания. Ее хочется вымести веником вон из квартиры. Я делаю вид, что хочу вызвать скорую помощь. На самом деле, я стою на рассвете и курю в ожидании, что будет дальше. После варенья ты перешла на котлеты и креветки. Солнце мое раскулачила мой холодильник.
Городская канализация сооружалась в течение 24 лет и до сих пор обслуживает лишь центральные районы. 95% московского населения не употребляет туалетную бумагу, предпочитая газеты и старые письма. Я жду прихода большевиков как награду за собственное инакомыслие, как отличительный знак непрозрачности дикаря, спасительной инаковости, как расплату за ложную идентичность, как экзортический способ продления русской материи. Я думал, московская мафия возьмет на себя все функции непроницаемости. Я думал! Но она оказалась подвержена коррозии всеобъемлющей одинаковости, она уже распорядилась отдать детей в престижные школы, они уже в Гарвардах пишут на отцов доносы, эти павлики Морозовы шиворот-навыворот.
Я обещал рассказать поподробнее о твоей детской пизде, светлой, не окруженной срамными делами, я обещал, но боюсь, что не справлюсь с заданием. Москву нетрудно обидеть, засомневавшись в ее бессмыслице, отсутствии логики, культурных ориентиров.
Красная площадь. Sur son ventre incline, qui me rappelé la rotondité de la Terre, vous découvrirez un curieux nombril, Лобное место, grand comme une piscine gonflable. Запад нам нужен ровно настолько, чтобы в нас самих его не было вовсе.
… год
Страна-огонь
Южная Африка – звонкая, как золотая монета, метафора. Кто ездит в метафору? Она и так уже в голове, самоценная альтернативная реальность. У нас своя географическая метафора: Сибирь. Нет иностранца, который бы не мечтал проехаться по транссибирской магистрали. Ехать же по ней – суетное безумие: менять мечту на скуку дней. Сибирь – мороз, ЮАР – огонь. Язычеством географических понятий мы все и живы. Но тем, кто в детстве потрошил куклы и смотрел, что у них внутри, кто в полной памяти любит открывать консервы метафор – сознательным конквистадорам подкорковых явлений поездка в ЮАР будет в кайф. И я проехался по транс-ЮАРской автомагистрали от Кейптауна до Претории с непередаваемым наслаждением взломщика.
К тому, что в ЮАР ходишь вниз головой, привыкаешь немедленно, если об этом долго не думать. Солнце, встав на востоке, резко уходит на север, – тоже можно привыкнуть, как к космическому последствию левостороннего движения в этой стране. А вот то, что пресловутая ЮАР, колыбель монстра-апартеида, обруганная в наших «правдах» до дыр, похожа на Россию до того, что кажется страной-близнецом, – это, конечно, культурный шок.
Но что значит: похожа? Физически Южная Африка – «постер» красавицы из глянцевого журнала. В томной бабе все сладострастно: и ноги, и взморье, и грудь – холмы Африки. К тому же ЮАР богата, породиста. Бьют по глазам небоскребы Кейптауна, скоростные дороги, эстетские виллы, рестораны на любой вкус; честь и совесть ЮАР – ее виноградные вина. Все обеспечено золотом и алмазами. Но чем больше говоришь с людьми, оторвавшись от лобстеров и страусиных стейков, тем яснее, что они больны «нашими» проблемами. Такие же, в сущности, «бедные люди».
ЮАР обжигающе опасна. Заедешь заправиться в глухомани на бензоколонку – получи пулю в лоб от какого-нибудь цветного эксцентрика. Это – запросто. Ярко-синее небо безморщинисто натянуто на купол цирка, где дикие звери, растерзав укротителей, принялись жрать воскресную публику, в панике бросившуюся к выходу, а заодно – и друг друга. Так считают не только фанатики сладкого прошлого. В стране каждую третью девушку раздевичивает изнасилование. Если учесть, что каждый третий черный заражен СПИДом, изнасилование завершается затяжным убийством. Ежедневно гибнет в стране полицейский; вероятность насильственной смерти южноафриканца в восемь раз выше, чем в США. В моде зулусская песенка: «Моя мама очень рада, когда я бью белого…». Экстремизм черных освободительных движений превратил ЮАР в место мести с библейским слоганом «око за око».
В такой стране хорошо родиться писателем. В ЮАР меня привели детская мечта увидеть реку Лимпопо и статья в английском журнале. Речь шла о мужском стиле жизни, и бурский писатель М. подавался ее образцом. Прочтя, что его автобиография называется «Мое сердце предателя», я догадался слиться с двойником. Вырвав визу в южноафриканском консульстве в Москве, поразившем меня дурацкими придирками и отметкой в паспорте, запрещающей давать интервью местной прессе, я через Лондон улетел в Кейптаун. Мы часто куда-то прилетаем невыспавшимися и в своем зевающем импрессионизме ясно видим новый город, как остов сна. Мой утренний Кейптаун был крепким и солнечным посланием о радости птичьей жизни: птицы перечирикали остальные звуки и впечатления. Он так и остался в памяти райским скворечником попугаев и воробьев – антиапартеидом неба с доминирующей над городом круглой, вертящейся со сна горой-столом, накрытой под дорогое угощение, и с тротуарной добавкой людского населения. Но в холле гостиницы «Виктория и Альфред» на набережной, заметив немереное количество «секюрити», равное московскому «Метрополю», я спохватился: город шалит. Не только гостиница, но и весь район набережной с историческим портом оцеплен и под охраной – резервация преуспевающих белых.
М. оказался неприступной знаменитостью. Где русский консул? Благодаря ему, лицом похожему на пожилого, но еще расторопного Одиссея, я оброс цветными бизнесменами, кураторами галерей, плейбоями. Все сулили мне встречу с М., но прежде спешили объясниться по поводу ЮАР:
– Бойкот способствовал ей много к украшению. Стимулировал экономику, стали производить свое.
– Раньше в Кейптаун в день пролетало шесть самолетов, теперь – девяносто.
– Скоро ЮАР скатится в Африку. Черные требуют передела. Вся надежда – на СПИД.
– Мыс Доброй Надежды? Португальский открыватель назвал его Мысом Штормов, но его король настоял на Надежде.
От нечего делать я съездил с консулом на этот Мыс. Маяк, утес, туман. Но можно и по-байроновски обалдеть, собрав энергию фантазии таким образом, чтобы увидеть фрегаты и Антарктиду во льдах. Я пошел третьим, испытанным русским путем – в ресторан, но до этого посмотрел на колонию пингвинов с розовыми бровями. Ныряя, они ничем не отличались от уток, но, выйдя на берег, превращались в бальных увальней.
С М. было сложнее увидеться, чем с кейптаунским Лужковым, который с вершины власти обрушил на меня ушат информации о городе и стране. Уильям, очень чернокожий мэр, пленил меня своим необоснованным оптимизмом. Хохоча попивая кофе с бисквитами, он рассказал, что половина черных – безработные, из криминального центра города разбежались все зубные врачи, но особенно поражало миллионное количество изнасилований. Почему их так много?
– Черному человеку нужно самовыразиться.
Наконец клан кураторов и плейбоев закатил ужин: М. пришел, когда надежды на него уже рухнули, бритым и забуревшим, в пальто вроде долгополого сюртука. Знакомясь, он заметил, что гибель апартеида была мастерски произведена из Москвы чиновником международного отдела ЦК по фамилии на букву Ш или Щ. Поужинав, мы стали менять бары, как стаканы.
– Знаешь, что такое jol? Основной стиль местной жизни. Выпивка, косяки, солнце, трах. Пир во время чумы. Мне надо в Ёбург на выступление. Едешь со мной?
До Йоханнесбурга – полстраны на красном джипе с мордой триумфатора. Мы мчимся на восток по взморью, через «белые» деревни, строгие копии староголландских ферм со стадами страусов (страусы похожи по телодвижениям на стриптизерок), пока не упираемся в мыс, разделяющий Атлантический и Индийский океаны, самую южную оконечность Африки.
– Мой предок, Дэвид, сошел с корабля на эту землю не оккупантом, а скромным фермером. Это была пустая земля. Потом сюда с севера пришли африканцы, и Дэвид усвоил простую истину: если ты не наступишь черному сапогом на грудь, он извернется и перегрызет тебе глотку. – М. достает из кармана бутылку: – Выпьем за подлую мистику рас.
Чем дальше на восток, тем меньше Голландии, больше Африки. Берег покрыт чащами, валуны громоздятся один на другой. Многометровые волны врываются в гроты невыносимо нежного цвета, похожие на утробы. Стоит дикий, праматеринский дух. Кажется, что именно здесь зачалась жизнь на Земле. Непонятно только, зачем? Въезжаем в толпы дряблых людей. Здравствуй, дежавюшный Третий мир! Город Порт Элизабет размазан по трасе бесконечными «черными» пригородами; дети и козы изрешетили дорогу, – у взрослых в глазах сосущая тоска – отстойный депресняк.
– Расскажи, как ты предал белых, – прошу я.
– Апартеид держался на лозунге, достойном Оруэлла. Он объявлял все расы «равными, но разделенными» для их же пользы. Я инстинктивно стал коммунистом еще в школе. Это имело, – усмехается М. – сексуальные последствия. Однажды на танцах черная женщина подошла ко мне, пьяно улыбаясь… Ночью я постучался в железную дверь. Она открыла в сатиновой ночной рубашке, обхватила меня руками, и я задохнулся в ее запахе. Я был всей душой за черных, но целовать эти губы? Как коммунист я боялся ее оскорбить и – впился в бездонный рот.
Мы смеемся, сидя на грязном городском пляже Дурбана, главного порта Африки. Дурбан – обшарпанная коммуналка со множеством комнат, углов, чуланов, надписей на стенах, карманных воров, крыс, укладов жизни, где индусы вечно возятся с едой, а чернокожие волокут непомерные канистры морской воды.
– Пьют после еды, – поясняет М. – Чтобы проблеваться.
Из Дурбана едем в горы. По склонам валяется большая перевернутая глиняная посуда. Вроде как великаны, пообедав, побросали ее в высокой сухой траве. Это круглые без окон хижины зулусов. Мужчины слоняются с копьями в шкурах зверей, а женщины трясут голой грудью и щелкают языком, как затвором, изъясняясь на диковинном птичьем наречии. Вся их жизнь, возможно, проходит в ожидании туристов, но те не едут, ожидание затянулось, и экзотическое население устало.
Шлагбаум. Залусов за шлагбаум не пускают. Вохра – из тех же зулусов – сверкает зубами, признав в нас богов и героев. Вот мы и в Дракенсберге – Драконовых горах – перед подъездом роскошной гостиницы. Оазис великосветской курортной жизни – прикол стилистически грамотного, как любой зрелый фашизм, апартеида. Гостиничные феи, да и все белые южноафриканки, отличаются поверхностной доброжелательностью, под которой скрыта жесткость и нетерпимость к малейшим отклонениям. Свернешь с тропы, закуришь в ресторане, и, выхватив из трусов револьвер, они откроют беспорядочную стрельбу. Белое население – всего-то 11% страны – упёрто и обречено на кусание ногтей. Когда путешествуешь, главной фигурой неминуемо станет бармен. Его зовут Ганс.
– Апартеид – страшилка! – наливает он мне юарскую водку «Пушкин». – Когда-то надо сказать всю правду. Черные официанты ничего не понимают в заказах.
Мы подозвали пожилую официантку с темным лицом ван-гоговской крестьянки и заказали по несложному ужину. Она нас выслушала с серьезным видом и принесла, перепутав все.
– Они что, глупые? – спрашиваю у М.
– В лесу они совсем не глупые, – сухо отвечает он.
– Как вы будете жить? Теперь они не в лесу, а у власти.
Путь наш лежит в полицейский участок. После университета М. стал работать в прогрессивной газете «Стар» криминальным репортером и до сих пор по стране имеет полицейские связи. В участке все ему очень обрадовались.
– Зайди-ка в морг, дорогой писатель, у нас есть что тебе показать. А ты кто, русский? АК-47! Ха-ха! Welcome!
На цинковом столе лежит тело 10-летнего чернокожего мальчика. У него отрезаны пальцы, гениталии. Ритуальное убийство – мути. Вудуны нуждаются в органах для ворожбы.
– Вот так себя ведут твои черные друзья, – ласково обращается к М. начальник полиции.
Мы выходим на улицу, закуриваем.
– Чтобы не служить в расистской армии, я сбежал в США, – говорит М. – Американцы ни хрена не понимали в моей стране. Во всяком случае, я не мог им рассказать, как стал предателем черных. В июне 1976 года они подняли мятеж. Я болел за них – мы ведь спортивная страна. Но потом… Представь себе, какой-нибудь каффир (ругательно – черный) бежит по улицам белого города с топором, кричит «Африка! Африка!» и рубит случайным прохожим головы.
– Значит, ты теперь против всех?
– Кроме зверей. Слышал о национальном парке Кругера?
Мы остановились в палаточном лагере юных рэнджеров. Саванна, обнесенная металлической сеткой, размером в небольшую европейскую страну, вполне может стать членом ООН, чтобы защищать мировые права зверей. Ездишь на машине, смотришь на жирафов, зебр, слонов, носорогов, львов – все соответствуют своим описаниям (разве что жираф красивее всех описаний). Вроде, они у себя дома, здоровые и любопытные. Но нет, их то пусто, то густо, по особому расписанию твоего собственного сознания. Ждешь их – они (кроме мелочи антилоп) не идут, забудешь – появляются неожиданно, особенно ночью. В общем, живут скорее в тебе, и тебя ими время от времени глючит. Помимо зверей в этом приграничном парке водятся беженцы из Мозамбика. Поскольку государственная граница охраняется здесь силами самих зверей, беженцы, спасаясь от последствий социализма, становятся ночью легкой добычей хищников. Окровавленная одежда мозамбикцев висит на деревьях, как новогоднее украшение.
– Доволен? Пора в Ёбург. Но сначала – в ад.
Конечно, Йоханнесбург – не морской капитанский Кейптаун, а большая куча колючей проволоки, растущая из завтра на заборах белых кварталов стальным плющом предупреждения. Но если на Земле есть ад, так это – Соуэто, негритянский город-спутник. Правда, М. рад тому, что там недавно установили уличные телефоны-автоматы, но никакая сила не сметет миллионы бараков, где люди трутся друг о друга если не боками, то взглядами. Воров вешают на столбах; продавшихся белым, облив керосином, сжигают. В сельских районах, по признанию М., обгорелые остатки врагов, бывает, едят, но в Соуэто ими явно брезгают.
В тот же вечер М. ведет собрание в поддержку либеральной партии демократов. Аудитория «новых африканеров», просвещенных потомков буров, проводит отпуск в Европе, коллекционирует картины и ценит М. – «злого парня новой бурской литературы». Писатель говорит им, что они отвратительны: само слово «африканер» стало синонимом духовной отсталости, нравственного падения. «Новые африканеры» приветствуют его стоячей овацией. М. выходит ко мне с ледяными глазами и в мокрой рубашке.
У Южной Африки открытое настежь будущее, как у России. Немного стран могут похвастаться такой поэтической непредсказуемостью. На смену африканерам идет класс «новых африканцев» – крашенные черным спреем «новые русские», с той же голдой. На них с иронией глядят наши посольские парни в Претории, не слишком изжившие в себе расизм. Дипломаты устраивают мне выступление в университете Претории. Я выступаю в той самой Претории, мировой метафоре абсолютного зла? Не бред ли? С таким же виртуальным успехом я бы мог выступить перед братьями Карамазовыми. Я стою посредине низкорослой столицы, все еще гладкой, как холеная попа, куда более безопасной, чем Ёбург, до сих пор похожей на Америку-сад, где победили бы южные штаты. Страна-огонь пощадит ли ее теперь? Страна-огонь самосожжения или очищения? Страна-огонь готова выгореть до тла.
– Ты меня прости, – устало говорит М. – Не показал тебе Лимпопо. Лимпопо – некрасивая река и уж больно далеко на Севере. Лень ехать.
Сорвалась мечта. А так хотелось, чтобы в Южной Африке круг моего детства счастливо замкнулся.
… год
Дети Пушкина
Саша
Здравствуйте, дети, наш папа умер.
Маша
Солнце русской поэзии закатилось.
Гриша
Ты всегда была прикольным ребенком.
Маша
Когда Дзержинский вел меня на расстрел, я посмотрела ему в глаза и сказала: «Я – Маруся Пускина. У меня зубки режутся. Я не умею произносить букву „Ш“».
Глаша
И что?
Маша
Не расстрелял.
Саша
Ну, ты, Маруся, я тебе прямо скажу – хулиганка.
Гриша
Ей повезло. Хотя бы здесь отец пригодился.
Наташа
Отчего он умер? Он что, отравился? Я все забывала маму спросить, что у него за болезнь.
Саша
А он еще не умер. Он умирает, но еще не умер. Он мучается. Я пошутил.
Маша
Значит, солнце пока не закатилось за диван?
Наташа
Ничего себе. А я поверила, что он умер.
Саша
Он умрет обязательно, но мама сказала, что есть возможность его спасти.
Глаша
Дуэли запрещены. Мне неприятно, что он хотел убить другого человека на дуэли.
Саша
Приходил французский доктор. Он опробовал на свиньях новый препарат от заражения крови. Предлагает опробовать его на папе.
Гриша
Пусть мама решает. Как можно лечить человека свинским препаратом?
Саша
Мама сказала, чтобы мы решали. Как наследники.
Маша
Ну, как наследники мы, конечно, решим.
Гриша
Устроим голосование? Простым большинством? Или как в Польше: если один против, решение не проходит.
Наташа
Давайте, как в Польше. Так интереснее.
Гриша
Как называется препарат для свиней?
Саша
Ну, почему вы не кричите, не плачете? Пенициллин.
Маша
Какая гадость. Нельзя было назвать как-нибудь покрасивее?
Глаша
Например, Евгений Онегин.
Гриша
Тоже мерзкое название.
Саша
А как он нас назвал? Саша, Маша, Гриша, Наташа, Глаша – все на ША.
Маша
Саша, Маша, Гриша, Наташа, Глаша. Почему, в самом деле, на Ша?
Саша
В этом есть что-то французское.
Гриша
Короче, кошачье. Мы для него – кошки.
Наташа
Издевательство.
Маша
Я плачу. У меня зубы режутся.
Гриша
Не ври.
Наташа
А кто, собственно, плачет?
Глаша
Жалко. С другой стороны, мне было всегда за него стыдно. Он любил не прожаренное мясо с кровью. Противно. Он ел салаты из цикория с помидорами, заправляя их оливковым маслом и уксусом. От пережора у него вырос живот. Живот был кругленький, как у Будды, в курчавых волосиках. Меня рвало. Я не могла находиться с ним за одним столом. Теперь этот живот прострелили.
Наташа
Он грузил нас своим отцовством. Он носился за нами с девичьими трусами и кричал, чтобы мы не смели… «Не смейте вешать ваши трусы сушиться в ванной на батареи! Это не по-европейски!»
Саша
Помните, он приходил к нам в детскую, гладил по круглым лобикам и говорил со слезами на глазах: «Дети Пушкина не удались».
Глаша
Ну, да. Он говорил, что он все для нас сделал, поступил нас в университет, посылал каждое лето на отдых во французские Альпы, выгодно женил и за графьёв выдал замуж. И что он больше не будет звонить нам по телефону. Никогда не будет звонить.
Гриша
Он хотел, что мы выросли необыкновенными людьми. Стали бы пиратами и проститутками. Чтобы он мог нами гордиться.
Глаша
Он называл меня лимитой, говорил, что лимитчица и минетчица – однокоренные слова, загонял в комплексы, ненавидел куклы, в которые я играю, ненавидел моих белых мышек и птиц, гнобил за маленький рост, хотя я повыше его буду, и в то же время подсматривал за мной, когда я сидела на горшке.
Маша
Он каждый месяц с ученым видом проверял меня на предмет того, не растут ли у меня волосы на лобке, и требовал, чтобы я писала рассказы и повести из деревенской жизни.
Глаша
Он ненавидел меня за то, что у меня – молочница, что из-за этого в моей пизде плохо пахнет материя, он глумился над моими сиськами.
Гриша
Каким образом?
Глаша
Он хотел их оторвать.
Наташа
А меня он имел анальным способом еще в возрасте шести лет. Маме это очень не нравилось.
Саша
Когда он меня первый раз трахнул в попу, я думал, что умру от боли. А он говорил, что, может быть, хоть так он отучит меня от тупоумия.
Гриша
А со мной он сделал такое, что страшно сказать.
Маша
Расскажи! Мы рассказали, а ты – нет!
Гриша
Не расскажу.
Наташа
Гришенька, расскажи. Ты ведь офицер. Ты должен рассказать.
Гриша
Ни за что.
Глаша
Он ел твой кал? Я угадала?
Гриша
Гораздо хуже. Нет, не расскажу.
Маша
Тогда я голосую за смерть Пушкина. Понятно?
Гриша
Ну, и голосуй.
Маша
Стучат в дверь. Как они нетерпеливы. Закрой, Сашенька, дверь на ключ. Мы еще не решили.
Саша
Мама просила не затягивать с решением. Он никогда не смотрел нам в глаза. У него глаза бегали. Я невосприимчив к красоте природы, мне папенькины кавказы и закидоны ни к добру. Я деньги люблю. Я очень люблю деньги. Если бы мне платили много денег, я бы стал гением.
Маша
Как зовут этого французского доктора?
Гриша
Зачем тебе? Кажется, доктор Паскаль.
Глаша
Пушкину сколько лет? Около сорока? Старик! Он умрет, его встретит Бог и спросит: ты кто? Ах, ты – Пушкин! И сделает Бог неприличное лицо.
Маша
Ты, Саша, рыжий. Почему ты рыжий? У нас нет в семье рыжих. Ты ведь не от него, правда?
Наташа
Саша от Дантеса.
Гриша
А я от Николая Первого.
Глаша
Молчи. Это и так все знают.
Саша
Царь прислал Пушкину телеграмму. Вот она. Я прочту стоя.
Гриша
Мы тоже встанем.
Саша
Если Бог не велит нам увидеться на этом свете, то прими мое прощение…
Маша
Добрый царь. Простил дуэль.
Саша
…и совет умереть по-христиански, через я пишет, по царской своей орфографии, и причаститься, а о жене и детях не беспокойся. Они будут моими детьми, и я их беру на свое попечение.
Глаша
Это меняет дело. Ребята, можно сесть? Какой еще пенициллин? Вздор.
Маша
Значит, наша мама тоже будет дочерью царя.
Гриша
И все-таки я от Николая Первого, а наша Глаша – с сеновала, пусть она помолчит. Я буду, возможно, Александром Вторым. Освобожу крестьян и подорвусь на мине.
Маша
Царь даст нам денег. Как нищим. Пушкин все пропил, проел и проспал. Он ездил в публичный дом.
Наташа
Он трахал все, что шевелится, кроме мамы.
Глаша
Откуда же мы тогда взялись?
Саша
Мама прикидывалась фригидной. Отец нашпиговывал ее спермой и разводил у нее в животе эмбрионов, как рыбок, но она научилась выкручиваться по своим женским делишкам.
Глаша
Когда он поехал стреляться, я была за Дантеса.
Гриша
Я тоже езжу в публичный дом. Это меня сближает с Пушкиным. Я, может быть, буду стоять за французского доктора.
Глаша
Зачем он вышел на Сенатскую площадь? Зачем?
Саша
Не переживай. Он всегда любил высовываться. Слишком много социальных амбиций. А те, кто хотели хорошо жить, легко могли вписаться в общество, как Жуковский. Сейчас особенно видно, что в крепостном праве были свои несомненные плюсы.
Глаша
Ему хотелось быть принятым в высшем обществе и быть свободным от него. И жить, и чувствовать смысл жизни. Так не бывает. Опять стучат.
Маша
Мы еще не решили. Его время кончилось.
Глаша
Нет, он не хотел, чтобы мы были такие, как он. Ну, помните, он сказал про Сашку: не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи, да ссориться с царями.
Саша
Врал. Он хотел, чтобы я сочинял стихи. Он готов мне был платить по рублю за строчку. Он стоял передо мной на коленях: «Саша, ангел, пиши! Саша, будь Пугачевым!» Я потребовал за строчку по два пятьдесят. Он растерялся. Он стал такой беззащитный. Я отказал ему.
Маша
Не понимаю, почему француз решил проверить на нем свое лекарство. Ведь пушкинские стихи на иностранных языках не звучат. Я помню чудное мгновение. Как это будет по-французски? Чего смеетесь? Или: ночевала тучка золотая… Вот пример чистой банальности.
Саша
Его беда была в том, что этой обезьяне все время глубинно везло.
Наташа
Он очень жестоко обращался с женщинами. Он их использовал, как Воронцову с Раевской. Он споил няню. У него в каждом городе были невесты: В Ташкенте, Берлине, Милане, Токио.
Гриша
Он там не был.
Наташа
Он заначил невест даже в тех городах, до которых он не доехал.
Глаша
Он выпил из нас все жизненные соки. Он выдавил нас, как апельсин, еще до нашего рождения. Лучше было родиться от свежего кучера.
Наташа
Я не люблю апельсины, мне подавай банан. Схороним папеньку, как шута, а маменька пусть и дальше танцует на Аничковских балах.
Маша
Он больше волновался за свои книги, чем за детей. Я вообще не люблю его стихов. Мне, честно сказать, нравится Лермонтов.
Наташа
А мне – Пелевин. Я его за одну ночь всего прочла. Вот культовая фигура. Как Загоскин.
Глаша
А я вообще не люблю читать. Я люблю молиться. Он в Бога не верил.
Саша
Пушкин и Бог – несовместимые понятия. Самая пошлая тема: отношение Пушкина к Богу. Это он первым в России в душе написал слово Бог с маленькой буквы.
Маша
Он не любил Родину. Обосрал русский народ. Общался с этим идиотом, Чаадаевым. Попов осуждал за длинные бороды. Все одеяла тащил на себя.
Глаша
У него не было друзей. Со всеми перессорился.
Наташа
Вот, если сравнить, Никита Михалков честнее Пушкина.
Маша
Это нетрудно. Пушкин был эфиопом.
Саша
Критика его не уважала.
Маша
Поэтому мы все такие уроды. С круглыми лобиками.
Саша
Он был поверхностным отцом. Беспокоился о моей сыпи, но как-то всегда между прочим, верхоглядно.
Глаша
Если бы Пушкин попал Гитлеру в плен, его бы уничтожили как низшую расу.
Саша
Дети Гитлера вышли породистее детей Пушкина.
Гриша
Он писал матерные стихи. Против царя.
Саша
Подлец, он писал против Польши. Против Европы. С Жуковским выпустили подлейшую брошюрку «На взятие Варшавы». Немцы, чтобы показать глубину его падения, уже шесть раз перевели папашкин пасквиль «Клеветникам России». Он не был демократом.
Маша
Зачем Дантес целился Пушкину в пах?
Саша
Нарочно. Чтобы было веселее.
Маша
А если бы он попал?
Гриша
В Дантесе есть что-то от Данте.
Глаша
Значит, наша мама святая? Да?
Наташа
Да, папочка был грустный бабник. Не нашел ни в ком своего идеала.
Маша
Мать натерпелась. Он проигрался в карты. Его не на что хоронить.
Саша
Он никогда не был за границей, кроме Армении. Он был глубоко провинциальным человеком.
Глаша
Когда-нибудь, через двести лет, люди спросят: а что, собственно, написал Пушкин? И что мы им на это ответим?
Саша
Одни, с позволенья сказать, афоризмы.
Маша
За которые его сослали.
Глаша
Сослали? Куда?
Наташа
Никуда. Он все придумал, придурок.
Гриша
Недоносок.
Наташа
Обезьяна. Он так похож на обезьяну, что слуги хохочут, не могут сдержаться.
Глаша
Однажды он подарил маменьке прозрачную ночную рубашку и сказал, что его стихи такие же прозрачные, через них все видно.
Наташа
Если на свете есть пошлость, то это он.
Маша
Он не любил православную церковь. Он никогда не постился. Недаром его не любил Гоголь.
Глаша
Его не любили дворовые. Пьяный, в грязном халате. Вокруг любовницы: немки, американки. От него вечно плохо пахло. Мочой.
Наташа
Что взять с эфиопа?
Гриша
Мама всегда брала сторону его критиков. Она судорожно стеснялась Пушкина, как и мы. Она приходила в ужас от его жеребячего слива легких слов. Несколько десятков поэм она порвала и выбросила. Она кричала по ночам. Она приползала к нам сюда в детскую на карачках и рассказывала, как она его ненавидит.
Глаша
Он на всех набрасывался, кричал, визжал. Злой карлик с длинными заусеницами. Когда он умрет, надо будет немедленно запретить публикацию его стихов, а архив быстро уничтожить. Никто и не спохватится, кроме пьяницы Нащокина.
Наташа
Пушкин – графоман.
Саша
Если он умрет, мы будем жить грамотно, профессионально, потихоньку. Он больше не будет летать между нами кометой и подсвистывать. Он всегда мне подсвистывал, называл своим любимцем. Думал, мне это нравится, а я краснел за него, он даже подсвистывать не умел.
Гриша
Пушкин запрещал нам смотреть телевизор. Он посылал нас в деревню к больному головкой дедушке, чтобы тот откусил нам всем носики.
Глаша
Зато семечки он поощрял, не знаю, почему, и чтение детективов.
Саша
У него всегда были заляпанные очки. И стаканы, из которых, давясь и икая, он хлестал шампанское.
Наташа
Он бросил маму в самый тяжелый момент, сказав напоследок, что она глупая и недобрая, в сущности, женщина.
Маша
Я, может быть, цинична, но я скажу. Если Дантес его бы не подстрелил, я бы сама подсыпала ему крысиного яда.
Глаша
А я бы его кастрировала и детородные органы выбросила собакам.
Саша
Собаки не станут есть эту гадость.
Гриша
Признаться, я все равно его по-своему люблю. У лукоморья дуб зеленый. Ну, конечно, не Мойдодыр, но папа мог бы стать неплохим писателем для подростков. Впрочем, это мое сугубо личное мнение. Он был чудовищным эгоистом. Он говорил, что русский бунт хуже маркиза де Сада.
Саша
Однажды мы пошли с Пушкиным в кино. На американский фильм. Кино было слабое, но он, дурак, смеялся до слез.
Маша
Он был высокомерной сволочью. Он не любил смотреть, как я танцую. Он говорил, что я научилась танцевать у собачек. Можно я потанцую?
Саша
Танцуй, Маруся! Когда-нибудь филологи проанализируют его стихи и скажут: он все содрал у французов.
Маша
Он был жадным человеком. Пошли мы с ним в зоопарк. Папа, купи мороженое! Молчит. Папа, ну хоть самое дешевое эскимо за одиннадцать копеек! Он развернулся и, напустив на себя вид драматического еврея, говорит: ни за что не куплю!
Глаша
Ты хорошо танцуешь, Маруся! Я тоже буду танцевать! Его равнодушие не знало пределов. Когда он признался, что он всех ничтожней, то тут же добавил: Я воздвиг себе нерукотворную статую. Хватит вам смеяться на весь дом!
Саша
Равнодушный, непоследовательный мужчина, со слабым чувством юмора. Единственно, что он хорошо умел делать – так это есть лапшу. С утра до вечера он ел лапшу. Поэтому у него и стихи, как лапша.
Гриша
Иногда на него находили долгие приступы трусости: он начинал креститься и мелко дрожать. Я сам видел.
Маша
Он непростительно считал, что у американцев есть будущее и решительно не любил стихи Анны Ахматовой. Он очень боялся старости.