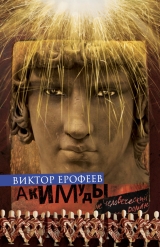
Текст книги "Акимуды"
Автор книги: Виктор Ерофеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Виктор Ерофеев
Акимуды
© ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2012
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ( www.litres.ru)
* * *
В нашей истории много несостыковок и несуразицы, потому что она происходит в одной <больной> (зачеркнуто) большой несчастной голове с разными, не похожими друг на друга, отверстиями.
Из записок неизвестного монгола-путешественника
Часть первая
Россия для мертвых
001.0
В Москве никто никому не верит, и из-за этого часто дерутся. Вот стою я в очереди в Сбербанке на доброй тенистой Плющихе, где растут столетние пихты и тихонько ползают рогатыми улитками московские старожилы. В банке тесно, как в советские времена, и передо мной мужчина средних лет в бежевом пиджаке спрашивает смазливую девушку-оператора:
– Сегодня какое число?
Та отвечает:
– Пятнадцатое.
– А какой месяц?
Она без всякого удивления, как будто никто не обязан знать месяц, в котором мы живем, заявляет:
– Ноябрь.
– Вы уверены?
– Да.
– А по-моему, октябрь.
– Нет, ноябрь.
– Нет, октябрь. Я лучше знаю. Октябрь.
– Сами вы октябрь! – огрызается девушка.
Вот только что была милой, а теперь разозлилась, лицо перекосилось, и совсем уже не смазливая.
Но мужчина средних лет не замечает ее гнева и оборачивается ко мне:
– Сейчас октябрь или ноябрь?
– Не знаю, – равнодушно говорю я.
В Москве «не знаю» считается самым удачным ответом. Ты не берешь на себя никакой ответственности. Мы – не немцы, чтобы брать на себя ответственность за знание месяца, в котором мы живем.
– Но сейчас хотя бы осень или зима? – с тоской продолжает допытывать меня мужчина в бежевом пиджаке.
Я чувствую: он на меня наезжает. Весьма может быть, что он сумасшедший, еще не опознанный врачами или только что на наших глазах сошедший с ума, а у нас в Москве сумасшедших много, и поэтому надо вести себя осторожно.
– Кому осень, а кому и зима, – философски отвечаю я, понимая, что скоро начнется драка, и готовя пути к отступлению.
Девушка-оператор окончательно теряет терпение, выворачивает голову так, чтобы вылезти из своего окошка, в которое даже купюры с трудом пролезают, и кричит, обращаясь к очереди:
– У нас что сегодня в Москве, октябрь или ноябрь?
Тут какой-то старикашка отвечает:
– Смотря по какому стилю, по новому или по старому?
– Чего?
Девушка в смущении: она ничего не знает о разных стилях, она не помнит, когда и зачем была революция, и ждет разъяснений. Мужчина средних лет и вполне интеллигентной наружности, судя по красивому шарфу, говорит:
– Старый стиль до революции был, и его никто теперь не употребляет. Вы лучше скажите, что сейчас: октябрь или ноябрь?
Но старикашка потупился, не отвечает. Тогда женщина с морковными волосами говорит:
– Как вам не стыдно! Я только что с улицы. Там октябрь!
Дедуля на это:
– Я сейчас проверю. – И отправляется за дверь.
Уж не ветеранли он? Еще недавно по большим праздникам в Москве появлялись старички в старомодных зеленых шляпах или в кепках отечественного производства с большим количеством блестящих медалей на пиджаках. Эти славные бойцы, победившие Германию и завоевавшие пол-Европы, к сожалению, почти все вымерли, но все же они дождались благодарности от внуков, которые в Москве к машинам привязывают георгиевские ленточки и на багажник клеют лозунг сердца: «Спасибо деду за победу».
Девушка-оператор в зеленой форме с белым воротничком от злобы ударила кулаком по стеклу, которое отделяет ее от нас, да так, что стекло треснуло сверху донизу, и закричала:
– Все! Я увольняюсь! Больше того, я эмигрирую!
Мужчина в бежевом костюме, видя, что сотрудница Сбербанка готова принять роковое решение, говорит с неожиданно доброй улыбкой:
– Не переживайте! Если хотите, пусть будет ноябрь.
Мне все равно!
Я кивнул ему, и он мне тоже кивнул, но все-таки спросил меня, искушая:
– Так значит, ноябрь?
– Скорее всего.
Входная дверь хлопает. Возвращается дедуля, возможно, ветеран, с горящими глазами.
– Я проверил! – кричит. – На улице идет снег. Вот, смотрите! – В руках у него круглый снежок, подхватил, видно, рукой с земли пригоршню снега. – Значит, декабрь. Скоро Новый год!
И так всегда в Москве. Входишь в Сбербанк в октябре, отстоишь очередь, и – глядь! – выходишь в декабре. Москва – город с причудами.
Если бы я был американским шпионом и меня бы заслали из ЦРУ в Москву узнать, о чем здесь думают люди, я бы пришел в полное уныние. В Москве каждый живет сам по себе и думает по-своему. У всех в головах большая путаница, но у каждого своя собственная путаница, и, чтобы разобраться в своей путанице, люди здесь очень сильно дружат между собой или дерутся до крови. Более того, в течение дня мысли у людей могут меняться. Утром москвич может проснуться любителем демократии и болельщиком «Спартака», а днем у него могут созреть националистические чувства, он захочет вернуться в Советский Союз и его стошнит от Европы, а вечером он разочаруется в «Спартаке».
Всё в Москве зависит от столкновений. Вот идет по весенней Москве девушка-красавица в такой короткой юбке, что на эскалаторе в метро на нее лучше не смотреть снизу вверх, и она сталкивается взглядом с сильно заросшим священником. Тот даже не осуждающе на нее смотрит, а – отчужденно, как не мужчина. И вдруг у нее в голове все переворачивается, она обо всем забывает, бежит в близлежащую церковь с маковками и простаивает там, обернув мини-юбку пыльным мешком, два часа службы, и выходит в слезах умиления. Или та же девушка в короткой юбке поднимается на эскалаторе, а за ней едет горец из Чечни, смотрит ей вслед, видит узкую полоску красных стрингов и цокает языком, и она вдруг становится врагом инородцев, выходит из метро, идет на площадь и кричит со всеми вместе: «Москва для москвичей!»
А не цокал бы кавказец языком, а подарил бы ей большой букет цветов, что было бы с красавицей, об этом никто не знает. Ну, а если этот цветочный гастарбайтер ей бы сначала подарил цветы, а потом бы, например, изнасиловал в темном переулке, разорвав красную полоску трусов, наводящих грустную думу, девушка стала бы перед дилеммой. Куда ей идти? Не в полицию же. Ведь в полиции ее поднимут на смех, с ее мини-юбкой и рваной красной полоской, и даже могут оскорбить и словом и делом. Девушка возбудится, возненавидит пухлые самодовольные лица блюстителей закона и на следующий день пойдет на Триумфальную площадь, где на митинге несогласных познакомится с руководителями нашей несистемной оппозиции, и руководители, если их не задержат, пригласят ее домой и откроют ей глаза на «кровавый режим», поглаживая по коленке. Или же их всех схватят, и ее тоже задержит полиция, понесет за ноги за руки в автобус, там обыщет и отвезет в обезьянник.
Я нигде не видел, кроме как в Африке, таких упоенных своей властью полицейских. И вот на полицейских лицах написано, что им позволено все, и они все, что могли, испытали, откусив, как Адам, от яблока познания и выплюнув его на асфальт, потому что оно оказалось несъедобным.
Там, в обезьяннике, над ней вдоволь поиздеваются, и у нее начнутся проблемы с психическим здоровьем: она будет бояться подниматься в лифте и кушать рыбу, потому что рыбой можно сильно отравиться.
Или, пообщавшись интимно с полицейскими, а также с лидерами несистемной оппозиции, она вдруг ни с того ни с сего разочаруется в мужчинах и начнет жить половой жизнью со своей подругой Танькой, или с Любкой, или с двумя подругами одновременно. Летают девки и ебутся… В разгар активных действий, похожих на скульптуру Лаокоона, входит неслышно в квартиру Танькин отец – майор. С продовольственной сумкой. Офицер конфузится. Танька с прищуром ему – с дивана:
– Ты чего пришел?
– Еды принес.
– Ну, иди гуляй! Вечером приходи!
– Я на кухне посижу. Чаю попью.
– Я тебе что сказала: вали!
Девки, голые, ржут.
– Я сумку оставлю? – смущается майор.
– Вали! – орет Танька.
Танька стесняется своего отца. Прошло время советских офицеров, которые на улицах друг другу озабоченно козыряли при встрече, их было столько везде, что, казалось, Москва – военный городок, а штатские – просто гости столицы. Теперь офицеры стали невидимками и больше никому не козыряют, а если их встретишь, то это – другие люди: ходят тихо-мирно, будто какую-то вой ну проиграли…
– Придурок! – провожает отца Танька.
Девки снова ржут.
– Хорошо, что у меня папа умер, – сучит ногами наша. – Он тоже был офицером!
И снова хохот… Теперь девки будут ходить на дискотеку и презирать мальчишек. Затем они горько и несправедливо скажут друг другу, что в Москве все девчонки чем-то болеют, пойди найди здоровую, у всех или тараканы в голове, или мандавошки под животом. И будут долго рыдать. И они даже подерутся.
Но наступит воскресенье, и они принарядятся, выйдут из своих пятиэтажек и поедут из Митино, или Южного Бутова, или даже из Мытищ на Чистые пруды пить кофе капучино. Танька-брюнетка придет в черных очках от Армани, Любка – в колготках в сеточку, а наша, добравшись на электричке, придет в облаке романтических грез.
Они идут, перебирая аппетитными ногами. Они все время озабочены своими волосами, которые треплет суровый московский ветер. У них особые лисьи улыбочки, как будто они уже знают, что с ними случится сегодня вечером. Их тело натянуто, как тетива лука, и сами они, как стрелы, готовые выстрелить собой. Единственное, что им не хватает, так это христианского смирения, все остальное они носят в себе и с собой. Но со священником они еще встретятся…
Пройдет время, Танька, Любка и нашастанут московскими бабушками. Как-то незаметно и слишком стремительно прожив свою жизнь, они к старости превращаются в фигуры бессмертия, пережившие своих мужей и российских правителей. В этом бессмертии они, прежде всего, озабочены разговорами о никчемности юности и православным благообразием. При ходьбе прихрамывая, они все время оглядываются, как будто за ними кто-то увязался, а когда они разговаривают с вами, то внимательно смотрят вам в глаза, словно предчувствуя что-то недоброе.
Москва не только не похожа на все другие города мира, она и на себя не похожа. Чем больше я живу в Москве, тем меньше я ее понимаю. Ее видимость становится ее сущностью.
Зато, куда ни глянь, стоят менты, охраняют Москву от террористов и зорко глядят на нашузлатоглавую Венеру Мытищинскую с бритыми подмышками, в короткой юбке – вот и кликуху выбросили девки для Кати.
Венера Мытищинская проснулась утром в своей рваной ночнушке, которую она никак не заштопает. В прорези виднелись красные стринги – она их не снимает, когда спит, никогда, потому что страшно в Мытищах спать без трусов. Катька достала из-под подушки фотографию Миши Ходорковского, в которого она тайно влюблена, поцеловала взасос узника совести. Раньше у нее под подушкой лежал Че Гевара, которого она называла «моим безответным героем». Но Че Гевара со временем помялся и вообще надоел. Она снова поцеловала Ходорковского и выбежала из дома за хлебом.
А уже в следующий понедельник Танька с Любкой отведут нашуКатьку в Сбербанк, и она станет, как они, оператором в зеленой форме с белым воротничком, и однажды придет посетитель и спросит ее:
– Сейчас октябрь или ноябрь?
001.1
В тот год, когда Акимуды пошли войной на Россию, снова стояло жаркое лето, горели леса. Русский климат устал. Выродился наш климат. Погода избаловала нас катастрофами. То все горит, то все обледенело. Ледяной дождь под Новый год превратил наши леса в тропический бурелом полярной красоты. Особенно досталось молодым березам с их слабыми ветками, женским торсом. Ледяной дождь утянул их вниз. Кусты сирени в садах тоже обломались. На зимнем солнце ветер играет серебром ветвей, как распущенными волосами американских мультяшных фей. Дайте нам сказку! Но не до сказки. Едешь по Подмосковью: арки скорбных, поставленных раком берез. Похоже на красоту пытки. Приходит лето – новая напасть.
Впрочем, на этот раз климат был ни при чем.
Россияне ждали нападения с воздуха. В полдень завыли сирены. Москвичи, проклиная все на свете, с ленцой попрятались в метро. Однако удар пришелся из-под земли. Штурм начался в центре столицы, на моей с детства любимой станции метро «Маяковская». Не скажу, что я оказался там по чистой случайности. Моя мама живет в доме неподалеку от Зала Чайковского. Этот пятачок Москвы и есть моя малая родина, районная география моего детства. Когда над городом раздался вой сирен, превратившийся вскоре в тягучую пробуксовку звука, и стаи черных птиц затмили небо, она упросила меня спрятаться в метро.
Мама ходила по квартире, опираясь на две палочки, покачивая девяностолетней головой с подчеркнуто элегантной укладкой волос, устремленной вперед под гнетом сутулости, и твердила, чтобы я уходил. Я хотел забрать маму с собой, в ее фиолетовой блузке с отложным воротничком, унести на руках (хотя я никогда не брал ее на руки), сильно похудевшую за последний год, мучительно перенесшую воспаление легких, но она сказала, что она слишком стара, чтобы прятаться от авиации. Я сопротивлялся, не хотел от нее уходить, отвлекал разговорами, время от времени тревожно поглядывая в окно, пока она в свойственной ей манере не вспылила, сверкнув умными, уставшими видеть глазами, и не стала гневно кричать:
– Да иди ты! Иди наконец!
Я подошел к ней, не понимая, чем вызван ее крик, раздражением старости или неожиданной заботой обо мне. Внучка новгородского священника, который прятался от большевиков по отдаленным деревням, чтобы не скомпрометировать саном свою семью, старая атеистка, она отказывалась от спасения, оставляя себя на произвол судьбы.
Но был ли я достоин спасения? На протяжении многих лет мама подозревала за мной что-то неопределенно подленькое. В ее воображении я совсем разложился. Я шел на компромиссы с подонками, строил дома в Крыму, размахивал членом перед детьми. Я пытался воевать с этим подленькимобразом, я смирялся, кричал, оправдывался, трубку бросал – безуспешно. Этот мой образ завис в ее подсознании, оттуда у меня не было сил его выковырять. На поверхности все было гораздо более мелочно. Ей не нравилось, как я одеваюсь и стригусь. От моих подарков она демонстративно отказывалась, передаривая домработницам или возвращая мне с возмущением, считая их слишком дешевыми. Если учесть, что моя мама была начитанной женщиной, любящей импрессионистов, знатоком протокола, женой советского посла, подолгу жившей во Франции, то все это граничило с безумием. Мой младший брат пытался объяснить недоразумениетем, что мама привыкла в чине жены посла повелевать и вошла в роль.
Не знаю. Можно ли сдать мать на анализ? Иногда мы с мамой спохватывались и, пыхтя, пытались вылезти из ямы, она мне звонила, называла уменьшительным именем, расспрашивала о моих делах, мы обменивались новостями культуры. Мы стремились пребывать на уровне просвещенного представления об отношениях любящей матери и любящего сына, но неизменно снова срывались в клоаку. Когда под Рождество я привел Венеру Мытищинскую познакомиться с ней, мама тонко улыбнулась:
– Зачем вам нужен этот плохой человек?
А папа, или, вернее, то, что от него осталось, с озабоченным видом спросил Катю:
– Там не холодно?
И снова через минуту:
– Там не холодно? И еще раз, и снова:
– Там не холодно?
– Зачем вам нужен этот плохой человек?
Я говорил себе: не принимай ее слова дословно.
– Там не холодно?
Я думал: здесь зарыта постыдная тайна моей жизни, ведь мама отказывала мне в существовании.
Под вой сирен я наклонился к ней, чтобы поцеловать, но она как-то нехорошо отмахнулась от меня худенькой рукой с крупными пигментными пятнами, отвернулась, как будто спряталась, и я поцеловал напоследок пустой воздух квартиры, пахнущий вперемежку моим детством и увяданием.
Я спустился с шестого этажа бывшего режимного сталинского дома, вышел во двор, оглянулся на неказистый сад с буйно разросшимися тополями, где перед смертью любил греться на солнце, присев на скамейку, мой отец, вошедший в гроб с просветленным лицом, освобожденный от беспамятства:
– Там не холодно?
Нырнув в высокую арку, я передернул плечами и оказался на Тверской со странно передвигающимися людьми. У входа в метро меня охватили сомнения. Идти под землю не хотелось. Но сирены не переставали обливать город тоскливой истерикой, и я поддался чувству страха. Народ валил в метро, но его было не больше, чем в обычный час пик. Возможно, вокруг были какие-то другие, неизвестные мне бомбоубежища.
Военный наряд с автоматами хмуро разглядывал народ. Казалось, что мы виноваты и уже под конвоем. Турникеты не работали, эскалатор – тоже. Как всегда в таком случае, спускаясь по остановившейся лестнице, я испытал неловкость. Руки и ноги отказывались делать верные движения, я спотыкался, натыкаясь на спины, мой мозг недоумевал. Подходя к платформе, я увидел собравшихся людей. Они были похожи на участников митинга без видимого оратора, которым, насколько я помнил, на этой станции, в критические дни обороны Москвы, был Сталин.
Время от времени блеклый женский голос, потрескивавший в халтурных динамиках, призывал соблюдать порядок. Несколько взрослых людей и одна девочка в оранжевом платье стояли отдельно в противогазах. Я отошел в самый дальний угол платформы, к входу в туннель, засунул руки в карманы брюк, все еще ошпаренный прощанием с мамой, и обвел взглядом серебристые арки хорошо прорисованной станции. По этим аркам в детстве мы, ребята нашего двора, запускали пятаки. Родители не разрешали нам спускаться в метро. Наше место для гуляния было определено в соседнем, весьма легкомысленном по нравам влюбленных, саду «Аквариум» с деревянным ангаром дешевого кинотеатра, но запуск пятаков был сильнее запретов. Нам и тогда нравились потолочные картинки летящих по небу физкультурников, яблочных веток, моряков, но лишь впоследствии я оценил по достоинству мозаику Дейнеки. Как редко последние годы я был на этой прекрасной станции! Задрав голову, не спеша, отгоняя дурные мысли, я вновь убеждался в триумфе мозаики.
И вдруг мозаика лопнула. Дождем хлынула на головы людей. На моих глазах лопнули стены. Разгребая руками завалы, прыгая с потолка, вылезая из стен, на платформу ворвались мертвецы, распространяя дикую вонь. Сначала в проеме стены появился череп с пустыми глазницами. Просунулся в полный рост его скелет с висящими кусками гнилого мяса и лохмотьями одежды. Мертвец выпрыгнул, махнул рукою своим товарищам. Мертвецы полезли из всех дыр, из-под платформы. Кто – в чем. Одни – просто скелеты. Другие – недоразложившиеся трупы. Они набросились на собравшуюся в подземке публику.
До самого момента атаки мертвецов публика, спустившаяся на станцию «Маяковская», после того как над Москвой в июньский воскресный день завыли сирены, была настроена скептически: дурацкие учения! ложная тревога! В целом, наш народ имел об Акимудах приблизительное представление. Бытовало мнение, что это незначительная, отбившаяся от рук страна, вроде Грузии. Правда, уже была страшная ночная бомбежка Сочи, в результате которой погибло около двадцати тысяч человек. Она смутила население гораздо больше, чем когда-то взрывы домов в Москве, но, став за последнее время дрессированными жертвами всевозможных трагедий, мы разгадывали конспирологические ребусы самостоятельно. В бомбежке Сочи, хотя бы по причине географии, нам скорее виделся кавказский след, всем давным-давно надоевший, и народное чутье, несмотря на мощную официальную пропаганду илиблагодаря ей, не спешило приписать чудовищное преступление неведомым Акимудам. Последующие события имели, напротив, откровенно победоносный характер. Наши доблестные ВВС нанесли, как известно, ответный удар. Сотни самых современных бомбардировщиков взмыли в небо и унеслись за три моря с тем, чтобы сровнять Акимуды с землей. По главным каналам телевидения нам показали апокалиптические картины взрывов и разрушений. Народ был потрясен роскошным видением войны. Мы все застонали от патриотизма. Одновременно с бомбежкой на главной площади нашей страны произошло знаменательное событие. Когда на Красной площади в последний раз состоялась публичная казнь? А вот тут она и состоялась! Под звон курантов Спасской башни. Под барабанную дробь. Кто был тогда на Красной площади – никогда не забудет этого торжественного, леденящего душу события. Я там был. Я никогда не забуду.
А уже в вечерних новостях сообщили о полной победе, выступал Главный, поздравлял нас. В тот майский вечер, в одиннадцать часов, был неслыханный, бесконечный, как говорили, закупленный во Франции салют. Все ходили как пьяные. Многие махали флагами, стоя на крышах машин. Обнимались. Мы снова почувствовали себя сверхдержавой. Нам было наплевать на Китай и Америку!
Но вот беда! Не прошло и двух недель со дня полной победы, как что-то странное, недоговоренное повисло в воздухе. Словно не удовлетворившись нашим победным патриотизмом, общенародным прыжком через костер, власти решили еще сильнее сплотить нас, намекая на возможный реванш Акимуд. Осторожно, изо дня в день, нам стали сообщать о возможности нового воздушного удара. Но кто бы мог нам, победителям, угрожать?
Ватаги молодых людей на «Маяковской» вели себя так, будто это не метро, а – внеурочная дискотека. Все – от студентов, хипстеров до гопников и быдло-пацанов – были оживлены, острили, свистели, от них пахло пивом и чипсами. Некоторые парни, обняв девушек в легких платьях, сидели на краю платформы, болтали ногами, целовались, даже тайком курили, хотя это было, конечно, строжайше запрещено.
Пожилые люди держались иначе. Их ничего не объединяло, кроме смутного беспокойства. Они шикали на молодежь, но было видно, что им, как и дежурным по станции, нравилось легкомыслие молодежи, вселяющее надежду на то, что скоро заработает эскалатор, который вернет нас на поверхность. Если власти решили снова поиграть в войнушку, это еще не значит, что им надо верить!
В гуще толпы слышалась гитара.
В первый момент атаки молодой петушиный голос успел выкрикнуть:
– Прикольно!
Послышались даже преждевременные аплодисменты. Более того, устаревший интеллигентный голос с хрипотцой громогласно, на весь перрон, выдал:
– Не верю!
Тоже мне Станиславский! И тут же раздался душераздирающий девичий вопль. Его подхватили десятки пронзительных воплей и визгов. Раздался коллективный вой. Лица людей резко поглупели. Перекосившись, они превратились в месиво страха. Публика превратилась в давку с сотнями ног. Толпа, как животное, взвыла в развороченный потолок, шарахнулась, понеслась по гранитной платформе к выходу. Кто падал, кто терял детей. Толпа неслась, скользя по раздавленным телам. Мертвецы стали рвать людей на части, выволакивать из вагонов – со скрежетом внезапно подъехавшего состава – орлов МЧС, отрывать головы и пить кровь.
На меня же на платформе набросились три здоровенные мертвые телки, схватили за горло, закружили в диком, издевательском танце и тут же потребовали, чтобы я вел их в шикарный ресторан.
– Мы давно не ели! Хотим суши! – орали они.
Я никак не мог понять, кто они и почему мне досталось такоенаказание. Может быть, мелькнуло в голове, это мои умершие любовницы… ведь некоторые из них уже умерли? Они выглядели ужасно. Я их, естественно, не узнавал. Как их зовут? Я порой не узнаю и своих бывших живых подруг, ко мне подходят, улыбаясь, постаревшие тетки, по возрасту и виду которых можно замерять время жизни, с вопросом: «Ну, как дела?», и я изображаю радость нежданной встречи. Но эти мертвые бабы – за что? Одних пришельцы рвут на куски, а мне вот – давай в ресторан! Что делать?
– Пошли, красавицы!
В обнимку, под дикие вопли, мы двинулись вверх по окровавленным ступенями эскалатора, долго карабкались, вышли на площадь.
– Маяковский! – радостно зарычали покойницы, тыча в сторону памятника.
– Маяковский, – согласился я, думая, как бы от них сбежать.
– А пошли в «Пекин»! – вдруг встрепенулась одна из моих спутниц, с остатками рыжих волос на черепе. – Помню, там кормили акульими плавниками! Модный кабак!
– Это когда он был модным? Ты что, дура, там нет суши! – вскричала вторая, костлявая, с кущей черных волос на лобке.
– Теперь у нас всюду суши, – заверил я. – Москва не живет без суши!
– А я хочу винегрета! – заявила третья, на вид самая интеллигентная.
– Винегрет! Винегрет! – запрыгали все три телки.
Неожиданно меня охватило чувство драгоценного русского лихачества. Перейдя через площадь, мы ввалились с хохотом в огромный подъезд «Пекина», отправились в ресторан. Все шарахаются. От нас бежит лысый метрдотель, мы – за ним. И кричим:
– Винегрет! Винегрет!
Лысый бежит все быстрее, но мы вот-вот настигнем его. В этом беге было что-то от моей юности, длинноволосых желаний поразить окружающих своей необычностью.
– Что вы от меня хотите? – пролепетал метрдотель, прижатый к стене. – Все отдам!
– Суши! – рявкнули девицы.
– И водки! – добавила рыжая.
Метрдотель разглядел во мне живого:
– Это как понимать? Маскарад?
– Переворот!
– Понимаю… Я сам обслужу.
Мы сели за стол. Рыжая с интеллигенткой отправились в туалет. А эта, с черными волосами на лобке, положила мне костлявую ладонь на руку и томно спросила:
– Ты хоть помнишь, как меня зовут?
– Ты недавно умерла? – вместо ответа спросил я.
Она рассмеялась.
– Я – самоубийца, – сказала с гордостью. – Вскрыла вены! Сладкая смерть! Это я случайно увидела тебя в подземке и решила сохранить тебе жизнь.
Она ловко вырвала из рук подошедшего метрдотеля бутылку «Белуги», разлила водку по рюмкам и потянулась чокаться:
– Давай, за встречу!
– А эти кто? – выпив водки, выдохнул я в сторону туалета.
– Никто… Подружки! Наливай!
– Мы уж теперь здесьтак быстро не пьем… – взялся я за бутылку.
– Да? Ну, как ты? Что нового?
– Да все хорошо…
– А родители?
– Ты знала их?
– Ты чего! Мы же с твоим отцом…
– Он умер.
– Это ничего, – сказала она со знанием дела. – Ну, давай!
Мы снова выпили. Девки с шумом возвращались из туалета.
– Они нас не поняли! – кричали девки. – А мы вообще ничего им не сделали! Садимся по нормальному писать… Бабы все из туалета как драпанули…
Рыжая захохотала и жадно закурила.
– Хочется любви! – сказала интеллигентная покойница.
– Теперь мы будем с тобой жить вместе, не разлучаясь никогда, – наклонилась ко мне девушка-самоубийца.
Но, видимо, тут я грохнулся в обморок, и дальше ничего не помню. Что они, полураспадные твари, со мной сотворили?
– Он умирает, – отчетливо сказал кто-то рядом.
– Тихо! Молчи! – зашипел добрый голос.
Я очнулся лежащим поперек Садового кольца, без ботинок, с распростертыми руками… рваные брюки, кровоподтеки… напротив здания Военной академии имени Фрунзе, а по кольцу уже шла наша бронетехника.
002.0
Паника охватила Москву. Мертвецы собирались в колонны на выходе с Ваганьково, а потом и других кладбищ и шли на штурм столицы. Выставленные против них в спешном порядке отряды полиции, внутренние войска, части ОМОНа были бессильны. Мертвецы поджигали автомобили, крушили полицейские заграждения, били витрины магазинов, насиловали женщин непонятными живым людям способами, жарили на кострах, как сосиски, половые органы мужчин.
Где-то через три часа после вторжения на экранах телевизоров появился наш Главный с постной миной. В хлестких выражениях, глядя рыбьими глазами, он объявил, что городскому начальству что-то там с бодуна померещилось и обычные в нашем городе работы диггеров были приняты за светопреставление. Высмеяв московских паникеров, он, однако, вопреки логике, пообещал в короткий срок очистить столицу от бандитов и хулиганов.
– Не мертвецы, а подлецы! – неожиданно заявил Главный, скосив по обыкновению глаза в сторону и в запальчивости дотронувшись до лысеющей головы. Единственное, что убедительно делал Главный, как считали наши записные критиканы, так это честно лысел на публике. Это был многолетний режим облысения. С каждым появлением его на экране мы с нетерпением ждали новых признаков облысения, убеждались, что волосы тают, и проникались скорбной мыслью: наука бессильна в борьбе с облысением, иначе бы Главный доказал нам обратное на личном примере.
Воспользовавшись моментом, Главный заметил, что во всем виноваты автомобильные пробки. Они порождают у некоторых наркотический эффект. Теперь в центр города смогут въезжать только служебные машины с особыми пропусками. Для пущей убедительности он полез в боковой карман пиджака и вынул любимую игрушку. Миниатюрный человечек обаятельно моргал глазами с большими ресницами. Когда-то он показался нам настоящим маленьким мужчиной с толстым узлом гламурного галстука, и мы даже открыли рты, увидев его в первый раз, и только со временем разобрались, что он – заводной. Главный представлял его как аккумулятор просвещенного общественного мнения, с которым сам готов был считаться.
– Ну что, Ом, – спросил он человечка, – что ты думаешь о сегодняшних происшествиях?
Ом запрыгал на одной ножке, подскакал к микрофону.
– Кто-то, кажется, хочет устроить нам пародию на черных иммигрантов в Европе. Но мы отвергаем эти разводки. Мы победим! – воскликнул Ом. – Победа будет за нами!
Главный усмехнулся правой стороной рта, пощекотал его за ухом, засунул в карман. Несмотря на то что Ом был игрушкой, некоторые наши сограждане считали, что он может вырасти и стукнуть кулаком по столу. «Ну и что, что заводной! – думали они. – Нам так хочется, чтобы это случилось, что этого не может не произойти!»
– Победа будет за нами! – подвел итог Главный.
Пока он выступал по телевизору, мертвецы захватывали банки, министерства, телеграф, телефонные станции, интернет-компании, а со стороны Алексеевского кладбища продвигались к Останкинской башне. Они бросились по квартирам расправляться с теми, кто их отправил на тот свет. Не обошлось без самосудов. Голых живых людей выбрасывали с балконов на асфальт.
Самосуды, продолжавшиеся до позднего воскресного вечера, ночью были приостановлены. В городе появились странные человекоподобные существа с вытянутыми черепами умных псов. Они напоминали египетские изображения. Они были стройны и изворотливы в бою. Они говорили человеческими голосами, но только очень отрывисто. Было видно, что мертвецы их боятся. Эти люди с собачьими головами не были похожи на мертвецов, но и на живых они тоже не смахивали. Об их природе немедленно появились разные догадки. Мы решили, что это – духи, комиссары мертвецов, а также их пожиратели, полупроводники наших судеб, но у нас не было доказательств. Мы должны были быть им благодарны, хотя бы за то, что они приостановили разгром города, превращение его в печальные руины. По их милости победный рывок мертвецов растянулся во времени.








