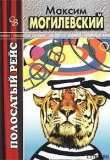Текст книги "Полосатый рейс (сборник)"
Автор книги: Виктор Конецкий
Соавторы: Алексей Каплер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Будем шепотом… – сказал Сажин, скинул шинель, вошел в комнату. – Здравствуйте, Настя! – действительно шепотом сказал он, но так тряхнул ее руку, что Настя громко вскрикнула, и дети проснулись. Сажин возбужденно заходил по комнате.
– Ну, валяй выкладывай, случилось что–нибудь? – спросил Глушко.
Сажин остановился, взвихрил волосы.
– Случилось, – сказал он, – ты фильму нашу не смотрел еще – «Броненосец „Потемкин"»?
– Нет еще.
– Потому и спрашиваешь – что случилось? Видел бы – не спросил бы! В общем, одевайтесь и сейчас же идите в кино.
– Да ты что? Ночь на дворе.
– Да?… Ночь?… Ладно, завтра пойдете, – разрешил Сажин. – Это, братцы, такая вещь… просто революция… вот это кино, это я понимаю… Какой же я был дурак… до чего дурак… Кто бы мог думать… А наши посредрабисники… И женщину одну если б вы видели… там сына убили… – И, помолчав, Сажин сказал как бы уже самому себе: – Ах, черт меня возьми, черт меня возьми… – Сажин опомнился, заметил, что мальчишки не спят, смотрят на него во все глазенки. – Товарищи, простите, я, кажется, всех переполошил, детей разбудил, ах, черт возьми… пойду я…
И снова Сажин стоял у старой, покосившейся халупы за развалившимся забором. На этот раз он вошел в калитку и постучал в дверь. Никто не ответил. Затем из сарайчика в глубине двора вышла старуха.
– Клавка? – ответила она на вопрос Сажина. – Съехала. Давно съехала.
– Куда? Не знаете?
– Нет, милый, того не знаю. Не платила за квартиру – сколько ей ни говорю, а она: тетя Даша да тетя Даша, потерпите – нету, ну, нету денег… Я сама вижу, что нет, терпела, да всякому терпежу ведь конец бывает…
– Она, может быть, перебралась куда–нибудь тут же, в Одессе?
– Нет, милый, нет. Очень ее участковый донимал, что документу нет… куда–то поехала доли искать. Наймусь, говорит, в горничные. А кто ее с двумя добавлениями возьмет? Вот тут жила она…
Старуха открыла дверь в пристройку – тесный сарайчик, с крохотным – в ладонь – окошком. Земляной пол. В углу солома, покрытая рядном. Оглядывая это жалкое жилье, Сажин заметил на подоконнике бутылку с темной жидкостью. На приклеенной бумажке были написаны знакомые два слова «Грудной отвар».
– Это я ей заваривала, – сказала старуха, – какой–то, сказывала, человек больной у нее был…
Сажин взял бутылку. Еще раз взглянул на убогую конуру, на солому в углу. Простился. Ушел.
Каждый день ходил Сажин на «Броненосец „Потемкин"».
На зрителях «Бомонда», на их взволнованных лицах мерцал отраженный свет. Сажин сидел среди них, мучительно вглядываясь в экран, где Клавдия снова трагически несла навстречу своей смерти мертвого ребенка. Вот прошли кадры Клавдии, закончилась часть, и Сажин встал, пошел к выходу. Зрители сидели молча, потрясенные картиной, и терпеливо ждали продолжения. Сажин остановился на улице у входа в кино, возле большого плаката с фотографиями из «Броненосца». Там была и фотография Клавдии, несущей ребенка. В кинобудке нервничал Анатолий. Он снял уже с аппарата бобину с показанной частью и, обернувшись, увидел, что мальчика со следующей частью нет.
– Ну где он, проклятый… Сеанс срывает…
– Толик! – раздался отчаянный крик с улицы. – Бежи на помощь!
Анатолий – как был – босиком выскочил на площадку наружной лестницы. Внизу стоял Василек. Он держал высоко над головой вырванную у Бома коробку пленки, а свободной рукой отталкивал мальчишку, который храбро бросался на него. Хохоча, Василек помахал коробкой в воздухе и крикнул Анатолию:
– Привет, Толюнчик! Ты у меня еще харкать кровью будешь за ту суку Верку. Я буду с каждой программы у тебя части перехватывать и сжигать. Понял, падла?…
Анатолий спрыгнул с площадки, минуя лесенку, прямо в снег и бросился на Василька. Но тот встретил его сильным ударом в лицо, и Толик упал. Василек побежал, отмахиваясь от Бома, который цеплялся за его ногу и кусался, как собачонка.
Анатолий, шатаясь, встал и кинулся за Васильком. Шлепая босыми ногами по снегу, он догнал бандита у входа в кинотеатр и рванул у него из рук коробку. Сажин увидел, как блеснул нож, и Василек удрал, оставив пленку в руках Анатолия. Сажин подбежал к нему. У Анатолия была разодрана куртка и кровь шла из раны на руке.
– Давай перетяну руку…
– Потом, потом… – бормотал Анатолий, – потом…
И он пошлепал босой обратно к своей кинобудке. Сажин помог ему взобраться по лесенке, и Анатолий стал заряжать часть. В зале не слышалось обычное в таких случаях «сапожник», но там уже топали ногами – антракт затянулся. Наконец пленка заряжена, свет в зале потушен.
– Крути, – сказал Анатолий Бому, который поднялся в аппаратную. И Бом завертел ручку.
– Тут у меня дельная аптечка есть… – Анатолий указал на тумбочку, и Сажин достал из картонной коробки бинт и йод. Рана повыше локтя была неглубокой, и, разрезав рукав Толиной куртки, Сажин обработал ее йодом и накрепко забинтовал.
– Ну, теперь я в полном ажуре, – сказал Толик и попытался двигать рукой, – только, гм… крутить придется сегодня тебе одному, Бомка.
– Покручу, подумаешь, международный вопрос…
– Чем бы тут вам помочь? – спросил Сажин.
– Все нормально. Спасибо.
На кухне сажинской квартиры происходили важные события. Вся женская часть населения сбилась вокруг Лизаветы, которая держала в руке письмо. На Лизавете был «роскошный» халат, пальцы унизаны кольцами.
– Чтоб я так жила – Веркин почерк, – говорила она, рассматривая письмо, – чтоб я своего ребенка почерк не узнала… Адрес – Сажину…
– А ты погляди штымпель – откедова кинуто… – посоветовала соседка.
Лизавета вертела письмо и так и этак, но разобрать место отправления не могла.
– Не девка – холера. Нам в воскресенье ехать, все бумаги выправлены, а тут эта чертяка кудась пропала.
– Да ты, Лизка, почитай письмо… – советовала соседка, – да и выкини его.
– Боюсь я… какой ни на есть голодранец тот Сажин, а комиссар вроде все же… узнает, что будет…
– Все вы, бабы, дуры нестриженные, – вмешалась другая соседка, – над паром, над паром подержи письмо, – и откроется, потом слюнями али клеем… я это дело слишком хорошо знаю. Бона чайник кипит…
С этим предложением все сразу согласились. Подержали конверт над паром, он действительно раскрылся, и Лизавета извлекла письмо.
– Читай, читай, Лизка… Ну, читай же…
Однако Лизавета отдала письмо той, что научила держать над паром.
– Ты читай, у меня сил нету…
– «Сажин, – прочла соседка, – я в Москве. Еще ничего не знаю. С прошлым – все. Адреса не сообщаю – он тебе не нужен. А другим не даю – они мне не нужные. Прощай, Сажин. Вера».
Пока читалось письмо, Лизавета прослаивала чтение громкими стонами, теперь же она дала себе волю.
– Ой, стерва, ой же стерва, – рвала она на себе волосу – все бросить! В Парыж уже ехали… Ой, плохо, ой, худо мне… ой, умираю… – И Лизавета стала оседать на пол. Одна соседка подхватила ее, усадила на табуретку, другая набрала в рот воды и давай прыскать на Лизавету, как на белье при глажке. А та вскрикивала при этом: Ой, лишенько! Ой, горе мое! Ой, граждане Пересыпи, смотрите на мой позор!
В тот день в Одессе пришвартовался иностранный корабль.
Шел по улицам города человек в отличном осеннем пальто, в светло–серой итальянской шляпе, на ногах коричневые ботинки на толстой каучуковой подошве. Шел, осматривался по сторонам, иногда спрашивал, как пройти на Торговую улицу. А подойдя к особняку с фигурой каменной дивы у фонтана, вошел во двор и, встретив в загроможденном мебелью коридоре Юрченко, спросил:
– Вы не скажете, дома товарищ Сажин?
– А хиба я справочное бюро, – пожал тот плечами.
– Но дверь его комнаты вы знаете?
– Вон та… – ткнул пальцем Юрченко и ушел с таким видом, будто ему было нанесено несмываемое оскорбление.
Пришедший постучал в дверь. Сажин сидел на кровати с прочитанным, видно, только что Веркиным письмом в руке. Услышав повторный стук, он сказал:
– Войдите! – и встал.
Дверь открылась, и к Сажину метнулась фигура человека, которого он еще не успел разглядеть. Метнулась и зажала Сажина в железных руках:
– Здоров, комиссар!
– Сева! – крикнул Сажин. – Севка! Туляков!
Туляков наконец отпустил Сажина, и они стояли друг против друга, смеясь, то снова обнимаясь, то похлопывая друг друга по плечам. Потом Туляков посмотрел на голые стены:
– Вот ты куда спрятался…
– А ты, я вижу, совсем обуржуазился… не торгуешь, часом?
Туляков рассмеялся…
– Махнем куда или тут, у тебя в берлоге, засядем?
Сажин натянул шинель, и они вышли в город.
– Слушай, откуда ты взялся? – спросил Сажин.
– Пароходом, из не наших стран. Завтра утром в Москву. А что у тебя со здоровьем?
– Получше, как будто.
– Ну, в общем, я про тебя знаю, – сказал Туляков, – давно справлялся… Освоился с новым положением?
– Как тебе сказать, Сева, и да и нет, к артистам своим даже привык, стал вроде бы их понимать, да вот город…
– Что «город»? Тебе ведь велено на юг.
– Да, но все равно, понимаешь, тоскую по дому… Все не так… и потом, весь день, например, я слышу нормальную человеческую речь, но стоит услышать один раз в трамвае: «Мужчина, вы здесь слазите?» – и я кусаться готов.
Туляков смеялся:
– Ну, брат, с этим еще мириться можно. Это в тебе прежний учитель возмущается. А так – по–серьезному?
– А по–серьезному – смотри сам…
Катили по Дерибасовской бесшумные рысаки со сверкающими пролетками на «дутиках», благополучные нэпманы и нэпманши важно шли навстречу. Друзья остановились у витрины большого ювелирного магазина. Бриллиантовые броши, жемчужные ожерелья, изумрудные кулоны, кольца с драгоценными камнями – все светилось, переливалось в смешении дневного света и электрической подсветки. Сквозь витрину видна была дама, которая примеряла кольцо с бриллиантом. Перед нею юлил, расхваливал товар хозяин.
– Что ж, – усмехнувшись, сказал Туляков, – все правильно. Пускай торгуют.
На каждом шагу друзьям открывалась то кондитерская с тортом в человеческий рост, то кричащая афиша ночного кабаре с полуголой девицей, застывшей в танце.
– Зайдем? – остановился Туляков у входа в рулетку. Зашли.
В первом зале действовало «Пти–шво». Лошадки бежали и бежали по кругу, принося кому выигрыш, кому проигрыш. Во втором зале шла игра в карты по–крупному. Здесь стояла напряженная тишина. Свечи в канделябрах освещали бледные лица, глаза, прикованные к зеленому сукну. Крупье во фраке ловко загребал длинной лопаткой ставки проигравших и пододвигал фишки выигравшему. Сажин и Туляков переглянулись. Туляков сказал:
– Все правильно. – И друзья вышли на улицу. Обогнув угол, они оказались перед кинотеатром «Ампир», в котором тоже шел «Броненосец». Начинался сеанс, и в зал валом валили зрители.
– Гляди, Сева… – Сажин указал на четверку иностранных моряков, входящих в кинотеатр.
– Да, я за границей навидался, что творится с этим «Броненосцем». Военным запрещают смотреть – боятся, черти, как бы и их за борт… – Они остановились перед щитом с фотографиями из «Броненосца». – Три раза смотрел, – сказал Туляков, – пока не запретили… – Он указал на фотографию Клавдии с ребенком: – А эту ты заметил артистку?… Вот это артистка!
Нэпман в котелке, проходя, толкнул Тулякова и прошел, даже не заметив этого. Сажин хотел его обругать, но Туляков сказал:
– Ничего, все правильно, пускай пока толкается, – и обратился к Сажину: – Слышь, а не выпить нам? Кажется мне, обязательно надо выпить..
Сажин достал из кармана деньги и стал считать.
– Да у меня есть, – сказал Туляков, – не надо.
Однако Сажин досчитал и только тогда сказал:
– Пошли.
По дороге в ресторан Туляков рассказал о себе.
– А я, брат, почтальоном стал, дипкурьер – тот же почтальон. А в поезде или на пароходе едешь – дверь на замок, пистолет с предохранителя. Все–таки человеком себя чувствую…
– Да, это здорово… – с завистью сказал Сажин.
В ресторане дуэт – скрипка и рояль – играл «Красавицу». Перед эстрадой танцевали. Особенно старалась веселая старая дама. Ее партнером был томный юноша, видимо, состоящий «при ней».
– Все правильно, – сказал Туляков, садясь за столик, – пускай гуляют.
– Пускай гуляют, – смеясь, откликнулся Сажин.
Официант подал меню.
– Во–первых, графин водки. Большой, – распорядился Туляков.
– А сколько стоит большой? – обеспокоенно спросил Сажин.
– Да брось ты, – махнул рукой Туляков. – В общем, графин и закуска – чего там у вас есть?
– Икорки прикажете зернистой, семужка есть, ассорти мясное, балычок имеется…
– Значит, так, – сказал Туляков, – икру зернистую, семгу, балык…
Официант быстро записывал заказ в блокнот.
– …и прочее, – продолжал Туляков, – оставьте на кухне, – официант с недоумением посмотрел на него, – а нам несите селедки с картошкой. Договорились? Да картошки побольше.
Презрительно зачеркнув первоначальный заказ, официант исчез. Сажин развернул и осмотрел салфетку, затем стал протирать ею фужеры и рюмки.
– Узнаю, – улыбнулся Туляков, – ну и зануда ты был, честно говоря, с твоей чистотой да с первоисточниками – с Бебелем и Гегелем…
– Слушай, Сева, – сказал Сажин, – когда я выпил первый раз в жизни, то из–за этого женился. Что будет теперь? Не знаю.
Зал был заполнен декольтированными дамами – бриллианты в ушах, пальцы унизаны кольцами, на спинки кресел откинуты соболиные палантины и горностаевые боа. Столы заставлены коньяком и шампанским в ведерках со льдом, горами закусок, под горячими блюдами горели спиртовки. По залу бесшумно носились лакеи во фраках.
Графин перед друзьями быстро опустел. Туляков, мрачнея, оглядывал зал и по временам произносил свое: «Пускай гуляют…»
– Пускай гуляют, – повторил Сажин. Он жестом подозвал официанта и протянул ему графин: – Повторили! – А помнишь, Севка, тот хутор?
– Еще бы! Как дроздовцы от нас чесали! Неужели забуду… Я тогда первый раз тебя в бою увидел. Ну, думаю, очкарик дает… Вот это так комиссар…
– Было время.
– Послушай, друг, – сказал, нахмурясь, Туляков, – давай–ка я тебя отсюда уволоку? Оформим почтальоном – за это ручаюсь, – и будешь ты возить диппочту и на ночь пистолет с предохранителя… А? Да ты не отвечай. Завтра утром со мной в поезд и с полным приветом… Дело решенное!
Музыканты играли, время от времени лихо выкрикивая: «Красавица моя, скажу вам не тая, имеет потрясающий успех. Танцует как чурбан, поет как барабан, и все–таки она милее всех».
Официант быстро принес второй графин.
– Давай, Севка, за советскую власть… – Сажин налил доверху большие фужеры, выпил до дна и вместо дуэта вдруг увидел на эстраде квартет.
Сажин снял очки, и мир превратился в вертящиеся светлые и темные пятна. Надел очки – и пятна стали нэповскими рожами. Сажин вдруг встал, пошатнулся и, одернув френч, твердым шагом направился по проходу к эстраде.
– Ты куда? – испуганно вскрикнул Туляков, но Сажин продолжал идти между столиками – странный человек из другого мира.
Туляков кинулся за ним, чтобы удержать, но Сажин уже взошел на эстраду и поднял руку. Музыканты растерянно, нестройно смолкли. Публика в зале, перестав жевать, с недоумением уставилась на непонятного человека во френче, в галифе, оказавшегося на эстраде. Постояв немного и дождавшись тишины в зале, Сажин вдруг запел во весь голос, дирижируя сам себе рукой: «Мы красные кавалеристы, и про нас былинники речистые ведут свой сказ…»
Зал замер. Произошло нечто невероятное, неслыханное, скандальное… Минуя ступеньки, одним махом вскочил на эстраду Туляков, встал рядом с Сажиным, и они, обнявшись, стали петь вместе:
«О том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные мы гордо, мы смело в бой идем…»
Странный человек во френче обнимал одной рукой друга, другой размахивал, дирижируя, и пел.
Музыканты – скрипач и пианист – подхватили мелодию, и теперь «Буденновская кавалерийская» уверенно понеслась над притихшим залом ресторана.
Неожиданно какой–то низенький кривоногий официант поставил на пол прямо посреди прохода блюдо, которое нес, вскочил на эстраду и, став по другую сторону рядом с Сажиным, тоже запел:
«…Веди ж, Буденный, нас смелее в бой! Пусть гром гремит, пускай пожар кругом, мы – беззаветные герои все»…
Сажин и его обнял.
Подбежал метрдотель, бросился к эстраде:
– Господа, товарищи… Прошу прекратить…
Но на него не обратили никакого внимания ни поющие, ни музыканты. Песню допели. «Артисты» спустились в зал. Взбешенный метр набросился на официанта:
– Как вы смели! Завтра же я вас уволю!
Но маленький официант только рассмеялся:
– Да я сейчас сам уйду.
– Позвольте, Лапиков, у вас же шесть столов. Официант сунул ему в руку салфетку.
– Сам их и обслуживай. Меня нет дома, – и, прихватив по пути бутылку водки со стола, догнал друзей.
Они вышли втроем на пустынный бульвар, хлебнули по очереди из бутылки и пошли дальше – один в шинели, Другой с заграничным пальто в руке и в шляпе, сдвинутой далеко на затылок, третий во фраке. Шли и пели: «Никто пути пройденного у нас не отберет…»
Туляков сделал предостерегающий жест и приложил палец к губам – впереди показалась фигура милиционера. Замолчав, тройка прошла мимо строгой фигуры, стараясь шагать твердо и прямо. Но, зайдя за угол, снова загорланили песню, начав с первых строк: «Мы красные кавалеристы, и про нас…»
– Не забудь, – наклоняясь к Сажину, сказал Туляков, – поезд ровно в десять. Билета не нужно, у меня купе служебное… Не опоздай…
– Буду как штык, – ответил Сажин и подхватил со всеми вместе: «О том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные мы гордо, мы смело в бой идем…»
…Рано утром в Посредрабисе было пусто. Сажин сидел за своим столом. Закончив письмо, он подписал его, вложил в конверт и надписал: «Окружком ВКП(б) тов. Глушко». Заклеил, оставив письмо на столе. Положил ключи на сейф.
Встал, медленно прошел по залу, остановился у стенной газеты. Исправил орфографическую ошибку в передовой статье. Осмотрелся. Пошел к выходу.
…На перроне Сажин появился с чемоданом. Туляков издали замахал рукой, увидев его. У вагонов люди прощались, целовались, что–то говорили друг другу. Кто–то смеялся, кто–то плакал. Кто–то играл на гармошке. Из игрушечного вагончика дачного поезда, что остановился против московского, выходили музыканты со своими трубами, басами, скрипками и тромбонами. Маленький человечек легко нес огромный контрабас и о чем–то спорил с барабанщиком. Заметив Сажина, замахал рукой скрипач, так поразивший его когда–то в городском саду.
К вагону Тулякова Сажин подошел, когда прозвучал второй звонок. «Бом! Бом!»
– Ты, как всегда, впритирку, – встретил его Туляков, – давай чемодан. – Он передал чемодан проводнику, и тот внес его в вагон.
Музыканты шли мимо, и барабанщик, проходя за спиной Сажина, легонько ударил колотушкой в барабан. Сажин оглянулся, улыбнулся ему.
– Молодец, что решился, – сказал Туляков Сажину, – так и надо – рубить сплеча. Молодец. Не пожалеешь. Ну, давай садиться, пора…
Сажин, однако, медлил. Раздался третий звонок. «Бом! Бом! Бом!»
Туляков поднялся на площадку.
– Давай, Сажин, давай!..
Сажин засунул руки в карманы шинели и сказал:
– Я не поеду, Сева.
– Что?
– Не поеду… Нельзя.
– Да ты с ума сошел!!! – Поезд уже двигался. – Сажин, прыгай, дурачина!
Но Сажин покачал головой и остался на месте.
Поезд набирал ход. Туляков, махнув рукой, исчез в вагоне. Затем открылось окно, и на самый уже край перрона полетел сажинский чемодан.
С этим чемоданом в руке неторопливо вышел Сажин на одесскую привокзальную площадь. У фонаря так же, как и в первый день его приезда, стоял старый одессит. Он поклонился, Сажин ответил ему. И дальше пошел Сажин по улицам Одессы, и с ним здоровались некоторые встречные – проехал Коробей на своей колясочке, простучал приветствие щетками по ящику чистильщик, поклонился Сажину с высоты железной лесенки Анатолий, вышедший из кинобудки…
* * *
Старший батальонный комиссар Сажин Андриан Григорьевич погиб в бою, защищая город Одессу, 21 сентября 1941 года восточнее Тилигульского лимана и похоронен в братской могиле.
Виктор Конецкий. Кто смотрит на облака
Моей матери Любови Дмитриевне Конецкой
Глава первая, год 1942
ТАМАРА
1
Тамара Яременко, пятнадцати лет, полурусская-полуукраинка, родившаяся в Киеве и потерявшая мать во время бомбардировки Нежина, добралась до Ленинграда к тетке по отцу.
Тамара была девочка высокого роста и выглядела старше своих лет. Тетку Анну Николаевну она никогда раньше не видела, и отношения у них сложились тяжелые. Анна Николаевна хотела спасти от гибели десятилетнюю дочь Катю, ради нее шла на любые жертвы, а Тамара, свалившаяся на голову в самое страшное время, вынуждала к заботам о себе.
Но Тамаре некуда было ехать. Да и Ленинград был окружен.
По мере того как голод увеличивался, морозы усиливались, безнадежность в душе Тамары росла. И, как это ни странно, главной успокаивающей мыслью была у Тамары мысль о том, что ей не надо ходить в школу и что она может забыть о своем высоком росте, из-за чего мальчишки раньше смеялись над ней. Она понимала, что слабеет и что может умереть скоро, но не пугалась этого, потому что не успела повзрослеть от несчастий. И когда во время воздушных тревог она читала Кате «Хижину дяди Тома», то плакала с ней вместе.
Тамара не поднималась в мыслях до судеб страны, своего народа, хотя давно привыкла говорить не «честное пионерское», а «честное комсомольское». Она как бы замерла, ожидая возвращения той жизни, которой она жила недавно в зеленом городе Киеве, над Днепром, среди тихого стрекота стручков акаций, с мамой и отцом.
Ранним утром четвертого января сорок второго года Тамара стояла в очереди к булочной на площади Труда.
«Небо уже фиолетовое, – думала она. – Скоро откроют дверь. Добавок, если он будет маленький, я съем. Прижму его языком к зубам и буду держать. Из него пойдет сок. В нем много сока, особенно в корке, хотя она и твердая. А о морозе лучше не думать. Если долго что-нибудь терпеть, уже ничего и не замечаешь. В таком небе мороз еще больше, чем на земле, и летчикам, наверное, еще хуже, чем нам. Если сейчас не откроют дверь, я закричу. Я совсем, совсем уже не могу. Почему, когда людям плохо, морозы совсем фиолетовые? Если есть Бог, он злой. Моему животу еще никогда не было так холодно. Господи, прости меня, пускай дверь откроют. И пусть они свешают хлеб с добавком, потому что я никогда не отковырну кусочек от целой пайки… А у старушки уже не идет пар изо рта. Зря она села на тумбу. Если я не пошевелюсь, то тоже умру. Ничего, ничего, откроют же они дверь когда-нибудь. Они нас обвешивают, крошки падают сквозь деревянную решетку, и под прилавком к вечеру набирается целая гора крошек, и продавщицы их едят, они обязательно их воруют. Но все их боятся, потому что они могут обвесить еще больше. Мороз такой синий-синий. Нет, нельзя плакать. Я приду домой, лягу, укроюсь с головой и тогда буду плакать. Сколько я не съела завтраков на переменках в школе, сколько не съела винегрета! Когда булка подсыхала и масло на ней желтело, я выбрасывала завтрак… Вот. Они открывают дверь. Куда лезет этот ремесленник? Ага, его отпихнули. Так ему и надо. Дяденьку запустили. И тетеньку из проходного двора. Меня – в следующий раз. А бабушка замерзла. И бидон на снегу стоит. И кто-нибудь вытащит у нее карточки, потому что нет ни патрулей, ни милиционера…»
Тамара стояла теперь возле самой булочной. Стекло в двери было выбито и заколочено досками. На шляпке каждого гвоздя нарос иней. Из булочной слышался глухой топот от переминания многих ног по простывшему полу. Слева от дверей стоял ремесленник – мальчишка лет пятнадцати, в рваном форменном ватнике, с замотанной полотенцем шеей, в натянутой на уши кепке. Он прислонился к стене, глаза его полузакрылись, как у спящей птицы, синее лицо не выражало ничего. Он несколько раз совался к дверям, но его отталкивали. И он стоял возле стены, не понимая, что надо занять очередь в конце, потому что приходят все новые люди, и они не пустят его впереди себя, хотя он пришел раньше их.
Город медленно выползал из тьмы, но не просыпался, потому что и не спал. Город и днем и ночью хранил в себе оцепенелость. Простор площади волнился сугробами. Между сугробами извивалась очередь в булочную. С крыш курилась снежная пыль. И все это было беззвучно. Как будто город стоял на дне мертвого моря. Густо заиндевелые деревья, разрушенные здания, мосты, набережные, очередь в булочную – все это было затоплено студеным морем.
Ремесленник открыл глаза и сказал шепотом:
– Граждане, я вчера здесь, в булочной, карточки потерял, пустите, граждане, не вру, граждане, помираю.
Никто ему не ответил.
«Если карточки потерял, зачем тебе в булочную, – думала Тамара. – Нет, ты не двигайся, ничего у тебя не выйдет. Я тебе не верю. А может быть, я тебе верю, но лучше мне тебе не верить. Это так страшно – потерять карточки. Лучше пускай бомба упадет прямо в кровать. Только немцы мало бомбят зимой. И лучше бы наши не стреляли из зениток. Как только наши начинают стрельбу, так они и бросают бомбы».
Дверь отворилась, и кто-то сказал:
– Следующие двадцать.
В булочной пар от дыхания витал над огоньками коптилок. Коптилки горели возле продавщиц. За спинами продавщиц на полках лежали буханки. Длинные ножи, одним концом прикрепленные к прилавку, поднимались над очередной буханкой, опускались на нее, зажимали и медленно проходили насквозь. И края разреза лоснились от нажима ножа. А вокруг было, как в храме, приглушенно. И все смотрели на хлеб, на нож, на весы, на руки продавщиц, на крошки, на кучки карточных талонов и на ножницы, которые быстрым зигзагом выхватывали из карточек талоны.
Тамара получила хлеб на один день, потому что на завтра не давали. Норма могла вот-вот измениться. И никто не знал, в какую сторону.
Тронуть добавок она не решилась. Положила хлеб на ладонь левой руки и прикрыла его сверху правой.
До дома близко – три квартала, и хлеб не должен был замерзнуть. Она открыла ногой дверь из булочной, потом просунула в щель голову, потом плечо, потом шагнула в умятый снег, блестевший от утреннего солнца. И сразу черная очередь, белые сугробы и фонарный столб помчались мимо нее в сверкающее утреннее небо. Ремесленник толкнул Тамару, прыгнул на нее, вырвал хлеб, закусил его и скорчился на снегу, поджимая коленки к самой голове.
Очередь медленно приблизилась к ремесленнику, и он исчез под валенками, сапогами, калошами и ботинками. Люди из очереди держались за плечи друг друга. Ремесленник не отбивался, только старался прятать лицо в снег, чтобы можно было глотать хлеб. Потом закричал.
Очередь тихо вернулась на свои места. А Тамара вытащила из костлявых пальцев ремесленника остаток хлеба, заслюнявленный, со следами зубов. «Анна Николаевна мне не поверит, – подумала она с безразличием. – Она велела мне взять авоську, а я не взяла, забыла».
Ремесленник пошевелился и сел на снегу. Кровь каплями падала изо рта на сизый ватник. Кепку его втоптали в снег, и бледные волосы мальчишки шевелил ветер. Но его широкое во лбу и узкое в подбородке, с морщинистой кожей, лицо было смиренным.
– Ты что, с ума сошел? – спросила Тамара. Она засунула остаток хлеба в варежку и пошла к каналу Круштейна, мимо разбитой витрины аптеки, мимо вывески «Сберегательная касса», мимо старинной чугунной тумбы на углу.
Бухнул снаряд, и звук разрыва среди оцепенелой тишины прозвучал как нечто живое.
Тамара поднялась на третий этаж, ощупью, в темноте, миновала коридор и наконец отворила дверь комнаты. Окна комнаты выходили в узкий дворовый колодец, и потому стекла уцелели. Две кровати молчали в углах, заваленные мягким барахлом.
Анна Николаевна и Катя спали.
«Я не стану будить их, – решила Тамара. – Я оставлю свою карточку, чемодан и туфли. Завтра они получат и мои сто двадцать пять грамм. А я куда-нибудь пойду. Хорошо, что вы спите, Анна Николаевна. Прощай, Катя. Если бы можно было сделать, чтобы не было сегодня и сейчас… Но это никак нельзя. Вот, я взяла только кольцо. Мама сказала носить его всегда. Оно не золотое, Анна Николаевна, оно серебряное с позолотой. За него не дадут и крошки хлеба, честное слово».
Тамара тихо прикрыла дверь, прошла кухню, коридор, спустилась по лестнице, вышла на канал, потом на площадь, мимо старинной чугунной тумбы на углу, мимо вывески «Сберегательная касса», и оказалась на бульваре Профсоюзов. Вдоль бульвара стояли замерзшие троллейбусы, свесив нелепо дуги, растопырив широкие колеса. Ветер мел поземку. Индевелые деревья смыкались ветвями над головой. Скоро они начали кружиться, и Тамара уже не знала, идет она, или стоит, или сидит, и не знала, ночь сейчас или день.
…Арка почтамта, замерзшие часы. Черные матросы из патруля с автоматами на груди. Машина с надписью: «Почта». Живая машина, от нее сзади летит теплый дымок. Тамара толкнулась в высокие двери почтамта. Они с трудом поддались. Огромный зал с белой, сверкающей крышей. И пакеты, пакеты, мешки, мешки… И ни капельки не теплее, чем на улице. Но нет ветра. Она села в уголок, натянула полы пальто на колени, засунула руки в рукава, зажмурилась и увидела большой, желтый, перезрелый огурец. И коров, привязанных веревкой за рога к телегам беженцев. Коровы шагали, широко расставляя задние ноги, их давно не доили.
– Нашла место спать! – громко сказал кто-то. – От какого райкома?
Человек был высокий, в белом полушубке, один рукав засунут под ремень.
– Я приезжая, я тут не помешаю, честное слово. Я карточки потеряла, – сказала Тамара.
– Комсомолка? Тебя, черт побери, спрашивают!
– Да. Только я с войны взносы не платила…
– Безобразие, – сказал однорукий. – Распущенность. Секли тебя мало в раннем детстве. Секли или нет?
– Не знаю, – сказала Тамара.
– Пороли тебя или нет в детстве?
– Не знаю. Не выгоняйте меня, я не буду ничего плохого…
– Вставай!
Он взял ее рукой за воротник, приподнял, встряхнул, потом проволок в вестибюль и вытолкнул через тяжелые двойные двери на улицу. И она сразу села в снег.
– Очень хорошо, – сказал он. – Так и сиди. Сюжет будет называться: «Она потеряла карточки». Черт, затвор сразу замерзает! Знала бы ты, как трудно фотографировать одной рукой! Все. Вставай! Нам надо идти, слышишь? Здесь близко у меня есть великолепный угол, и там горит печь, и клей варится уже третий час.
Однорукий опять схватил ее за воротник и поднял на ноги.
Желтая арка почтамта и большие синие часы. Черные матросы из патруля с оранжевыми автоматами на груди. Сверкающий снег и падающий с проводов сверкающий иней. И где-то недалеко – бум! – в простывший камень ударило горячее, острое и тяжелое.
– Шагай, шагай, – говорил однорукий. – Ты не такая дохлая, как думаешь. В тебе полно жизни. Я тебя отогрею и пошлю работать. Ты пойдешь разносить корреспонденцию. Видишь, дверь под лестницей? Жить под лестницей спокойнее в такое время. Самое крепкое на свете – то, по чему людишки поднимаются вверх. Садись к печке и теперь можешь спать. А через два часа ты пойдешь на работу.