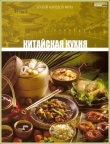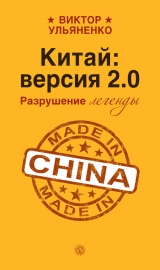
Текст книги "Китай: версия 2.0. Разрушение легенды"
Автор книги: Виктор Ульяненко
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Учение до умопомрачения
Девяностые и двухтысячные особого оптимизма наблюдателю за китайской семьей (если он уважает те, традиционные семейные ценности) придать не могут. Единственное, в чем молодые китайские родители упорны до фанатизма (мы говорим по-прежнему о городских семьях), – так это непомерное принуждение ребенка к учебе. С младших классов ребенок занят этой самой учебой с утра и до позднего вечера, занимаясь в школе, дома, с репетиторами по математике, музыке, иностранным языкам, готовясь к бесконечным тестам и экзаменам, делая нескончаемые уроки, усердно зарабатывая себе сколиоз, близорукость и ожирение. Качество этого самого образования оставляет желать много лучшего, уровень учителей часто находится ниже плинтуса, и прилагаемые к учебе детьми и их родителями поистине титанические усилия отнюдь не формируют таких многосторонне развитых, культурных и образованных людей, как это можно было бы предположить, приняв во внимание количество учебных часов в день или неделю. Хотя это не имеет здесь особого значения, мы ведь не о проблемах образования разговариваем…
Сопротивление ребенка, иногда взбрыкивающего и пытающегося спонтанно бороться за счастливое детство (шансов увидеть которое при нынешнем алгоритме обучения в Китае у него почти нет), подавляется угрозами, физическим насилием, подкупом (игрушки-вкусняшки-деньги…), лестью, апелляцией к тому, что если он (ребенок) будет учиться хуже одноклассников, то произойдет неминуемая потеря «мяньцзы» («лица»)[8]8
См. гл. 9.
[Закрыть] – последний довод, кстати, по-прежнему отлично действует…
Такое впечатление, что нынешние китайские родители находятся в состоянии перманентной истерики, основной смысл которой состоит в том, что «давление жизни возрастает, конкуренция усиливается, нет хорошего образования – в жизни не устроиться, теперь не то что раньше…», требуя от своего отпрыска все новых и новых усилий в учебе. Если бы российских школьников принуждать учиться (не важно как – конфетами, ремнем, новым мобильным телефоном каждый месяц) хоть вполовину так же старательно, лет через десять все Нобелевские премии были бы наши, я полагаю.
Но, дорогой читатель, как говаривал Конфуций, «эр и» («на этом и все»). Во всем остальном, кроме учебы, китайские родители обычно предоставляют ребенку такую вседозволенность, возможность ощущать и открыто демонстрировать такое своеволие и пренебрежение к окружающим, что средняя российская семья с ее относительно либеральными порядками покажется на этом фоне зоной строгого режима. Какие там семейные обязанности, какое уважение к старшим и помощь ближнему, какая забота о родственниках и старание вести себя в обществе по-человечески? То, что позволяют себе нынче китайские дети по отношению к папе и маме, даже в восьмидесятые еще считалось неприличным, а уж раньше и вообще бы было воспринято как психическое расстройство у ребенка.
Если позволите, не буду приводить множество примеров. Однако регулярно наблюдаю, как китайский ребенок не просто капризничает, а фактически «посылает» маму или папу (только что средний палец не показывает), причем спокойно делает это и на публике; а те и пискнуть в ответ обычно не смеют. Кстати, что примечательно: в школе или ином детском коллективе китайские дети ведут себя еще относительно прилично, так что наблюдения за ними вас не поразят, но в семье…
Немного пообщавшись в китайских семьях с их малолетними отпрысками, невольно начинаешь ненавидеть всех детей, включая и своих. Временно, разумеется.
Мир потребления
Разумеется, данная ситуация во многих китайских семьях возникла не только ввиду уменьшения количества детей (как правило, до одной штуки) и посему умиленно-либерального отношения к ним со стороны старших. Ведь упоминавшийся выше «научный и цивилизованный образ жизни», старательно насаждаемый сверху, обозначает, конечно же, не столько «облегчение судьбы женщины от патриархальных традиций и домашних забот», сколько прежде всего постановку во главу угла культа потребления. Престижная работа, квартира, машина, мебель выдвигаются для городской семьи на первый план, постепенно, но быстро вытесняя рождение детей с первого на второй смысловой план. Для многих семей ребенок превращается из безусловной ценности высшей категории в необходимый атрибут «правильного» алгоритма современного существования: нужно, чтобы было, как у всех, – это престижно; но не больше одного – это нанесет ущерб процессу потребления; пусть будет нездоров и в семье ведет себя как агрессивный имбецил, но зато выигрывает конкурсы по музыке и экзамены по математике – у нас будет больше «мяньцзы», чем у соседей… Кем может сформироваться и вырасти ребенок, с детства ощущающий себя частью механизма потребления в большей степени, нежели субъектом человеческих отношений?
«В первую очередь работа, доход, карьера, квартира, машина… без этого и семья не семья, и рожать ребенка нельзя; нужно подождать, ведь научный и цивилизованный образ жизни – это позднее рождение единственного ребенка в материально обеспеченной семье…» – так сейчас мыслит множество городской молодежи. Примечательно, что формирование у населения Поднебесной образа «гармоничной семьи» именно как маленькой, зажиточной, способной к «нормальному» потреблению (основной показатель «гармоничности») происходило и происходит под одновременным влиянием двух факторов. Первый – естественный, если так можно выразиться, переход к полностью рыночному обществу с соответствующими моралью и нравственностью; второй – официальная пропаганда потребления как образа жизни, идущая «сверху»… то есть горизонталь и вертикаль.
Ошибкой было бы считать (хотя некоторые и приходят к таким выводам), что «вертикальное» насаждение идеологии приоритета потребления имело целью в первую очередь уменьшение среднего размера семьи и, соответственно, сокращение населения страны, – все несколько сложнее и запутаннее: китайское руководство слишком мудро, чтобы в любом мероприятии (тем более в гипермасштабной кампании) ограничиваться одной-единственной задачей. Но мы не об этом, а о древней и до недавнего времени стабильной, но при этом нынче как-то кое-где очень быстро оказавшейся под сомнением конфуцианской концепции семьи…
Само собой понятно, что речь идет не о полностью завершившейся тотальной трансформации, а о тенденции, хотя и очень значительной и уже принесшей заметные последствия. Во-первых (хотя это и вполне очевидно, давайте отметим еще раз), в разговоре выше мы с вами брали в расчет исключительно ситуацию в городах, оставив за кадром собственно деревню и те районы, которые еще несколько лет назад считались сельскими, а ныне (это распространено) массово приписываются к городской территории: смена прописки еще не означает автоматическую смену менталитета. Разумеется, влияние идеологии общества потребления никак не миновало и китайскую деревню, но… и условия жизни, и ценностные установки людей там все-таки слишком отличаются от городских. Так что говорить о крушении традиционных семейных ценностей еще рано, и выше приводились примеры этого.
Во-вторых, не стоит представлять себе картину таким образом, что абсолютно все городские семьи живут с одними и теми же, пусть и крайне распространенными, принципами и стереотипами и в каждой из них дети растут законченными эгоистами, которые относятся к своим родителям как к некой мебели, а к обществу – как мишени для плевания… Разумеется, многое зависит и от крепости традиций, характеров и убеждений в данной конкретной семье, и от географического положения данного конкретного города, и от его масштабов, и еще много от чего; так что ситуации можно наблюдать вполне себе разные.
И все же процесс идет, ибо и численность населения контролировать надо, и социальную напряженность сглаживать, да и идеология потребления сама по себе кого угодно может затянуть. Однако традиционная конфуцианская концепция семьи чудо как хороша, и не хотелось бы, чтобы через двадцать – тридцать лет к подобной фразе пришлось добавлять слово «была»…
Поскольку древняя китайская традиция весьма одобряет правильное, сбалансированное сочетание «вэнь» («гражданского», «цивильного» начала) и «у» (начала «военного», «воинского»), и даже сам весь из себя философичный и ни разу не спортивный Конфуций не брезговал-таки некоторыми воинственными упражнениями (любил временами поупражняться в стрельбе из лука), то и мы в следующей главе на время перейдем от теории к практике, обратившись к некоторым сторонам китайских боевых искусств.
Глава 3
«Прыгающий тушкан, затаившийся хорек»
Хорошо, если вы посвятите боевым искусствам свою жизнь. Ибо взамен они подарят вам гораздо больше, чем просто жизнь.
Масутацу Ояма
Для начала позвольте произнести миллион раз заезженную банальность: удивительное явление, которое именуется «китайскими боевыми искусствами» (и название это далеко не в полной мере передает суть и глубину означенного феномена), – несомненно, такая же драгоценность, как и традиционная китайская медицина. «Боевые искусства» создавались и отшлифовывались в течение многих веков теми людьми, которые могут по праву называться элитой китайской нации, и вклад их в сокровищницу мировой культуры до сих пор еще отнюдь не достаточно оценен человечеством. Мы с вами уже обращались к данной теме в предыдущей книге[9]9
Шокирующий Китай. Гл. «Mortal Combat, или Змея в тени Орла».
[Закрыть], но, уважаемый читатель, нельзя объять необъятное – ни в одной отдельно взятой главе, ни в книге, ни в многотомном компендиуме. Позвольте же здесь немного поделиться с вами моими наблюдениями о некоторых особенностях «боевых искусств» Китая в настоящее время, в том числе и кое-какими аспектами, связанными с изучением этих самых искусств россиянами.
«Почему „боевые искусства“, и при этом в кавычках?» – резонно спросит читатель. Почему не воспользоваться всем известным термином «ушу»? Как будто бы это слово в переводе на русский и означает «боевая техника», «техника боя»? Верно, но слишком уж нынче это слово ассоциируется прежде всего со спортом, соревнованиями, медалями и красивыми танцами в цветных костюмах, зачастую с легкими декоративными макетами оружия в руках: к настоящему искусству эти телодвижения имеют не больше отношения, чем пластмассовая моделька танка Т-80 к его реальному стальному прототипу. «Кунфу»? Как мы с вами давно знаем, это название – несколько искаженное китайское слово «гунфу», что обозначает «мастерство» (в смысле владения разнообразными искусствами, в том числе и боевыми, вообще); однако при слове «кунфу» большинство людей прежде всего представляет себе не что иное, как веселенький гонконгский боевик, где шустрые китайцы во главе с няшкой Джеки Чаном бодро машут руками и ногами, отправляют друг друга в нокаут, но через пару мгновений вскакивают и вновь берутся за свое… Этакое вечное «прыг-скок», зимой и летом одним цветом.
Что до кавычек, то, как уже было сказано выше, словосочетание «боевые искусства», к сожалению, более-менее передает смысл и значение только одной стороны тех практик, которые им обозначаются. Мы с вами должны помнить, что до сравнительно недавнего времени (примерно до конца XIX века) умные, практичные, рациональные китайцы не разделяли в своих «искусствах» «внешнее» и «внутреннее», сугубо боевое и чисто оздоровительное[10]10
Да и слово «оздоровительное» тоже можно употребить только с большими оговорками. Конечно, практика «пестования ци», вне всяких сомнений, обладает сильнейшим оздоровительным эффектом, но конечная ее цель все же в комплексном развитии человека, где физическая сторона дела неотъемлема от моральной, психологической и духовной составляющих.
[Закрыть]; разделение на «вайцзя» (внешние стили) и «нэйцзя» (внутренние стили) произошло, причем во многом весьма номинально, в том числе и в результате взаимодействия китайской культуры с западной. Избегают решительного разделения на «внешнее» и «внутреннее» в процессе собственных тренировок и обучения учеников и нынешние мастера (за исключением, разумеется, «чистых» спортсменов; хотя Китай есть Китай, и редко даже атлет, чья специализация – только и исключительно бои на лэйтае[11]11
Лэйтай (кит.) – площадка для поединков.
[Закрыть], в своей подготовке обходится без хотя бы азов цигуна), совершенно не зацикливающиеся на обязательной классификации той или иной техники по признакам «для реального применения» и «не для реального применения». Но вот европейцам (в том числе и россиянам), которые полагают Китай «загадочным и иррациональным», а себя как раз – умными и практичными, обыкновенно вынь да положь, дай четкое определение: «для боя» или «для здоровья»? «жесткое или мягкое»?
Иными словами, для китайского адепта «боевых искусств», даже несмотря на его, возможно, не особенно высокий культурный и образовательный уровень, диалектическое единство «внутреннего» и «внешнего», боевого и духовного совершенно естественно и проведение четких границ между ними представляется излишним. Европейский же специалист, даже зачастую посвятивший полжизни изучению «искусств», все никак не может отвлечься наконец от попыток классификации, раскладывания по полочкам и рисования черт и границ. Забавно, что вроде бы все всё понимают, но сделать хотя бы шаг в сторону от привычной «рациональной» идеологии порой бывает трудно…
Светлые перспективы и извилистые тропинки
Прекрасно, что традиции «боевых искусств» в Китае не прервались из-за войн и смут XX века, а ведь именно это столетие (но оно, и только оно, ибо еще в самом его начале даже ихэтуани рубились в основном мечами и копьями) сделало в Поднебесной тотальным применение огнестрельного оружия в разнообразных боестолкновениях. Кстати, не говорит ли нам этот факт о самоценности и самодостаточности феномена «искусств» вне зависимости от применяемости его сугубо боевой составляющей? Разумеется, да. Приятно осознать, что и годы культурной революции, обернувшись трагедией для многих школ и мастеров «боевых искусств», все-таки не смогли прикончить эту удивительную систему, и после относительного затишья 1980-х и отчасти 1990-х годов она снова показалась на свет божий, хотя и не в полной своей изначальной красе.
В последние годы стало понятно, что в Поднебесной действительно сохранились отличные мастера, вполне профессиональные, компетентные и в общем готовые передавать часть своих знаний и умений, причем не только китайским ученикам. И для россиянина, решившего посвятить некий фрагмент своей жизни изучению «боевых искусств» на их древней родине, существует сейчас довольно широкий выбор: можно устроиться в приличную школу и в «околошаолиньской» зоне, и в Чэньцзягоу – родных местах знаменитого тайцзицюань стиля Чэнь, и в традиционной вотчине «даосских» стилей – горах Удан… да и в крупных городах Китая хорошего учителя для себя найти, в принципе, не особенно сложно. Ибо, с одной стороны, прежние запреты на преподавание «боевых искусств» канули в прошлое, с другой – любой стоящий мастер теперь быстро становится известным благодаря интернету и обрастает толпой китайских учеников, слух перекидывается за пределы Китая, и вот уже, глядишь, эта школа открывает даже отдельные группы для иностранцев, да еще и с преподаванием на английском языке. Сервис, однако…
Тем не менее нужно хорошо представлять себе, что только в кино мастер передает все свое искусство любому встречному и поперечному, и вот уж скоро просто панда становится грозной «кунфу-пандой» и все пред ней трепещут и дрожат. В последние годы я с интересом наблюдаю в Китае некоторое количество наших сограждан и значительно большее число западных не-сограждан, мыслящих примерно этими не очень далекими категориями, то есть, в принципе, ждущих несбыточного чуда. Потому что, скажем, шарлатан (таких тоже стало немало, тема-то все более и более денежная) не в состоянии научить ничему хорошему, но и настоящему эксперту делиться всеми своими секретами с рядовыми учениками тоже в общем-то ни к чему…
Да и с нерядовыми, если подумать, тоже. Традиционная линия передачи мастерства в рамках китайской школы нисходит от отца к сыну (с незначительным количеством исключений, в основном – в случаях отсутствия или гибели детей мужского пола), а нарушение обычаев просто так, ни за-ради чего… противоречит китайской прагматичности. Существует предрассудок, что, дескать, китайские учителя «боевых искусств» специально обманывают иностранцев, исправно взимая с последних денежки за обучение, а сами передают истинные секреты только своим соотечественникам. При всем том, что мы с вами знаем об общем отношении китайцев к не-китайцам, это не очень верное рассуждение. В общем-то, по моим наблюдениям, все ученики находятся в системе «учитель – обучаемый» примерно в одинаковом положении, другое дело, что китайский адепт имеет как минимум два преимущества перед иностранцем. Первое – это, разумеется, китайский язык, который иностранцу ох как нелегко освоить до такой степени, чтобы понимать даже не особо тонкие нюансы своего обучения без перевода. Второе – возможность жить в Китае всю жизнь (родина, как-никак), постепенно втираясь к учителю в доверие, обхаживая его регулярно и постепенно выведывая новые и новые компоненты мастерства (ясно, что у иностранца, решись он даже вдруг провести в Поднебесной несколько лет, подобные возможности гораздо скромнее).
Уже несколько лет наблюдаю за жизнью одной весьма приличной и нынче известной в Китае, Европе и России школой «боевых искусств», в которой тренируются многие сотни человек, а на день рождения учителя его бывшие ученики слетаются со всей Поднебесной и из-за границы ТЫСЯЧАМИ, и для поздравительных пиршеств на три дня арендуется большой ресторан, где гости все время сменяют друг друга… Много лет усердный адепт тренируется и стремится попасть в особую, «элитную» группу, куда наставник зачисляет только настоящие «сливки» своей школы, но… попав туда, вскоре обнаруживает, что сын учителя занимается отдельно… и никогда, никогда никому не узнать, что же за тайны передаются от отца к сыну за закрытыми дверями.
Ну, насчет никогда – это я немного преувеличил. Нет ничего, что нельзя было бы в конце концов узнать при большом желании. Но раскрыть вам эту тайну (причем за просто так) я не имею права: «Но йог велел хранить секрет, вот…» (В. С. Высоцкий). А подсказку желающим дать вполне могу: если вы читали замечательный роман Сергея Лукьяненко «Последний дозор», то наверняка помните, что именно подразумевал переход с шестого на седьмой, последний слой сумрака. Очень похоже. Если же «боевые искусства» вас интересуют не очень, то и вовсе замечательно – обойдетесь без ломания мозгов в раздумьях…
Однако и бог бы с ними, с этими передаваемыми из поколения в поколение секретами, казалось бы, и без них в Китае для заморского поклонника «боевых искусств» просто райская жизнь: все настоящее, аутентичное, китайское… учись не хочу! Ладно там секреты, нам бы базовой техникой хоть овладеть… Так и поступает… уважаемое мной меньшинство, а большинство все делает совсем не так. Удивлены? А уж я-то как поражаюсь в последние годы, наблюдая «лаоваев»[12]12
Для тех, кто не читал «Шокирующий Китай», поясню: даже подолгу прожившие за границей китайцы продолжают убежденно считать окружающее их местное население «лаоваями» (подробнее см.: Шокирующий Китай. Гл. «Лаовай, Лаовай!..»).
[Закрыть], постигающих китайскую мудрость. Как оказалось, немалое количество зарубежных адептов (и россиян, и прочих граждан СНГ среди них полным-полно) приезжают тренироваться в Поднебесную для того, чтобы получить «корочки» (диплом, сертификат, грамоту участника), подтверждающие, что «Великий и Ужасный» (то бишь главный мастер школы) разрешает им преподавать данный стиль в своей стране самостоятельно, а то и назначает их своими полномочными представителями там.
В результате нередко случается так, что заморский ученичок (часто имеющий, впрочем, некую базу в виде изучавшегося им когда-то карате или сугубо доморощенного «ушу»), протренировавшись в Поднебесной «с нуля» пару недель, получает из рук «гранд-мастера» желанное удостоверение, статус официального члена школы, после чего отбывает восвояси, открывая впоследствии на родине новый клуб или группу по изучению данного стиля. Дальше, правда, порой дает себе труд приезжать в Китай снова и снова (примерно на неделю пару раз в год) для «повышения квалификации» и получения новых справок и дипломов. Все остальное время он успешно промывает мозг уже своим ученикам в своем родном городе, а те валят к нему толпами (как же, настоящий сертифицированный носитель аутентичного «боевого искусства», а не хвост собачий)[13]13
Если вы никогда в жизни не брались за изучение «боевых искусств» даже в виде их адаптированной для не очень умных гражданских лиц модификации, известной у нас под обобщающим названием «восточные единоборства» (да-да, еще реклама на водосточных трубах развешена), то вполне можете с удивлением спросить автора, что это у него за претензии такие к данному процессу. Те, кто занимался, поймут: процесс превращения ученика в инструктора начального уровня «по-хорошему» занимает несколько лет упорных тренировок.
[Закрыть]…
Зачем это все нужно китайскому мастеру (тем более если он действительно мастер, а не шарлатан, и у него полно нормальных, в основном китайских, учеников, и денег, между прочим, полные карманы, и банковская ячейка в придачу)? Ну, для некоторых, вне зависимости от степени их реального мастерства, любой бизнес – это бизнес, а для правильного китайца, хоть он пятьдесят раз патриарх стиля «Зеленый Журавль», бизнес все ж таки лишним не бывает. Для других же обзавестись подобными учениками – способ распространить славу и репутацию своего стиля (школы, клуба) в другой стране: кого-то подгоняет тщеславие (еще одна абсолютно характерная для китайца черта), а кто-то (самый прекраснодушный) мыслит категориями «от корявого – к правильному» и «лучше плохо ехать, чем хорошо стоять»… Да и усиленно вбиваемая последние тридцать лет правительством КНР в сознание своих граждан универсальная концепция «фачжань» тоже играет роль[14]14
«Фачжань цай ши ин даоли» (кит.) – «Только развитие есть твердый аргумент» (Дэн Сяопин).
[Закрыть].
А зачем это нужно «двухнедельному» заморскому ученику? Сейчас всех таких субъектов запишете в жадные аферисты? Не торопитесь: да, жулики среди них встречаются, но не так часто, как можно бы было предположить. Много и таких, для кого доходы от преподавания если не на десятом, то уж точно и не на первом месте. «Ага, – скажете вы, – и с этими дело ясно!» – и запоете чудесную песенку Окуджавы: «Антон Палыч Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак учить…» Это ж они самоутверждаются так, вот и лезут со своими крошечными убогими знаниями в учителя! Опять же не стоит спешить с выводами: среди этих коряво двигающихся личностей, безуспешно пытающихся копировать только месяц назад увиденную технику да еще и объяснить ее теперь уже своим ученикам, – немало хороших, добрых и культурных людей. Которых даже у меня, склонного к мизантропии, не поднимается рука зачислить в категорию самоутверждающихся дураков. Вот и остается иногда только изумленно выпучить глаза, как доктор Ватсон, вопрошающий о чем-то Холмса в незабвенном советском фильме: «Но, ч-ч-черт возьми, зачем?!»
Но немало, немало около «боевых искусств» крутится и самых настоящих жуликов, причем по обе стороны границы. Позвольте рассказать вам одну забавную, но при этом поучительную историю…