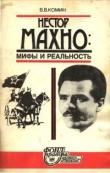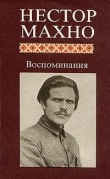Текст книги "Хмель свободы"
Автор книги: Виктор Смирнов
Соавторы: Игорь Болгарин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– В своих противоречиях Фридрих Ницше, однако, прозревает облик нового человека, который, с одной стороны, тянется к власти, проявляя, в нашем понимании, ипсо факто[1]1
Ipso facto – тем самым (лат.).
[Закрыть], буржуазный или даже феодальный инстинкт, – обращался к залу лектор, – а с другой стороны, стремится освободиться от обузы государства, его диктата, от оков буржуазной морали, семьи и собственности. Но…
Лектор стоял на наспех сколоченной фанерной трибунке, обтянутой черной материей. Стол, за которым сидели Шомпер и еще двое неизвестных Махно анархистов-теоретиков, тоже был покрыт черной скатертью, отчего создавалось впечатление, будто это не собрание, а гражданская панихида. Впрочем, такое впечатление могло возникнуть лишь у посторонних, не знакомых с символикой анархизма.
Лектор Всеволод Волин-Эйхенбаум продолжал:
– …но наполненный «героическим пессимизмом», понимая, с нашей точки зрения, абсурдную неизбежность гибели, прорывается к торжеству свободы, вольному плаванию индивидуума в море условностей и предписаний, к сохранению раскрепощенного «я» в условиях, когда грубая сила стремится подавить эту тягу, усматривая в самом существовании такого индивидуума корпус деликти![2]2
Corpus delicti – состав преступления (лат.).
[Закрыть] – Всеволод Волин обвел глазами аудиторию, многозначительно добавил: – Мы-то с вами хорошо знаем, что это такое… На себе испытали.
Зал зааплодировал. Все, кроме Махно, для которого речь Волина была слишком туманна.
Сольский наклонился к нему, пояснил:
– Вникай! Сразу не понять! Иносказания, намеки! Одно слово: Волин-Эйхенбаум! Голова. Между прочим, брат его, Борис Эйхенбаум, куда менее заметная фигура, а уже профессор в Петрограде… Наш Волин тоже мог бы стать академиком, но ушел в анархизм!
Волин между тем, попив водички из треснутого мутного стакана, стоящего рядом с графином, поклонился собравшимся и продолжил:
– Знаменитое древнеримское и, что для нас важнее всего, ницшеанское «амор фати»[3]3
Amor fati – любовь к року (лат.).
[Закрыть] могло бы быть начертано на нашем с вами знамени, ибо только с таким пониманием, выраженным этими великими людьми, заблудшими, но инстинктивными анархистами, мы можем выстоять в нелегких условиях, в этом нашем циркулус витиозус…[4]4
Circulus vitiosus – порочный круг (лат.).
[Закрыть]
Вновь раздались аплодисменты.
– Глубоко, глубоко проникает! – восхищенно прошептал Сольский. – Как он их бьет!
– Кого? – спросил Нестор.
– Да большевиков.
– Я шо-то не заметил.
Волин продолжал разглагольствовать, но Нестор перестал его слушать, разглядывал собравшихся. Это были молодые и не очень молодые московские интеллигенты, «революционеры духа», выброшенные за борт потоком не подчинившейся им жизни. Непонятное Нестору племя.
Он встал и, сопровождаемый удивленными и раздраженными взглядами слушателей, вышел на улицу. Постоял, размышляя.
Напротив, на другой стороне улицы, увидел очередь у продуктовой лавки. Крики. Давка. Драка…
Аршинов вышел вслед за Нестором, не желая оставлять его одного.
– Не понимаю, Петр Андреевич, – сказал Махно, – ты же из наших, из катеринославских. Чего ты тут сидишь, это словоблудие слухаешь?
– Пропаганда, Нестор Иванович, великая сила, – сказал Аршинов. – Мы должны в Москве сохранить источник анархических идей… Что, не понравился тебе Волин?
– Напротив, я ему благодарный! – ответил Махно, провожая взглядом пролетку, в которой какой-то человек в форменной фуражке вез своего подвыпившего спутника, держа его за воротник. – Благодарный, потому шо понял: надо мне утикать из Москвы, и как можно скорее. Москва – центр бумажной революции. Отсюда только декреты проистекают и слова. А настоящая жизнь – там!
Они шли по улице.
– Уеду и буду поднимать народ против немцев! А когда их скинем, когда устроим свою крестьянскую анархическую республику, то большевиков, ну, если у их хватит ума до нас прийти, встренем як хозяева: пожалуйста, считайтесь с нами, селянами. Дадим и хлеба, только дайте нам самим хозяйновать так, как мы хотим. А шо им останется делать? Крестьянство мы защитим не только от их догм, но и от панов, офицерья, от всяких гетьманов… Не, спасибо Волину, очень непонятно, но красиво говорил. Под его речь мне хорошо думалось. Лучше, чем в тишине.
Они какое-то время шли молча. Потом Нестор обернулся к Аршинову:
– А то поехали со мной, Петр Андреевич! Нужен мне там такой, как ты, человек. Понатерпелый и знающий.
– Не могу, – ответил Аршинов. – Здесь решается много не только важного, но и для наших краев полезного!
– Много бумажного! – со злой иронией отрезал Махно. – Москва сильно много о себе представляет. А жизнь, она – там! – Он взмахнул рукой, указывая вдаль. – Горькая жизнь, согласен! Но другой, настоящей, пока нема! Но если все сообща за этот гуж возьмемся да с силой в одну сторону потянем, то будет!
Глава четырнадцатая
Через два дня высокий бородач в английском френче вручил Нестору несколько бумажек:
– Документы… справки… Прочитайте, запомните!
Длинноволосый Зельцер в своем фартуке стоял, скрестив грязные руки. Со странной усмешкой наблюдал за Нестором.
– «Народный учитель Шепель Иван Яковлевич… Шепель Иван Яковлевич… – повторяя, пытался запомнить Махно, – …находился на излечении в Яузской больнице на Швивой горке по поводу туберкулеза»… – Махно коротко взглянул на Зельцера. – А вы откуда узнали насчет туберкулеза?
– Тоже мне загадка Сфинкса… Вы присмотритесь к бумагам: нигде не жмут?
– Хорошые бумаги… Потертые, помацанные… Нам бы такого колдуна! – Нестор с восхищением посмотрел на Зельцера. – Мы бы там, на Украине, такие бумаги сочинили, шо я бы до гетьмана возрос, а то и до генерал-фельдмаршала…
– А то! – усмехнулся Зельцер – И вот еще для вас… к документам. Будет не лишнее. – И протянул пачку украинских карбованцев, каких Нестор еще не видел. Карбованцы были тоже уже помяты и не пахли типографской краской. Нестор догадался, что отпечатаны деньги не этой, как ее, Центральной радой, которая, как он полагал, все еще заседала в Мариинском дворце города Киева.
– Свеженькие, оккупационные… Да вы не беспокойтесь. – Зельцер улыбнулся. – Даже у немцев за настоящие проходят.
– За гроши тоже большое вам спасибо. Потратился в дороге.
После Кремля Махно забежал в каморку к Сольскому. Ни его жены, ни падчериц дома не было.
– Ну что, получил ордер? – первое, что спросил Сольский.
– Зачем ордер? Документы получил. Так шо все! Нечего мне здесь сидеть, – угрюмо ответил Махно. – Вечером уеду!
– Как? Так сразу? И куда?
– Как – куда? Додому, на Украину.
– Так там же сейчас немцы! Уже, наверно, до ваших краев добрались. Говорят, по самый Дон будет оккупация.
– Германцы так германцы, – сказал Махно. – Я ж не собираюсь их коням в хвосты ленты вплетать.
– А наши надеялись с тобой еще разок встретиться… И Шомпер, и Аршинов. Что-то вроде проводов устроить.
– Хватит времени – увидимся. А сейчас, пока светло, хочу ще одно важное дело сделать: с Петром Лексеичем Кропоткиным повидаться. Он вроде бы в Москве.
– В Москве. Но не у дел старик. Мечтал о революции, а эту большевистскую не принял. Ленина, правда, уважает, не раз встречался с ним, но их власть не признаёт… И реальное современное анархическое движение тоже не принял. Ни одной статьи в нашу анархическую газету не дал! На приглашения прийти в Союз даже не ответил. Не понял, отстал! – Сольский горестно развел руками, отчего его блуза, которая явно стала ему велика, после того как закончилась «бутырская кормежка», распахнулась и открыла тощий, поросший белым волосом живот. И это особенно оскорбило Нестора, поскольку словно бы имело отношение и к Кропоткину: как жест пренебрежения.
– Старик – великан! – резко сказал Махно. – Нам до него ще расти и расти. И тебе, Зяма, тоже!
Сольский вздрогнул. Поистине, не один лик был у этого маленького запорожского воителя. Зяме показалось, что перед ним лермонтовский Вадим, попавший сюда из другой эпохи. Из времен Разина или Пугачева.
– Адресок не подскажешь? – спросил Нестор уже более миролюбиво.
– Отчего же. Его адресок теперь вся Москва знает! – Сольский бросился к столу, заваленному бумагами, грязными тарелками, книгами, лежавшими «лицом вниз», раскрытыми на нужной странице.
Семья Сольского держалась исключительно на идейной общности, а не на каких-то там нежных чувствах и взаимной заботливости. Новая, революционная, анархическая семья!..
– Вот газета! – Зяма, напрягая зрение, отыскал необходимые строки: текст был слегка расплывчатым из-за добитого до ручки шрифта и плохо читался. – Ага, вот! «На злобу дня»… «Так называемый вождь и теоретик анархистов, бывший князь-аристократ, воспитанник прогнившего Пажеского корпуса…»
– Плевать мне на их слова. Ты мне адрес скажи! – вскипел Нестор.
– Да-да! Адрес! Вот, пишут: «…поселился… в особняке на Новинском бульваре в сто одиннадцатом доме, принадлежавшем бывшей аристократке Софье Петрово-Соловово… И хотя особняк был подвергнут пролетарскому заселению, Кропоткину с семьей оставили самую большую комнату. Наш великий анархист мирится с тем, что в соседней с ним комнате проживает князь Трубецкой, этот потомок Гедиминовичей, выселенный из своего дворца… Вот кого предпочитает анархист! Вместо того чтобы поселиться в пролетарской семье и набраться революционного…»
– Хватит! – прервал его Махно. – Хватит всякие пакости про Кропоткина! И кто ж такое написал?
Нестор прищурился, словно высматривал цель, и глаза его сверкнули странным блеском, похожим на вспышку дульного винтовочного пламени. Зяма, хоть и не был знаком с действиями гуляйпольской «черной гвардии», сразу понял, что ожидало бы бойкого автора заметки, живи он в тех краях.
– Подписано: «Захар Зоркоглазый».
– Сволочь, – коротко выразился Нестор. – Пойду! Значит, Новинский бульвар, сто одиннадцать.
– Если Кропоткин там еще проживает. – Сольский стал вновь рыться в газетах, отыскивая еще что-то и при этом продолжая бормотать: – Где-то тут… ну да… тоже короткая заметка… и очень непонятная. Не то большевики его высылают… в Дмитров, не то он сам туда едет. К своей родне, графьям или князьям Олсуфьевым. Не слыхал?
– Я и своих, катеринославских, не шибко хорошо знаю, не то шо… А як это – высылают? За шо?
– Ну, вроде заботятся о нем. Года-то у него немолодые. Вот и решили его подальше от Москвы, на «молочко и сметанку», для его же здоровья, – усмехнулся Зяма.
– Понятно. Не нужен им в Москве Кропоткин.
Благодаря своему умению ориентироваться на местности, Нестор быстро нашел Садовую улицу, что опоясывала собственно Москву. Садовая действительно была садовой: здесь дома, как высокие дворцы, так и особнячки, скрывались в начинающих уже зеленеть садах, и с само́й улицы, довольно узкой, означенной двумя колеями трамвая, невозможно было разглядеть номерных табличек на домах, а нередко и самих домов, хотя день занимался солнечный, пахло летом.
Словно странная река, без истока и устья, Садовая разделялась на дюжину подназваний: Самотечную, Каретную, Кудринскую… Когда-то номерные таблички с указанием улиц и полицейского участка, белые или бронзовые, ярко начищенные, крепились к крашеным заборам или воротам. Сейчас же от них остались только темные следы на выгоревших и ободранных заборах.
Сами же хозяева, как правило, люди состоятельные, и сбили эти таблички, чтобы запутать тех, кто явится с обыском или просто с целью грабежа. Пока нежданные гости ищут, стучат, перекликаются, есть время улизнуть, спрятаться или хотя бы убрать самое ценное подальше от недобрых глаз.
После посещения Кремля, с надежными документами в кармане, Махно чувствовал себя уверенно и не боялся расспрашивать прохожих. Так язык довел его до Кудринской, а дальше он отыскал и Новинский бульвар.
Здесь тоже были сады! Да какие! Не хуже, чем где-нибудь в Новороссии. Тут и волк заплутал бы в зелени…
Нестор увидел мужчину, который, оглядываясь, деловито отдирал от деревянного забора штакетины. Был он в куртке, перешитой из старой шинели, в кепке, стоптанных юфтевых сапогах. Похоже, близкий по классовой принадлежности человек.
– Эй, дядя! – позвал Нестор.
«Дядя» вздрогнул, уронил штакетину и посмотрел за плечо, явно выбирая путь к бегству. Но, присмотревшись, все же принял Нестора за своего.
– Чего? – спросил он, смелея на глазах.
– Не подскажешь здесь номер дому?
Мужик сбил на затылок кепку:
– А черт его знает. Я переехамши, еще в городу не шибко обвык.
– Ну хоть шо за улица?
– Улица-то, ясное дело… Черт ее знает, какая улица. – Мужик звучно высморкался, вытер пальцы о куртку. – Была, вишь ли, ране Новинская. А щас, говорят, будет эта… черт его… в общем, имени… за заслуги… Может, уже и не Новинская… Вот так! Москва, мать ее: живешь не знаешь где. Не то что у нас в Трофиловке, на Белгородщине.
– Н-да, – хмыкнул Нестор. – Случаем не знаешь, где тут Кропоткин живет? – Главе гуляйпольских анархистов казалось, что каждый человек в Москве, даже такой темный, как этот заселенец, должен знать Петра Алексеевича. Да и как может быть иначе?
– Знаю, чего ж! – обрадовался человек. – Энтого, товарищ, все хорошо знали. А только всё! Замели его надысь! Сам видал, как вели.
Мужичок весь светился от радости. Он не злорадствовал, просто был горд своей осведомленностью.
– Как «замели»? – спросил ошеломленный Махно.
– Обнаковенно… Щас это просто. Пришли, забрали. Пущай посидит, а то и того хужее. Все-таки энтот… элемент!
– За шо? Какой элемент? – продолжал недоумевать Нестор, холодея внутри и одновременно ощущая прилив горячей ненависти, желание немедленно выручать, мстить, убивать. Светоч мировой революции – и в кутузку.
– За што? – усмехнулся мужичок. – Так ведь булочная у него была! На углу Смоленско-Сенной. Супротив чайной, не знаешь, што ли?
– Какая булочная? – прошипел Нестор. – Шо ты мелешь!
– Ну, как же… На ней так и написано было: «Булочная Краваткина». Чего не отнять, витушки и сгибни знатно выпекал. – Гражданин вздохнул, сглотнул слюну.
– Краваткин?! Я тебя про князя Кропоткина спрашиваю!
Мужичок недоуменно заморгал.
– Ну, Кропоткин Петро Лексеич! – разъяснил Махно.
– Князь, говоришь? – Мужик даже отступил шага на два, не выпуская, однако, из рук штакетины, которые он, как бурундук, запасал впрок, предчувствуя далеко впереди холодную зиму. – Ты чо, мужик, с Луны свалился? Князя-то уж непременно замели. Тут булочника и то… А ты – про князя.
И он, пятясь, скрылся за кустом слегка зазеленевшей сирени, цепляя штакетинами ветки.
Дом, где проживал Кропоткин, все же отыскался. Девушка, стоявшая у открытых настежь ворот и читавшая в таком неудобном положении книгу, ответила неопределенно, но подавая некоторую надежду:
– Вы погодите, я сейчас узнаю.
Девушка исчезла, а Махно, ожидая, повернулся и увидел на противоположной стороне улицы красивый особняк, проглядывавший фасадом сквозь кусты и деревья. Это был знаменитый особняк князя Гагарина работы Бове, украшенный фронтоном с горельефами летящих гениев, покровителей рода.
Гениев Нестор принял за каких-то несущихся по воздуху людей и решил, что это изображения святых. Неистовый анархист сплюнул и подумал: «Гады, загнали нашего батьку Петра Лексеича в осиное гнездо. Нет, чтобы поселить в Кремле, со всем уважением».
В глубине двора, куда ушла девушка, у большого дома с мезонином стояли телеги. Одна была почти доверху нагружена добром. Другая ждала. И тут же стояли легкие дрожки. Возчики носили какие-то узлы, мебель.
Нестор догадался: Кропоткин уезжал в Дмитров. Уезжал к дмитровским аристократам и землевладельцам, дальним своим родственикам Олсуфьевым. Подобно другим «бывшим», их сильно уплотнили и урезали, отняв земли и усадьбы, но особнячок в Дмитрове пока оставили. Некогда славившиеся хлебосольством Олсуфьевы обещали седобородому «дедушке русской революции» тишину, хлеб, сметанку и молочко.
Но главная причина его отъезда заключалась в том, что дом на Новинском, где он занимал одну комнату, постоянно «трясли». Один за другим следовали обыски, как правило, ночные. И аресты. Пока временные. Логики в действиях новых властей было мало, а вот суеты много. Старик стал плохо спать, волновался, хватался за сердце и явно нуждался в покое. Но о каком покое могла идти речь в России в восемнадцатом году? Так родилась мечта о Дмитрове, где якобы было относительно сытно и тихо, потому что уезд отличался зажиточностью и относительно высокой грамотностью мужичков.
После возвращения из эмиграции весной семнадцатого года, почти одновременно с Лениным, Петр Алексеевич находился в состоянии перманентного ужаса. Это чувство возникло у него еще на Финляндском вокзале в Петрограде. Встречали его куда более радостно и пышно, чем вождя большевиков. Толпа была странная: почетный караул Семеновского полка вместе с полковым оркестром, министры Временного правительства, дамы с цветами, больше всего было рабочих, многие под черными знаменами, но в конце концов в первые ряды пробились анархистски настроенные матросы-балтийцы и от восторга стреляли в воздух.
Кропоткин на броневик не полез и сказал довольно короткую речь о необходимости социального мира, взаимопонимания и союза сословий ради победы. Мир с Германией – хорошо, но это будет означать поражение, а за поражением последует унижение и страшный братоубийственный хаос, а далее по логике вещей откат к диктатуре.
Анархист выступил против хаоса! Но он же высказался и против диктатуры! Против любой диктатуры. Только в единении народа видел князь залог победы, а вслед за победой, получив опыт социального единства, Россия двинется к безвластному устройству… Министры аплодировали, оркестр играл, в толпе плакали и восторженно кричали, морячки разряжали в воздух маузеры и карабины. Но Кропоткина это вовсе не радовало. Пахло грозой! То, что у морячков и рабочих было столько оружия, рождало дурные предчувствия. Как и благодушный вид растерянных министров, явно не имеющих навыков практического управления и улыбавшихся во все стороны. Позеры! Случайно выскочившие на сцену любители…
У старика были зоркие глаза.
Оттеснив всех, матросы понесли его на руках от вокзала до «Астории». Было очень неудобно и неловко. Слетели калоши, исчезла шляпа.
Чуть позже Петр Алексеевич видел, как те же матросики, вкупе с солдатами в шинелях с оборванными пуговицами и хлястиками, расстреливали или поднимали на штыки офицеров и просто тех, кто им чем-то не понравился.
Он перебрался в Москву, казавшуюся ему спокойной и благополучной. Грезилась ему почему-то Англия, зеленая, ухоженная, даже несмотря на войну, думалось о тред-юнионах, медленно, но уверенно, без потрясений завоевывавших социальные блага для рабочих. Он стал писать именно об этом, об английских профсоюзах и кооперативах, как бы не замечая происходившего в своей любимой России. Сам себе боялся признаться, что русский бунт, о котором предупреждал Пушкин, оказался не похож на его, Кропоткина, мечты и призывы, а великая анархия, прародительница общего счастья, обернулась грабежами, голодом, брошенными заводами и пустеющими полями. На что же была потрачена жизнь?
Жена с дочерью уехали в Дмитров осваиваться. Он заскучал, работа валилась из рук, и наконец тоже решил ехать и теперь бродил по гостиной, натыкаясь на стопки перевязанных бечевкой книг, чемоданы и узлы.
В гостиную вошла горничная Маша.
– Простите, ваше сиятельство, – сказала она. – Там у ворот какой-то человек вами интересуется. Явно не чекист. Похоже, приезжий, из Малороссии.
– Вы так считаете? – спросил Кропоткин.
– Я думаю, ваше сиятельство, что это кто-то из ваших поклонников, провинциал. Приехал увидеть и побеседовать, – ответила Маша, морща носик.
– А вот и не угадали. – Князь-анархист замахал руками. – Это, верно, Степан Васильевич прислал человека для помощи в погрузке. Я просил.
Петр Алексеевич не хотел принимать своих многочисленных надоедливых поклонников. Тем более в тысячный раз беседовать об азах анархизма. Он уже видел, что в России победили не большевики, победила русская бессмысленная, разгульная анархия, которую марксисты тоже взяли на вооружение: чтобы развалить армию и все, что составляло костяк державы. Затем последует укрепление власти победивших и искоренение анархии, ибо она несет лишь разложение и разрушение. Собственно, искоренение уже началось в самом прямом, расстрельном смысле. Ну и о чем же тут беседовать?
– Да, может, пришел от Степана Васильевича, – согласилась Маша, которая знала, что старик видит только то, что хочет видеть.
Махно вслед за Машей вошел во двор. Аллейка привела его к парадному подъезду, где он еще издали разглядел телеги и дрожки.
На крыльцо, заставленное всевозможными коробками, вышел представительный старик с окладистой белой бородой, с высоким лбом и львиной гривой, с пышными баками, ясно глядящими сквозь стекла очков глазами. Он указал возницам на большую продолговатую коробку:
– Этот поставец еще, пожалуй, поместится. Только оберните его чем-нибудь, одеяльцем, что ли!
Нестор понял: это Кропоткин! Ненавистник самодержавия, подхвативший черное знамя из рук Бакунина! Патриарх! Император от анархизма! Властитель революционных умов!
Проследив за установкой поставца, Кропоткин исчез в доме и тут же снова возник на крыльце. В одной руке он нес какой-то тючок, обернутый в старую шаль, в другой держал связку книг.
Махно, одолев робость, приблизился к ступеням. Снял с головы свою пролетарскую кепку.
– Здравствуйте, Петр Алексеевич! А я к вам по важному делу… Хорошо, хоть успел!
– Да-да, голубчик, успели! – пробасил старик Кропоткин. – Вы от Степана Васильевича? Знаю. Спасибо. Рук не хватает, а мелочей-то, мелочей! Держите! Это положите в дрожки!
Нестор отнес принятые из рук Кропоткина сверток и связку книг и бегом устремился по ступенькам крыльца наверх. Но оттуда пятился задом, преграждая ему путь, возчик, поддерживающий пианино. Второй, с другой стороны, едва не падая, толкал его.
– Ну-ка, подмогни, браток! – простонал он, обращаясь к Махно.
– Да-да, голубчик, подсобите, – попросил идущий следом за грузчиками Кропоткин.
Что делать! Махно вцепился в инструмент, подлез под черный корпус, пользуясь тем, что был небольшого росточка. И взял на себя основную тяжесть.
– Гляди, паря, – с облегчением выдохнул пятившийся мужичок, – ежли эфтот черный гроб привалит – надоть буде самделишний колотить… Пудов эдак-то… двадцать!
– Тащи! – теперь хрипел уже Нестор.
Поставили пианино на телегу, увязали. Махно сам проследил, чтобы инструмент закрепили хорошо. Подложил какие-то тряпки, чтобы в пути не поцарапать. Узлы затягивал от души. Если уж музыка нужна вождю для отдыха или для прилива сил в трудах, надо позаботиться.
– Крепкий ты! – похвалил его дмитровский, сворачивая самокрутку. – А по виду не скажешь. Хочешь до нас в хозяйство?
– Не голодаете? – спросил Нестор, расправляясь с последним узлом.
– Не, у нас не Москва. Покедова ничо. Земелька, правда, скудна. Огородничаем, извоз вот, торгуем. У нас, слышь, – он понизил голос, – у нас эти, эсера наверху в уезде. Справных мужиков не трогають, слава Богу. А баринков малость утесняют, это верно. Землицы нам привалило, рук не хватает: война. – Он перешел на шепот: – Только, слышь, гуторют, будто их большевики скоро к ногтю подберут! Ух, до чего ж эфти большевики строги! У нас на заставах коней намерились это… реквизицию… ну, забрать, в обчем. Хорошо, через Петра Лексеича у нас охранна грамота на перевоз. Да-а… Так не знаешь, будуть наших эсеров лопатить?
– Не знаю, – нахмурился Нестор. – А насчет анархистов? Как они?
– А эфти у нас только рази сбегшие матросики… Баламуты.
– Ладно, хватит разговоры разговаривать! – рассердился Нестор.
Он бросился в дом, отыскивая Кропоткина. Торопливо прошел в большую комнату с настежь раскрытыми дверями. Но здесь было пусто. Заметил сидящую на окне кошку, подхватил ее, вынес на улицу.
– Живность забыли. – Он передал кошку одному из возчиков. – А где ж хозяин?
– Эва! Так он уж покатил в дрожках на эфту… на Долгоруковску, а там через Бутырки на шашейку… Мы следом. Садись, до самого Дмитрова доставим.
Нестор, проклиная двадцатипудовое пианино и болтливых дмитровских мужичков, бросился к воротам, выглянул. Справа увидел удаляющиеся дрожки и львиную гриву Кропоткина, возвышающуюся над кузовком.
Догнал, задыхаясь.
– Петр Алексеич! Петр Алексеич!
Ухватился рукой за откинутый верх. Бежать стало легче. Старик уже плоховато слышал, и Махно крикнул почти в ухо:
– Петр Алексеевич!
Кропоткин взглянул на него сверху вниз, виновато улыбнулся.
Дрожки остановились.
– Ах ты! Совсем, голубчик, запамятовал! – сказал Кропоткин Нестору, не вылезая, однако, из дрожек. – Я ведь обещал Степану Васильевичу… – Он вытащил из кучи сложенных у его ног книжных связок один томик, легко разорвав шпагат. Достал из кармана чудо техники, новейшее изобретение заграницы, «вечное перо», блеснувшее на солнце стальным тяжелым корпусом, нажал на поршень, стряхнул куда-то в сторону жирную каплю чернил, что-то быстренько, ровным почерком написал, поставил замысловатую подпись. – Редкое издание, английское! Девяносто четвертого года… Заказывал в Лондоне, у Кантера. Пусть помнит старика!
Махно как завороженный следил за неспешными, но четкими движениями старика, похожими на священнодействие. Принял из его рук книгу, хотел что-то сказать, надеясь, что великий разрушитель, может быть, усадит его рядом и они поедут, сердечно беседуя, хоть до самого этого загадочного Дмитрова, а хоть и дальше!
– Трогай! – крикнул Кропоткин вознице, и дрожки помчались по бульвару, исчезли вдали в зелени садов.
Нестор посмотрел на книгу. «Великая революцiя». На титульной странице было малоразборчиво выведено: «Благодарю за участие, понимание, за общность мыслей!» И – красивая подпись, должно быть, хорошо известная анархистам. Кому – не написано. Может, из целей конспирации.
Нестор стоял посреди Новинского бульвара. Мимо него проехали нагруженные доверху телеги. И, невидимая среди узлов, тоскливо мяукала кошка.
В Союзе идейной пропаганды организовали настоящее пиршество. Собрались все. Помимо Сольского здесь были и Шомпер, и Аршинов, и еще несколько незнакомых Нестору анархистов. В центре стола, невесть каким трудом добытая, стояла бутылка вина в окружении хрустальных бокалов. Но главным украшением были аккуратно нарезанные ломтики хлеба и вобла, почищенная и разделанная на кусочки.
– Друзья, мы провожаем нашего верного друга… – торжественно начал речь Сольский.
– А может, обойдемся без пышных слов? – нахмурился Нестор.
– Нет уж! – не согласился Зяма. – Но я коротко!.. Ты избрал путь нелегкой борьбы во вражеском стане. Это героический поступок!.. Ура Нестору!
Анархисты-теоретики негромко, словно опасаясь чего-то, подхватили клич.
Выпив и вытерев губы газетой, Махно положил на стол книгу Кропоткина. Шомпер, библиофил, тут же вцепился в нее. Открыл обложку, прочитал надпись. Потряс гривастой головой, не веря своим глазам:
– Ты его видел? Беседовал? С самим?
Махно, насупив брови, ел бутерброд. Держал паузу, как актер. Шомпер, Сольский и Аршинов ждали. Нет, другой человек покидал Москву. Знающий себе цену. Самоуверенный. Неужели встречи с Лениным и Кропоткиным смогли так сильно его изменить?
– Два часа беседовали, – дожевав хлеб с кусочком воблы наконец сказал Нестор. – Великий старик! Важные вещи сказал…
– Ну!.. Ну!..
– На все вопросы такие полные ответы дал, я даже не думал! Принял как родного! Благословил…
За столом воцарилось молчание. Похоже, такого поворота никто не ожидал.
– Ну?
– Долго говорили. Он как бы между прочим наказал: «Помните, дорогой товарищ, шо революционная борьба не знает сентиментальностей! Действуйте самоотверженно, не зная жалости к врагам! В духе слов из этой моей книги!» И вот, подарил. – Нестор указал глазами на книгу.
– Так и сказал: «без сентиментальностей»? – ахнул Шомпер.
– Дословно! Это я на всю жизнь запомнил. Как клеймо на шкуре выпек. Много ще говорили, о разном. А на прощанье, уже на крыльце… ну просто до слез прошибло… Берегите себя, сказал, товарищ Махно, потому шо таких людей мало в России. Даже як-то неудобно было слышать такое про мою личность… Но сказал же! Прямо как наказ дал! Великий старик! Кремень! – Нестор встал, поднял свой бокал: – Я предлагаю тост за Кропоткина! За великого Кропоткина! – И выпил. – Ну, мне пора! Книгу оставляю вам на хранение, не хочу рисковать на границе… Провожать не надо! Прощайте, друзья! Ще, надеюсь, увидимся. Ще побываю в Москве!
И Махно стремительно вышел. Чтобы никогда больше не вернуться в столицу.
Некоторое время анархисты сидели молча, как будто чем-то придавленные. Лишь один Аршинов улыбался краешком губ.
– Коллеги, но ведь все это неправда! – наконец произнес Сольский. – Ну не мог Кропоткин наговорить такого! Старик потрясен реальным ликом революции, к которой столько лет призывал. Он теперь проповедует классовый мир, а не «безжалостность к врагам». Совсем недавно в кадетской «Свободе России» он призывал брать пример с цивилизованного английского рабочего движения.
Аршинов продолжал молчать. Все так же, слегка улыбаясь, он неторопливо листал «Великую революцию».
– Позвольте, – озадаченно сказал Шомпер, в возбуждении допивая остатки вина. – Но Махно ведь никогда не врал. Я был уверен, он не способен…
Сольский раздраженно обратился к Аршинову:
– А вы, Аршинов, что улыбаетесь? Что ехидничаете? Вам эта ложь доставляет радость?
Аршинов согласно кивнул: да, мол, доставляет. Объяснил:
– Друзья, это ложь во спасение. Случай не обмана, а самообмана. Нестору нужна была эта апостольская передача завета. От учителя к ученику. Для поддержки собственных сил. Для уверенности – после всех разочарований и сомнений.
– Да! Да! – вскочил в волнении Шомпер. – Да, я понимаю. Это – святое, святое…
– Махно разочаровался в нас, в наших речах и лекциях, – говорил Аршинов. – Он рвется в бой, а мы воевать разучились… или не умели. Этот придуманный им «завет» Кропоткина – укор нам!
– Да! Да! – продолжал волноваться Шомпер. – Нам надо было отправиться с ним… поддержать словом!..
– И дать повесить себя на первом же суку, – сьязвил Аршинов.
– Тоже верно, тоже верно, – заламывал руки Шомпер. – И ничем, ничем нельзя ему помочь…
– Да и я… – как бы укорил себя Зяма, – куда мне с семьей? Подлинный анархист должен быть свободен как ветер!
– Мы ему были бы обузой, – успокоил бывших сокамерников Аршинов. – И не судите его строго. Он увез с собой главное – «завет» великого анархиста. Эти слова скоро будет знать вся Новороссия, будьте уверены. И если Нестор уцелеет, мы о нем еще услышим! Я знаю этих хлопцев, в них еще бродит кровь запорожских козаков!
– «Он должен был родиться всемогущим или вовсе не родиться», – вспомнил, прикрыв глаза, Сольский.
– Да… – Шомпер почесал пятерней лохматый затылок. – Все понятно, все понятно… Удачи ему на его, возможно, очень нелегком пути! Опустошим же чаши, пожелаем ему счастливой дороги!