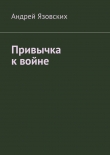Текст книги "Лето волков"
Автор книги: Виктор Смирнов
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
4
Луч от фонарика Ивана выхватил из темноты остатки полусгоревшего строения, рыжеватый, из слежавшихся опилок бугор, похожий на дот. В выемке была видна дверь.
– Погоди! – председатель соскочил с брички, взялся за деревянную ручку. Скрипучая дверь, сбитая из дубовых досок, подалась с трудом. – Понесли! Подушку не забудь. Все же как-то…
Они понесли Абросимова на плаще, вцепившись в брезент.
– Ступеньки склизкие, – предупредил Глумский.
В глубине погреба увидели, на подставках, несколько потемневших досок. Уложили на них убитого. Под голову сунули подушку. Вокруг темнели нагромождения из старых кадушек, бадеек, бочек. Выпавшие, как зубы, клепки валялись на утоптанной земле.
Холод был январский. Ивана передернуло. Глумский, складывая руки Абросимова, заметил:
– Молочарня два года как сгорела, а лед наверху лежит, под опилками.
Иван споткнулся, фонарик сорвался с пуговицы, стукнулся. После этого стал моргать. Лицо Абросимова то выделялось меловым пятном, то исчезало. Тени забегали по подземелью.
Открытая дверь вдруг медленно, со скрипом, закрылась. Глумский стащил со спины карабин.
– Погоди! – Иван поднялся по ступенькам. В руке его был «вальтерок».
Прислушался. Ударил в дверь ногой и рванулся в проем, покатился в какой-то бурьян, к копытам лошади. Был готов выстрелить на звук.
Лошадь была спокойна. Слегка позвякивая сброшенной уздой, звучно срезала зубами траву. Никого. Хотя в трех шагах, за кустами – темь.
– Иди, Харитонович, – сказал Иван. – Видно, ветер.
Глумский, озираясь, вышел из ледника. Карабин держал на изготовку.
– Хм… ловко ты выскочил. А ветра, между прочим, нет.
– Может, это ваш медведь заходил по-дружески? – спросил Иван.
5
Следующий день прошел в расспросах и беседах. Никто ничего не знал и знать не хотел. Люди охотно ставили на стол бутылку и готовы были говорить о чем угодно, только не о том, кто и почему сидит у них под боком, в лесу.
Вечером лейтенант пришел к Глумскому. Председатель по-настоящему переживал гибель Абросимова, и понятно почему. В окнах угасал огненный закат. С пустой стены смотрел семнадцатилетний Тарас. Детекторный приемник приболел, лишь изредка выдавал несколько хриплых слов, словно просыпаясь и вновь впадая в сон.
На столе стояла початая бутылка, кусок хлеба, огурцы, пара картофелин, щепотка соли на бумажке. Но не пилось и не елось. Ивану то и дело вспоминался вечер у Абросимовых. Что за вечера будут теперь у матери с дочкой? Глумский стал налаживать лампу.
– Гляжу, в Глухарах у всех керосин, – сказал лейтенант. – Свой заводик?
– Медведь подарил, – оскалился председатель. – В войну прислали сюда румын, блокировать партизан. Неплохой народ румыны. Воевать не хотели, а торговать или меняться с удовольствием. Сало на мыло, соль на фасоль. Три бочки керосина завезли, мы их ночью заприходовали. Теперь на трудодни выдаю. Из района прислали бумагу: сдать трофейный стратегический товар. Бумага без человека как пес кусучий без зубов. Який такий товар? Присылайте инспекцию, хай найдут. Да кто ж к нам поедет?
Он откусил кусок огурца, захрустел. Сказал с усилием:
– Ладно… Скажи, что за бумагу ему в зубы сунули, хлопчику твоему?
– «План борьбы с бандитизмом», – лейтенант покрутил головой, пытаясь усмехнуться. – Помочь хотел. Чтоб по плану. Что он мог подсказать?
Иван достал из кармана скомканный, в бурых потеках, листок. Распрямил, поднес к лампе:
– Вот. «Усилить», «собрать», «объяснить», «мобилизовать», «создать комиссию», «чтобы земля горела под ногами у бандюг и фашистских прихвостней»… А я хорош! Яцко сказал, что собирается приехать. Подумал: болтает пацан. И со Штебленком не понял! Не гожусь! – он крепко стукнул себя по лбу.
– А я понимал? – огрел кулаком свой лоб Глумский. – «Зачем, Харитоныч, церкву рушил?» А меня тогда не Петро Харитонычем звали, а Петькой Бесшабашным! Нас тыщи были, комсомольцы, коммунисты… Заплачено! Сполна заплачено. Кто в лагерях, кто на фронте. Чужой жизни не жалели, и свою тоже самое… отдавали без разговору. Ты не первый по лбу стучишь!
– Бросились под огнем, используя в качестве плавсредств бревна и пустые бочки… –вдруг выпалил приемник.
Глумский подошел к грубо сколоченному комоду в углу хаты, скрипнул ящиком. Бросил на стол обрезок черного эластичного жгута, метра в полтора.
– Попробуй на растяжку.
Иван попробовал. Шнур был тугой, но чуть-чуть поддавался.
– Такими шнурами у нас в райцентре планера запускали, – сказал Глумский. – Впрягались, и бегом! Поддернут, как с рогатки – человек летит. Ура, небо наше! И Сапсанчук там, советы давал: как же, инженер, изобретатель! А в полицаях придумал вешать людей на этом шнуре. Штоб до земли чуток касались ногами. На носках долго не простоишь, а руки связаны. Пробуют наземь встать, подпрыгуют. Вверх-вниз танцуют, пока не скончатся. Для полицаев забава.
– Снаряды к пушке кончились. Сержант Денисенко, взяв связку гранат…
Глумский выключил звук, повернув ручку вариометра. Внимательно посмотрел на Ивана: слушает ли? Произнес не сразу:
– Так и моего Тараса повесили… Одно у меня желание: поймать Сапсанчука и на таком шнуре… А там хоть не живи!
– Погоди! – Иван сорвался с места.
6
Он пробежал мимо все еще стоявшей, молча и недвижно, Вари. Не окликнула. В хате Серафима сидела одна, перед ней была потрепанная книга с божницы.
– Ваня, наконец-то…
– Ты книгу вверх ногами держишь! И темно уже!
Он скрылся за занавеской, стал рыться в вещмешке, бросая вещи на кровать.
– «Вверх ногами»! – возмущалась бабка. – Книга священная, хоть как держи: от нее дух. Грамотные стали! Повыдумали пулеметов-огнеметов, бьют и бьют самых здоровых, сильных та смелых. От кого породу заводить? От больных, от дезертирей, от жуликов? То ж не одного хлопца зарезали, то ж его детей и внуков зарезали! Народ истоньчится на века! Тут сказано! – постучала она по обложке и выставила ухо, ожидая отклика Ивана.
Но лейтенант молчал. Нашел, наконец, в вещмешке обрезок черного эластичного шнура, такого же, что показывал Глумский.
Не говоря ни слова, умчался. Серафима покачала головой, зажгла плошку и стала перелистывать книгу, шевеля губами и останавливаясь на иллюстрациях. На переплете было написано: Герберт Уэллс, «Война миров».
7
Лейтенант держал шнур двумя пальцами, как все еще живую и опасную змею. Хотел, чтобы Глумский пригляделся. Потом бросил отрезок на стол, где под лампой поблескивал точно такой же. Две змеи…
Глумский долго смотрел на них, потом поднял взгляд на лейтенанта.
– Это твой. А на этом Штебленок висел, – сказал Иван.
Глумский взял отрезки в левую и правую руки, сблизил, рассмотрел внимательно. Соединил. Снова прищурился.
– Как это… чего, а? – спросил у лейтенанта.
– Про что ты? – в свою очередь спросил Иван.
– Ну, допустим, обиженный, пошел до немцев работать… А в каратели зачем? Своих мучить, а? Может, и я обиженный… так это ж, – бросил шнуры на стол, постучал себя по левой стороне груди. Мысли в нем ворочались, как жернова, губы дергались. – На шнуре додумался… чтоб танцевали до́ смерти…
– Да ты понял, что это значит? – спросил Иван.
Тарас с портрета смотрел на Ивана. Взгляд требовательный.
– Осовиахим… разбегутся, дернут… как камешек из рогатки – быстро вверх! – произнес Глумский. – Поле, трава выкошена… Я только посидел в том планере… легонький, тесный, вроде байдарки, только с крылышками. На земле, и то страшно, а они туда, в облака… смело, как птицы! Отчаянные хлопчики, девчатки…
Глумского не было в хате: улетел в прошлое. Иван ждал продолжения с некоторой опаской. Председатель снова попробовал обрезок шнура на растяжку. Взгляд его постепенно приобретал жесткий, деловой характер:
– Значит, наш Горелый это и есть Сапсанчук. Вернулся! – В голосе прозвучала неуместное чувство радости. – Вернулся. Здесь он, под боком.
Сейчас взгляды Глумского и его сына, что на портрете, были похожи в своей непреклонности. Председатель взял оба отрезка, связал и сказал:
– Вот на этом я Горелого-Сапсанчука повешу… чтоб подергался, как другие дергались. Веришь, нет?
– Думаешь, он даст себя поймать?
Глумский насупился:
– Знаю. Матерый враг, хитрый. А вот ты чем воевать с ним собрался. А? Покажи свою пушку!
Лейтенант достал из кармана «Вальтер» ППК. Он умещался на ладони.
– Красивый! – сказал Глумский. – Застрелиться подойдет. А тот, что в бричке взял?
– Совсем больной, – Иван выложил на стол «ТТ» Абросимова. – Первый же патрон застрял.
– Тебе ж вроде карабин дали.
– Серафиме подходит. Ворота подпирать.
– Пошли!
Глумский подвел Ивана к небольшой побеленной двери, которую не сразу заметишь в хате.
8
В темноте просторной кладовой что-то маслянисто поблескивало. Председатель принес лампу. Детали оружия были подвешены к стене, на полу золотистой кучей, подобно зерну на току, лежали самые разные патроны, на зеленых ящиках стояли гранаты с вывернутыми запалами. Арсенал!
Председатель достал из стойки у стены ручной пулемет Дегтярева, «ДП».
– Чего-то в нем вроде не хватает. Поищи, тут много всяких железок. Ребятня таскает несчетно. А я им даю на жеребце прокатиться.
Иван щелкнул включателем фонарика. Стал копаться среди металла, что-то отбрасывая, что-то откладывая, что-то прилаживая. Отыскал «дэпэшный» ключ-отвертку среди груды железок, отвел затворную раму назад, повернул замыкатель, раскачал и осторожно вытащил ствол из кожуха. Председатель, оценив эти разумные и последовательные действия, одобрительно кивнул и поднял лампу повыше. Иван заглянул внутрь ствола. Явно остался доволен.
Добрался до затвора. Пощупал пальцем, даже языком лизнул боевые упоры, оценивая износ металла и состояние выступов разведения. Бойком провел по ладони. Покачал головой с огорчением.
– Лучше бы на столе, – посоветовал Глумский.
Но Иван не мог оторваться от пулемета. Отыскал среди хлама другой «дэпэшный» затвор. Проверил. Соединил с рамой. Стал колдовать со ствольной коробкой. Даже язык высунул от напряжения и удовольствия. Как мальчишка, собирающий велосипед.
– Потом, дома, начисто все сделаю, – пробормотал лейтенант и стал осторожно укладывать в подставленный Глумским мешок детали, которые посчитал нужным взять.
Поднялся. В одной руке остов «дегтяря», в другой мешок, явно не из легких. На лице лейтенанта застыла улыбка.
– Спасибо, председатель. Не ожидал!
– Гранаты в том углу, запалы на полке, в коробке, – сказал Глумский. – Я тут думал… Ты спрашивал про Спивачку. А, может, то не фамилия? Кругом песни поют. В каждом селе спиваки, спивачки.
– Чего ж сразу не сказал?
– Некоторые сразу говорят, до того, как подумают. А я наоборот.
Лейтенант уходил, пригнувшись под тяжестью председательских подарков.
Остановился у хаты Варвары. Хозяйка ушла вовнутрь. Но калитка была распахнута. Окна светились. Из приоткрытой двери падал на крыльцо косой, призывный луч света. Варя напевала что-то. От хаты шла волна уюта и любви.
Иван потоптался на месте и пошел к кузне.
9
Там и вечером шла работа. От горна шел свет. Олена, увидев гостя, улыбнулась, но, бросив взгляд на мужа, взялась за клещи. Кузнец ковал большие зубья для бороны-корчевателя. Жена схватила первый зуб, намереваясь окунуть в воду, но Крот строго остановил ее:
– Эти отпускать на воздухе. А то ломаться будут.
Олена положила деталь на противень. Иван снял с плеча мешок, поставил пулемет. Протянул кузнецу гайку.
– Ну, гайка! – Крот покрутил гайку в битых пальцах единственной руки.
– От ка́моры. Видно, у кого-то другой не было. А при стрельбе вибрация. Слетит!
– Дырку безрезьбовую, под шплинт?
Иван кивнул.
– Нарисуй, где сверлить: посередке, по краю? Диаметру поставь. Приходи завтра.
– Надо сейчас.
– Стрельба, значит, будет? – Крот вздохнул. – Бумага есть?
Иван порылся в планшетке. Чистых листков не было. Олена смотрела на лейтенанта не отрываясь.
– Оленка, теперь у них у всех красивые погоны, – сказал Крот. – Хватит дивиться. Давай ладошку! Левую!
Олена вытерла руку тряпкой, протянула ладонь. Иван послюнил карандаш. Нарисовал на ладони кружок, перечеркнул его линией диаметра, поставил цифру «4», стрелочками стал обозначать расстояния от края грани: «2,5» и «2,5».
Олена вдыхала запах его волос.
– Щекотно, – хихикнула она, как девчонка.
Крот ловко, одной рукой, ладил ручной сверлильный станок. Иван закончил писать. Губы стали синими.
Олена взглянула на него и засмеялась громко. Крот поднял голову.
– Сто лет не смеялась, – сказал он.
– Так смешно ж, Прокоп Олексеич!
Иван ненароком заглянул в глаза Оленки над прокопченным платком, скрывающим пол-лица. Не глаза, очи! Копия глаз Вари, только эти – наивные, отмеченные тяжелым трудом, смутной надеждой. Они светились радостью, готовностью к любви и жаждой раствориться в ней.
Олена держала ладошку, словно на ней лежала драгоценность. И смотрела на Ивана.
– Олена! – крикнул кузнец. – Придержи… – Крот, помогая культей, закрепил сверло, подвел к гайке. – Крути правой… Не части́. А левую показуй, шоб я видел.
– Штебленок тогда сразу ушел, так? – сказал Иван. – А Климарь остался?
– Не! Он тоже сразу… – попробовала вставить слово Олена, но от взгляда кузнеца осеклась.
– Тоже счез, – закончил за жену Крот.
– А как вы его нашли, он же бродячий?
– Семеренков нашел!
Олена Сергеевна получила, наконец, возможность вставить слово.
– Семеренков ровно дите. Купил кнура на ярманке и пустил под нож.
И рассмеялась. Смех у нее был чистый, звонкий, и она явно знала это. Крот хмуро взглянул на супругу: та замолчала. Он пояснил по-хозяйски, четко:
– От свиньи доход, когда ростишь дома на копейку, а продаешь на рубль.
– Чего сейчас забивать? Лето! – сказал Иван.
– Не по времени торгуют, а по спросу, – Крот извлек сверло. – Готово! Метчиком пройду, резьбу подправлю.
– Кто, кроме Штебленка, приходил в тот день? – Иван укладывал детали пулемета.
– На забой всегда ходят. Кому просто интерес, кому купить. Маляс, Голендухи, Семеренков.
– А гончар зачем?
– Договориться закупить свежинки. Гончар лопает за пятерых.
– А тощий! – вставила, наконец, слово Олена. – Прямо жалко!
– Тебе всех жалеть! Тощие больше всех и жрут!
– Так он же только что своего забил! – сказал Иван.
Крот пожал плечами:
– Гроши дал хорошие. А куды, чего – его дело.
11
На кухонном столе горела плошка. Стекло в лампе лопнуло, а достать новое можно было только в Малинце, по цене двух куриц. Дымок ввинчивался в потолок. В проем меж занавеской и оконной рамой глядел поздний вечер. Иван закреплял газовую камору на стволе «дегтяря». Серафима, хозяйничавшая у печи с ухватом, посматривала на занятие внука.
Груда деталей лежала на столе, но уже обрисовывались очертания нового, выверенного и безотказного ручного пулемета.
– Пружина самоделка… – бормотал Иван, орудуя куском тонкой пилки. – Не хочет… Но поработает еще.
Донеслась песня Варюси. Сегодня песня была грустная, «козацкая», под стать событию.
Засвет встали козаченьки в поход с полуночи,
Проплакала Марусенька свои ясни очи…
Иван приподнял голову, прислушался.
– Ты работай, раз оно тебе нужно, душой не прыгай, – сказала бабка, глянув на окно. – А скоко ж в эту тарелку пулек влазит?
– В магазин? Этот старого типа: сорок девять, – Иван вернулся к пулемету, закрепил пружину, соединил диски. Стал вставлять патроны, пробуя пальцами силу подачи в лотке. – А в новые магазины – сорок семь.
– «Магазины». В магазинах карасин должен быть, гвозди, мыло, соль… а тут смерть одна.
– Не плачь, не плачь, Марусенько, не плачь, не журися,
Та за свого миленького богу помолися…
Иван, не глядя, соединил затворную раму со ствольной коробкой, вставил магазин, прихлопнул его ладонью. Попробовал крепость защелки, продолжая слушать.
– Хорошо поет! – сказал Иван. – Скажи, неню, есть у нас дивчина по фамилии Спивачка?
– По фамилии нема, а так, по-разговорному, кажная вторая спивачка.
– А самая лучшая? – Иван подбрасывает собранный пулемет, любуясь результатом.
– Стоить мисяць над горою, а сонця немае,
Маты сына в дороженьку слезно провожае…
– Ой, – улыбается бабка, качая головой. – А ты свои ухи спроси!
12
Варя снимала белье с веревки во дворе, Мокеевна встряхивала и складывала в таз.
– Ой, я рад бы, матусенько, скорей возвернуться,
Та шось конь мой вороненький в воротах споткнувся…
– Ой, Варюся, была б я хлопцем, так за такий голос до самой смерти тебя любила б.
Варя даже не улыбнулась. То ли от песни печальной, то ли на душе и без того было безрадостно.
Хоть и было темно, она различила у калитки фигуру Ивана. Лейтенант стоял у калитки, молчаливый, сосредоточенный, и почему-то не входил.
Мокеевна проследила за взглядом Варюси. Вздохнула.
– На ночь оставишь – отсыреет, – сказала она.
– Днем высохнет.
Лейтенант наконец вошел.
– Ой, – всплеснула руками Мокеевна. – У меня ж в печи… подгорит! Я, Варя, у себя досушу.
Она быстро собрала белье в таз и осторожно обошла Ивана. Уж больно серьезен был раструб пламегасителя за плечом лейтенанта.
Иван и Варя стояли, не решаясь начать разговор. То ли из-за пулемета за плечом, то ли по более серьезной причине, лейтенант изменился за последний день. И не только в переживаниях по поводу замученного парнишки было дело. Что-то повернулось в самой глубине лейтенанта, и прежним он не будет, Варя это осознала и выразила отчаянием, прозвучавшим в голосе:
– Холодно як! – она передернулась. – Зайдите, товарищ лейтенант.
Зажгла лампу. Фитиль, разгораясь, выделил из полумрака внутренность уютного дома, излучавшего, как всегда, покой и довольство.
– Набегался? Повечеряешь? – спросила Варя.
Голос прозвучал чуть веселее. Может, растает лейтенант, вернется прежнее? Накинула на плечи белый, с серебристым отливом, «варшавский» платок, с бахромой невиданно тонкой работы. Лучше вещи у нее не было. Да и ни у кого в Глухарах не было. Но и этого Варюсе показалось мало. Исчезла за дверкой шкафа, несколько неприметных движений, и закачались, поблескивая камушками, поражая разноцветными отблесками, сережки-висюльки.
– Откуда у тебя эти цацки? – Иван подошел к Варюсе, дотронулся до сережки.
– Ой, – засмеялась, приникла к его руке. – Ну, шо за вопросы! Ты спроси: «для кого»?
Иван взглянул на грамоты, украшавшие стену. «Видатной народной спивачке…» Варя попыталась обнять лейтенанта, он отстранился.
– Погоди. Я другое… я про Сапсанчука.
– Ой, нашептали завистники. – Она продолжала держать Ивана за руку, словно опасаясь, что он исчезнет, если отпустит. – Шо тебе важно, моя любовь чи нашептыши? Пойми, никого не любила, как тебя, и, може, не полюблю. Тебе мало? Ну, мало тебе того, скажи? – выкрикнула она, и глаза заблестели от слез. – Вот стою, – она, наконец, отпустила Ивана, развела руки, как бы открывая себя, – и вся твоя, вся. Хоть в платке и с висюльками, хоть без ничего: шо мне еще отдать, требуй, отдам… но больше того, шо я есть сама, не смогу, нема! А ты – Сапсанчук!
Иван смотрел в пол. Очень уж она была красива сейчас, Варя, и тело его тянулось к ней так, что готово было порушить все преграды, возведенные рассудком. Вместе с самой головой.
Он с трудом взял себя в руки. Если сдастся сейчас – капитуляция на всю жизнь.
– Он мой враг, Сапсанчук! – мрачно сказал лейтенант, не отрывая глаз от пола. – Всякого, ну… личного… не имею в виду.
– Да, враг! Враг! Ваня, вся немецкая армия тебе враги. Все полицаи. Всех побьешь? Ты вже свою кровушку отдал! В зеркало глянь. Молодой. Красивый. Як ложишься в постель, меня жаром обдает, боюсь всю любовь выказывать, напугаешься, – усмехнулась она.
Он ощущал ее дыхание, легкое и частое. Хотелось закрыть глаза – и вернуться в недавнее прошлое. В долю секунды оно нахлынет, подхватит, закружит. Только не закрывать! – приказал себе лейтенант. Закроешь – она явится такой, какой была в минуты близости: нежной, понимающей, отзывающейся на каждое его слово, каждое движение, каждое желание еще до того, как оно появилось.
– Я про Сапсанчука, – жестко сказал Иван.
– Ой, Ваня! Ну, раз так… Чую, все равно выйдет, шо я виноватая! Училась, работала, песни спивала про колхоз, про непобедимую Красную Армию. А меня непобедимая бросила. На три года! Ваня, то для нас, кто женского полу, целый век! Кругом немцы, полицаи, полномоченные… Лезут: кто добром, кто угрозой. В такой час красивая девка одна, як дом без крыши. Снегом не завалит, так дождем зальет. А он с инженеров, в почете, в ихней форме.
– В форме? С фашистскими знаками? Он же палач, убийца! – Иван возвращался в то состояние, в каком явился сюда.
– Ваня, а кто в войну не убийца? Хочь голубя привесь на грудь, а убийца!
– Хорошо. Я тебя не виноватю… не виновачу. Позови его! Помоги выманить из леса!
Она посмотрела на него, не понимая: он серьезно об этом или так, брякнул? Мальчишка! Погоны, награды, ранения – и мальчишка!
– Ваня! Ты хочь знаешь, кого выманиваешь? Волка с норы! Загубишь ты себя и меня. Ваня, не то надо!
– А что?
– Оставайся со мной! Плюнь! Я, Ваня, неглупая, не бо́язкая. Я тебя поберегу. Неволить не буду. А мне пожить с любовью, шоб помнилось. Может, сына чи дочку рожу. Без претензиев к тебе. Живи в свободе… Уедем, а? А Сапсанчук нехай сгниет в своем лесу!
Иван молчал.
– В герои хочешь? Вон их сколь, изувеченных! А сколь засыпано землей, а то и брошено! Шо, Михаил-архангел их будить станет? Трубы у него на всех не хватит, Ваня!
– Не поможешь мне?
– Жестокий ты! – Варюся решилась. – До меня жестокий! Знаю причину. Другая у тебя на уме. Тоська! Чистенькая, не тронутая. А я вот грешная, да? Сильная, хитрая, злая… а Семеренковы – ягнятки! Ты узнай, кто к Ниночке до войны сватался? Гончарню кто прибрал до своих рук? А кто для него старался? Для его почету? Чьи глечики в Берлин возили, грамоту дали… со знаком!
Видя, что лейтенант собирается уходить, открыла дверь. Комок в горле не давал ей говорить внятно.
– Больно? А мне не больно, шо душу вывертуют? Иди, вывертуй другим. Есть кому!