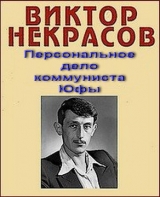
Текст книги "Персональное дело коммуниста Юфы"
Автор книги: Виктор Некрасов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)
7
Пятнадцатого июля был день рождения Абрама Лазаревича. Минуло шестьдесят лет.
Проснулся он в этот день рано, но долго не вставал. Лежал с закрытыми глазами. За окном неистово носились ласточки, пронзительно, по-своему голося, ворковали призывно голуби, Потом, матерно ругаясь, кто-то начал сбрасывать внизу во дворе какие-то ящики. А Абрам Лазаревич лежал и думал о том, что вот начался еще один день и неизвестно, чем его заполнить. И никуда не надо идти, отмечаться у табельщицы, раскладывать бумаги на столе, отвечать по телефону, ходить на совещания, ездить в Ново-Беличи на стройки. И давно он не видел уже всех своих сослуживцев, которые раньше в этот день, день его шестидесятилетия, повесили бы у него над столом вырезанную из какой-нибудь фотографии его физиономию и пририсовали бы к ней забавное туловище с ручками и ножками, и написали бы – этим занимался присяжный стенгазетный поэт, все тот же Саша Котеленец – забавный стишок, вроде: «Лазарь наш Абрамыч, шестьдесят вам уж сполна, выпьем же стаканыч доброго вина... Пусть будет всем нам жизни ваш пример образцом достойным деланья карьер...» Недавно он, кстати, встретил этого самого Сашу Котеленца. Бежал с авоськой в руках, полной картошки.
– Любуйся, жертва семейной эксплуатации, – деланно весело заулыбался он, размахивая авоськой, – и подумай только, за все это дерьмо три рубля, тридцать рэ на старые деньги. Хотел грибов еще сушенных купить. Так за такую вот вязочку, смотреть не на что, полтора карбованца, дешевле грибов называется...
Потом так, вроде мимоходом, спросил о житье-бытье.
– Перешел на пенсию? Великое дело. Солдат спит, а служба идет.
Абрам Лазаревич спросил кое о ком из бывших сослуживцев.
– Да что говорить, – Саша развел руками, – тянем лямку. Сидим, не дождемся пенсионного возраста. Мне вот еще целый год тянуть. Жду не дождусь. На рыбалку буду ходить, таких вот щук ловить. Ходишь небось?
– Дома все больше.
– Напрасно, напрасно. Рыбалка великое дело.
На этом и расстались.
Встречал он еще кое-кого, так же на ходу, на улице. Минут пять постоят, поговорят о том о сем, об очередном инфаркте, вреде жары для сердечников, неудачном замужестве чьей-то дочери, и ни слова о том собрании, как будто его и не было. Один только Лемперт, Лемперт, проповедовавший теорию «невысовывания», сказал ему:
– Послушай меня, старого мудрого ребе. Забери ты ото идиотское заявление и дело с концом. Нужен тебе этот Израиль, как прошлогодний снег. С арабами они и сами справятся, без тебя, поверь мне. Пусть этим Гуннар Ярринг занимается, он за это свои пару копеек имеет. Ну их всех к лешему.
Так, лежа, натянув одеяло на подбородок, думал Абрам Лазаревич обо всем этом, вспоминал и понимал, что всю эту канитель давно пора бы кончать, но вот почему-то не кончал, и ходил в райком, и вел эти бесконечные никому не нужные беседы в ожидании бюро райкома, а потом такой же тягомотины с другим следователем в обкоме – конца и края этому не видно. От всего этого становилось невыносимо скучно, и болела голова, и не хотелось уже ни в какие Израили и земли обетованные, а если и хотелось, то только чтоб не думать обо всем этом, и не видеть всех этих опостылевших презирающе-ненавидящих милицейских морд из ОВИРа, куда все еще надо было ходить наведываться и выслушивать в энный раз брезгливо роняемое: «Я ж вам сказала придти через месяц. У вас что, календаря нет, все пороги обиваете». Ох, как надоело, как надоело.
На старых, стоячих, еще дедушкиных часах, чудом почему-то не унесенных немцами, проскрипело, пробило восемь. Абрам Лазаревич встал, сунул ноги в шлепанцы и прошлепал на кухню готовить Борису завтрак. Тот еще спал, скинув на пол простыню и, как всегда, натянув на голову подушку, чтоб не слышать боя часов.
У него уже кончались экзамены – осталось еще два – математика и еще что-то, он уже не помнил что. Ох, уж эти экзамены, скорей бы они тоже кончались. Вчера, например, стали спрашивать парня о ближневосточном конфликте. Ну, ответь честь честью, как положено, не вдавайся в подробности и разъяснения. Так нет, этот лопоухий, пятнадцатилетний идиот задает учителю вопрос:
– Почему американская помощь Израилю называется подливанием масла в огонь, а наши ракеты и танки дружеской помощью борющемуся за независимость братскому арабскому народу?
Видали вы такое? Хорошо, учитель к нему неплохо относится и, как ни странно, наделен чувством юмора. «Ты газету «Правда» читай, – сказал он, – третью страницу, тогда все поймешь» – и поставил тройку.
Ох, Боря, Боря... Что с ним делать? Растет, молчит, все понимает. Стал какой-то замкнутый, серьезный, с товарищами по вечерам сидит, читают что-то недозволенное. Нашел у него недавно на столе «Дело Бейлиса». Потом спрашивал:
– Как же это так, никак не пойму. Царский режим, сатрапы, черносотенцы, антисемиты, «двуглавые орлы», пущены все механизмы, а человека признали невиновным?
– Хорошие защитники были. Маклаков, Карабчевский, Грузенберг, Зарудный, Григорович-Барский.
– Что ты говоришь! Как будто у Синявского и Даниэля были плохие.
– Тогда чего же ты спрашиваешь, если сам все понимаешь?
– Хочу все точки над «i» поставить. А у меня этих точек не хватает.
Вот как он стал отвечать, поганец.
А в это время другой «поганец», правда, уже двадцатилетний, Женька Баруздин, портил кровь своему отцу. Он стал «хиппи». Воспользовавшись каникулами, отрастил волосы до плеч, как у Герцена, по его словам, бороду, усы, ходил в черном свитере, невыносимой поношенности джинсах, и на все уговоры матери и отца лениво-презрительно отвечал:
– Просто у нас разные взгляды на жизнь. Меня тошнит от ваших газет с вечно улыбающимися с первых страниц передовиками. Тошнит от вашего стремления, безрезультатного, правда, до сих пор, к благополучию и сытым желудкам. К тому же, вы трусы. Всех боитесь – чехословаков, поляков, Гинзбурга, Галанскова, меня боитесь, себя самих. Кстати, отец, куда ты дел мою «Спидолу»? Все равно найду. А не найду – принесу другую. Или к Эдику буду ходить, там не так трясутся.
И ходил к Эдику и приходил потом с этим самым Эдиком и еще какими-то девицами, и начинали крутить магнитофон и ставить всяких там Высоцких и Галичей, от которых без ума.
Николай Александрович не на шутку встревожился. Хорошо еще водки не пьют – «мы, пахан, против допингов» – но и без водки весело предостаточно. Одних разговоров хватает.
– Пойми, Женя, – пытался он его совестить после того, как Василь Васильевич сказал ему как-то на бюро райкома: «Послал бы ты своего отпрыска в парикмахерскую, а то, право, неловко, орангутанга какого-то вырастил». – Пойми, что мне краснеть за тебя приходится, я все-таки занимаю определенное положение, со мной считаются, советуются, а сын паяц, да еще вбил себе в голову, что умнее всех.
– Если не умнее, то порядочнее. У меня на счету Юфы нет. У меня совесть чиста. Между прочим, он у вас что, больше не работает? Я его сына встретил, говорит, перешел старик на пенсию.
– Перешел. Шестьдесят уже.
– Кстати, на днях, кажется, стукнет. Борис мне говорил. Пятнадцатого, что ли? Вот предлагаю проявить заботу, внимание. У вас, по-моему, это принято: дать по шее, а потом с Первым мая поздравить или Седьмым ноября. Понес бы ему тортик или бутылку сухого «Надднiпрянського». От бывших «однополчан», так сказать.
И через неделю напомнил: «Сегодня, между прочим, пятнадцатое. Не забыл? Тортик, тортик...»
8
В этот вечер Абрам Лазаревич даже растрогался. Вечер был душный, предгрозовой. Тучи. Сначала бело-сизые, потом сизо-красные, красно-черные, долго ползли из-за крыш соседних домов, потом поднялся ветер, согнувший стоявшие под окном акации чуть не до земли, и после длительной этой подготовки полил, наконец, дождь. Не дождь, а лавина воды, какие бывают только в кинофильмах.
И в этот момент, когда, казалось, всех прохожих на улице должно было смыть, явились, все струившиеся потоками воды, промокшие до нитки, Коля Кудрявцев и с ним еще какой-то, бородатый. Принесли бутылку шампанского и еще какого-то, не то румынского, не то венгерского вина и завернутые в промокшую бумагу колбасу, холодец и баночку хрена.
– А мы к вам... По случаю, так сказать, знаменательного дня. Не прогоните? Все-таки промокли малость, не мешает и согреться.
Чувствовалось, что ребята малость «подзаправились», в чем, впрочем, сами признались: «Дождь вынудил, а тут как раз забегаловка». И, весело хохоча, стали в прихожей выкручивать рубашки и штаны.
Борька им помогал, показывал, куда вешать, был явно смущен и горд – не забыли, вот... Потом, натянув несколько тесные в подмышках борькины майки, уселись чинно на диван, поджав под себя длинные волосатые ноги.
– А это Леня Баруздин, – представил Николай Леню, – от имени, так сказать, вашей и бывшей моей парторганизации, я ведь оттуда ушел, не сошлись характерами, работаю теперь в автопарке. Ну, а вы как? Как здоровье?
– Да так, скрипим по-стариковски. Через месяц, вот, первую пенсию принесут.
– Ну а там как? – Николай кивнул куда-то в сторону. – С отъездом вашим?
– Хожу все. Анкеты переписываю. То это не так, то то... Борь, ты все-таки чистую скатерть постелил бы, разве мать не учила тебя, как надо гостей принимать. – Абраму Лазаревичу не хотелось говорить об ОВИРах и всем прочем.
Потом сели за стол и наполнили бокалы. Женя встал, еще не высохший, с прилипшими ко лбу волосами и очень серьезный.
– Мазелтов, – сказал он, и последующее говорил ни разу, даже чокаясь, не улыбнувшись. – Я хочу выпить, Абрам Лазаревич, за вас, за то, что вы такой, как вы есть. Пусть другие, в том числе и мой родитель, те, кто за благополучие и благоразумие, кто только думает об одном: «как бы чего не вышло», пусть они считают вас ненормальным. Пусть. Мы этого не считаем. Мы – это неопределившиеся, еще шарахающиеся и колеблющиеся, что-то нащупывающие, пока еще не нашедшие, но ищущие того, чего больше всего боятся наши родители. Мы хотим малого – свободы выбирать. И самим выбирать. Вы выбрали. Правильно или неправильно, но выбрали. И не отрекаетесь. Пусть же выбранное вами никогда не разочарует вас. За это я пью. Мазелтов!
Абрам Лазаревич почувствовал, что у него наворачиваются слезы. Отошел к окну и долго смотрел на бегущие внизу, во дворе ручьи. Дождь постепенно переставал.
Потом вернулся к столу и слегка волнуясь сказал, что очень тронут тем, что Леня сказал. И тем, что вообще пришли. Он, как они, вероятно, понимают, не придает никакого значения датам, и все же приятно. Приятно, когда не забывают, когда...
Он смутился и неловко, проливая на скатерть, наполнил опять бокалы.
– А насчет выбора? Думаю, что твои родители правы, считая меня ненормальным. Но очень уж надоело быть нормальным, поверьте мне. А если говорить совсем уж начистоту...
Но начистоту ему сказать не дали. Дождь кончился и явились гости, старые, еще институтские друзья Абрама Лазаревича, муж и жена с племянником-физиком, из категории тех, как сразу поняла молодежь, которые Абрама Лазаревича тоже считают ненормальным. На столе появился торт и еще одна бутылка.
Стараясь не обращать внимания на голые ноги Женьки и Николая, старые друзья заговорили сначала о дожде, потом об измучившей всех за последнее время жаре, вообще о перемене климата за последние годы, о том, что это результат ядерных испытаний и всяких там космических экспериментов, и тут племянник-физик, оседлав своего конька, стал нудно рассказывать о последних успехах в этой области. И стало совсем скучно.
– У тебя нет Галича? – спросил заговорщицки у Бориса Леня. – Хотелось бы нокаутировать старцев.
– Есть у Валеры, соседа. И маг есть.
– Принес бы.
Через минуту появился магнитофон, и комната заполнилась гитарой и приятным, комнатно-застенчивым, перебиваемым смехом и аплодисментами, голосом кумира всей молодежи.
Сначала все смеялись, слушая про товарища Парамонову, про вышедшую замуж за красавца-эфиопа регулировщицу Леночку, про истопника, рекомендующего «столичную» как верное средство от стронция, потом перестали смеяться.
«Мы похоронены где-то под Нарвой,
под Нарвой, под Нарвой...
тихо и грустно, а потом все громче и трагичнее зазвучал голос.
Мы похоронены где-то под Нарвой,
Мы были – и нет.
Так и лежим, как шагали попарно,
попарно, попарно;
Так и лежим, как лежали попарно.
И общий привет.
И не тревожит ни враг, ни побудка,
побудка, побудка,
И не тревожит ни враг, ни побудка,
умерших ребят.
Только однажды мы слышим как будто,
как будто, как будто,
Только однажды мы слышим как будто
Вновь трубы трубят.
Что ж, поднимайтесь, такие-сякие,
такие, сякие,
Что ж, поднимайтесь, такие-сякие,
Ведь кровь – не вода.
Если зовет своих мертвых Россия,
Россия, Россия,
То, значит, – беда.
Вот мы и встали в крестах и нашивках
нашивках, нашивках,
Вот мы и встали в крестах и нашивках
В снежном дыму.
Смотрим и видим, что вышла ошибка
ошибка, ошибка,
Смотрим и видим, что вышла ошибка,
И мы – ни к чему.
Где полегла в сорок третьем пехота,
пехота, пехота,
Где полегла в сорок третьем пехота,
Напрасно, зазря,
Там по пороше гуляет охота,
охота, охота,
Трубят егеря...
Все молча слушали, глядя кто в окно на раскачиваемые ветром акации, кто на бутылки на столе, кто на кончики собственных ногтей. Потом так же молча прослушали «Промолчи, промолчи, промолчи... Промолчишь, попадешь в первачи... Промолчишь, попадешь в богачи... Промолчишь, попадешь в палачи...»
– М-да, – задумчиво сказал пришедший гость, когда Боря выключил, наконец, магнитофон, – все это, конечно, грустно; рождает невеселые мысли, но еще грустнее, что увлекается этим наша молодежь, – он кивнул в сторону перематывавшего ленту Бориса и стоявшего с ним рядом Николая. – Может, мы в этом возрасте беспечнее были, а может, напротив, собраннее, целеустремленнее. Как ты думаешь, Ава? А годы тогда были тридцатые, нелегкие. Коллективизация, голод...
– Тридцать седьмой еще был впереди, – сказал Абрам Лазаревич, – а для них он уже позади, история. И дело врачей – тоже история.
Поговорили о врачах, Берии, небезызвестном Рюмине, которого уже все забыли.
– Кстати, – вставил Женя, – в последнем томе БСЭ, который только что вышел, на букву «Б» Берии вовсе нет. А в предыдущем издании, я видел у отца, в этом самом томе на букву «Б» лежит записка: возьмите ножницы или бритвочку, вырежьте страницы такие-то и такие-то и замените прилагаемым – Берингов пролив и еще что-то. Это вместо Берия. Отец, конечно, указание выполнил и кровавого тирана тут же сжег на спичке.
– А кто это Берия? – недоуменно спросил Николай.
– А кто такой Ягода, Ежов – тоже не знаешь? – поинтересовался Женя. Николай пожал плечами. – И чему вас в армии только учат?
Николай смутился и покраснел.
– Я вообще не очень-то того... Учиться еще надо.
– Научат вас, – мрачно сказал Женя, – «По ленинскому пути» Леонида Брежнева читай. Он сейчас на всех языках вышел.
Воцарилось неловкое молчание. Молодой физик, чтоб разбить его, разлил вино и сказал:
– Век живи, век учись, все равно дураком умрешь.
Взрослые ничего не сказали и молча выпили.
– Да, вот так-то, – Женя поставил свою рюмку на стол и тихо пропел: «И вышла ошибка, ошибка, ошибка... и трубят егеря».
– Трубят... – неопределенно сказал Абрам Лазаревич. Разговор явно не клеился. Гости посмотрели на часы. – Торопитесь, что ли? – спросил Абрам Лазаревич.
– Да... Еще одни именины сегодня. Урожайный день какой-то. – Раскланялись и ушли.
После их ухода стало как-то проще. Покрутили еще магнитофон, потом пили чай с принесенным тортом. Разошлись где-то после одиннадцати. Штаны и рубашки к тому времени уже высохли.
– Ну что ж, – пожимая ребятам руки, говорил Абрам Лазаревич. – Очень мне приятно было, что зашли. Не думал, никак не думал. Есть, значит, все-таки преемственность поколений.
– Только поколение не то, – рассмеялся Леня. – Наше, то есть. Недостаточно целеустремленное, малосведущее. Надо вот еще Николаю на Берию глаза открыть, а то темный он у нас еще. Пошли, что ли, Коля?
И ребята убежали, весело перепрыгивая через одну ступеньку.
Абрам Лазаревич подошел к окну, подышал посвежевшим после дождя воздухом, потом сказал:
– Помой-ка, Борь, посуду. А я полежу. Голова что-то закружилась с непривычки, – и лег на диван.
9
Прошло лето – жаркое, сухое, почти без дождей. Сердечники жаловались на него. Абрам Лазаревич тоже плохо себя чувствовал. Никуда они с Борей, как собирались, не поехали – куда-нибудь на юг, к морю. Нужно все еще было ходить к следователю, потом со дня на день откладывали бюро райкома. Состоялось оно где-то в начале сентября.
После него Абрам Лазаревич пришел разбитый, какой-то осунувшийся, сразу лег на диван.
– А обед? – встревожился Боря. – Я тут все приготовил. К супу даже гренки поджарил. Салат сделал из помидоров с огурцами.
– Спасибо, Борь. Погоди немного. Отлежусь малость... Дай мне стаканчик воды. И таблетку там, на столе, ты знаешь.
Через полчаса он встал, пообедал без особого аппетита, так, чтобы Борис этого не видел, и опять лег с книгой в руках.
На бюро он почти ничего не говорил. Сказал, что за это время все еще раз хорошо продумал, но решения своего не меняет, не видит для этого оснований, до него говорил еще его партследователь, волнуясь, заглядывая в бумажку. Говорил сочувственно, упирая на фронтовое прошлое Юфы, на его ранения, контузию, хорошие отзывы с работы. Вывод его – учитывая все вышеизложенное – строгий выговор с предупреждением.
– А может, еще благодарность вынести? – угрюмо съязвил Василь Васильич, первый секретарь. – И билет на самолет домой принести?
После Абрама Лазаревича говорил Баруздин – и нашим, и вашим, как и следовало ожидать, что, на его взгляд, было проявлением наивысшего мужества, потом какой-то военный, требовавший исключения, еще кто-то, поддержавший военного, строгого вида женщина, что сам поступок влечет за собой исключение, но учитывая возраст, фронт, ордена и веря в то, что коммунист Юфа еще подумает и т.д., эту меру можно заменить строгим выговором.
В заключение выступил Василь Васильевич. Он говорил долго, с экскурсами в историю, ссылаясь на классиков марксизма и более близких руководителей, а в общем то же самое, что говорил в свое время на партсобрании его второй секретарь. Закончил словами:
– Думаю, что партия наша не станет слабее оттого, что избавится от одного из членов своих, который не заслуживает такого высокого звания. Тут одно – или с нами или против нас! Ваш выбор, Юфа, говорит, что вы не с нами. Я не настаиваю на том, что вы против нас – тогда меры были бы приняты другие, – но вы не с нами. Прав я или нет, товарищи? По-моему, прав... (никто не возразил). Итак, ставлю на голосование. Кто за исключение товарища Юфы (он все-таки сказал «товарища») из рядов партии, прошу поднять руки. Считаю: раз, два, три, четыре, пять... Кто против? Один. Кто воздержался? Тоже один.
Одним «против» оказалась строгая женщина. Воздержался партследователь. Баруздин голосовал за исключение.
– Прошу вручить мне ваш партбилет, – сказал Василь Васильич тоном, который должен был подчеркнуть всю торжественность данной минуты. – По поводу нашего решения можете апеллировать в горком партии.
На этом процедура была закончена. Абрам Лазаревич встал и быстро вышел, боясь, что его задержат.
10
Настала осень. Зарядили дожди. В газетах писали, что подобного количества осадков не было с тысяча шестьсот какого-то года и что зима ожидается снежная и суровая. Все охали и жаловались, и с тоской думали о приближающейся зиме.
А Абрам Лазаревич говорил:
– Странно, но я вот люблю зиму. Настоящую русскую зиму. Скрипящий под ногами снег, толстые шапки на крышах, вертикальный неподвижный дым из труб, и чтоб ноздри, когда вздохнешь, слипались. Ничего этого у нас не будет, Борь, в Израиле, когда мы туда попадем. Песок, кактусы, камни...
Первое время, когда он только подал свое заявление, он много думал о той, не очень далекой, но очень уж непохожей на нашу стране. Что он о ней знал? Почти ничего. Кроме сведений, почерпнутых из энциклопедии – высокое плато с отдельными пониженными участками, полезные ископаемые – калийная и каменная соль, бром, фосфориты, асфальт, строительный камень; растительность – кустарниковые заросли маквиса и фригана, а в Галилее леса из вечнозеленых дубов, терпентинного дерева и алеппский сосны и того, что буржуазное это государство содержится на американские доллары. Остальные сведения черпались из газет и «Голоса Израиля», которые надо было развешивать на аптекарских весах, так как подвергавший по Марксу все сомнению Абрам Лазаревич не очень-то доверял идиллическим комментариям Иерусалима.
Лежа на продавленном своем диване (последние десять лет каждый день начинался со слов покойной жены: «Когда ж мы его, наконец, приведем в божеский вид? Сегодня же поговорю с мадам Цейтлин, у нее, говорят, прекрасный недорогой мастер есть, за два дня все сделает»), он пытался нарисовать себе картину будущей жизни. И нужно сказать, она не очень ясно вырисовывалась. Сестра, муж, в прошлом журналист, а сейчас не совсем ясно кто, трое детей, невестки, внуки. И все это в кибуце, где-то недалеко от Мертвого озера. Сестра присылает иногда идущие по два-три месяца посылки с растворимым кофе, конфетами и пепельницами-сувенирами с изображением семисвечника или щита Давида. В письмах пишет: «Все мы будем рады вашему приезду и попытаемся создать сносные условия существования». Это «попытаемся» и «сносные» несколько смущали Абрама Лазаревича, но в конце концов, что ему с Борькой нужно – крышу, кусок хлеба и что-то похожее на любовь. Сарру (теперь ее звали Сура) он последний раз видел, если это можно так назвать, пятьдесят лет тому назад, когда она была длинноногим, веснущатым, капризным ребенком, вечно грызущим ногти и отказывающимся от манной каши. Потом она с родителями уехала в Яффу, и до конца пятидесятых годов он ничего о ней не знал. Обнаружилась она через одного туриста из Израиля, который чудом его нашел и вручил письмо. Письмо было (по-видимому, из боязни что оно попадет в чьи-нибудь руки) краткое: «живы, здоровы», а со слов туриста он узнал, что «концы с концами» они сводят, а вообще, «знаете, какая теперь жизнь – сегодня так, а завтра бог его знает как...». С тех пор завязалась, правда, не очень бурная переписка. В одном из писем последовало приглашение приехать к ним, изложенное с библейско-торжественной витиеватостью:
«Пусть ветви деревьев склонившихся над могилами наших отцов осенят и наше с тобой место последнего успокоения». Вот как веснущатая Сура стала теперь выражаться.
Сейчас, лежа на том же продавленном диване (покойная жена так и не добралась до мадам Цейтлин, теперь она, кажется, умерла, а без нее приличного, недорогого мастера днем с огнем не сыщешь), он все реже и реже рисовал себе картины неведомой, лежащей на высоком плато с отдельными пониженными участками страны, а думал о том, почему в его стране (все-таки «его») нельзя тихо и спокойно, без нервотрепки, доживать свои дни. Он чувствовал, что с каждым днем ему становится все хуже и хуже – плохо спал, частые головокружения, нет-нет, да что-то подкатит к горлу – но к врачам не ходил («ну их, один одно говорит, другой противоположное»), ограничивался таблетками.
Как-то вечером ему стало совсем плохо, покрылся испариной и пульс переселился куда-то в голову. Борьке он ничего не сказал, но тот сам понял, не на шутку встревожился и вызвал неотложку. Те часа через два приехали, когда стало уже лучше, усталые, злые, неразговорчивые, сделали укол и через три минуты ушли, сказав: «Сто лет еще проживете».
Сто лет эти оказались двумя неделями. Как-то утром Борис проснулся, поставил чайник, поджарил яичницу, а когда подошел к отцу, который непривычно долго спал, обнаружил его лежащим на спине, с открытыми глазами и бездыханным.
Хоронили Абрама Лазаревича в ясный, теплый, удивительно прозрачный и тихий день начала октября. Вчера еще лил проливной дождь и небо безнадежно было затянуто низкими, сплошными, без единого просвета тучами. И на следующий день лил дождь, а этот, точно отдавая дань уважения усопшему, насквозь был пронизан покоем и какой-то благостностью. Пахло свежей, не высохшей еще со вчерашнего землей и палеными листьями, предвестием недалекой уже зимы. Похоронили в одной ограде с женой, без чего Абраму Лазаревичу никогда бы не попасть на это заросшее столетними липами и вязами с буйно цветущей весной сиренью кладбище для избранных, где хоронили теперь только секретарей ЦК и обкомов, всех видов Героев, а заодно их жен, воздвигая на их могилах громадные, высеченные из гранита головы с волевыми подбородками и устремленными в будущее взглядами.
Провожающих было немного – несколько дальних родственников, из бывших сослуживцев Саша Котеленец и еще несколько человек, которых никто не знал, принесших венок из живых хризантем и черной лентой, на которой что-то было написано по-еврейски. Были и Николай с Леней. Рядом с ними жался бледный, осунувшийся с красными глазами Боря.
Речей никто не говорил. Бросили по грудке земли, и рабочие молча, как-то очень тихо, почему-то не пререкаясь, со знанием своего привычного невеселого дела, засыпали могилу землей и поставили табличку с надписью: «А.Л.Юфа. Род.15 июля 1910 г. ум. 12 октября 1970 г.». Потом все разошлись.
Леня сказал:
– Ну что ж, по христианскому обычаю, хотя он и не исповедывал нашей веры?
– Ну что ж, – сказал Николай.
И взяв бутылку «московской» и колбасы, они расположились на самом кладбище, на окраине его, над железнодорожными путями рядом с полуразваленным замурованным склепом с готическими ажурными башенками и безруким склонившимся ангелом, неизвестно чем держащимся крестом.
По путям проносились поезда, сменившие свои былые, низкие, благородные гудки на какой-то несолидный, пронзительный свист, а за путями растянулся город, с каждым годом меняющий свой привычный силуэт прошедшего века. Какими-то чужими, неизвестно откуда пришедшими, казались белые, высокие башни и господствующее над всем привокзальное зелено-стеклянное здание новой гостиницы «Лыбедь». И не выделялись уже одиночками среди моря крыш купола Софии и Владимира, их как-то потеснили, заслонили, уступили дорогу другим.
– Ну, что ж, – сказал опять Леня, – за упокой души, так сказать.
– Хорошей души, – сказал Николай.
Боря ничего не сказал, выпил свою стопку и поперхнулся.
– Вот и не доехал наш Абрам Лазаревич до обетованной земли своих отцов, – сказал, вздохнув, Женя. Николай откинулся на спину.
– А, может, и хорошо, что не доехал? Хоть мечта осталась. А у нас с тобой есть мечта?
– У отца с матерью есть. Купить немецкую кухню за 130 рублей. Есть у них там какой-то знакомый, обещал достать.
– А у тебя, Борис?
Борис помолчал. Сорвал какую-то травинку, общипал ее, точно гадая, потом сказал:
– Все в той же Большой Советской Энциклопедии сказано, что мечта бывает двух родов – активная и пассивная. Первая – творческая, полезная, направленная на созидание, а вторая – пустая мечтательность, связанная с бездеятельностью, довольствующаяся исполнением своих желаний в воображении. Вот я и не знаю, какая из них лучше, поэтому ее у меня нет.
– Вот это да, – протянул Леня. – Трудно тебе жить будет, романтика из тебя не получится.
– Уже не получилось, – мрачно сказал Боря и больше ничего уж не говорил.
– Да, – вспомнил вдруг Николай последний их разговор на квартире у Абрама Лазаревича. – Ты обещал мне раскрыть глаза на кого-то, кого вырезали из энциклопедии.
– На Берию Лаврентия Павловича? Можно. Хотя знать тебе не положено, так как, хотя он и был до своего исчезновения из жизни и энциклопедии выдающимся общественным и политическим деятелем, но, как потом выяснилось, был он бякой и правой рукой Отца Народов, которая и делала все плохое. Но к партии, учти, кандидатом которой ты состоишь, это никакого отношения не имеет, так как, к твоему сведению, она никогда не ошибалась. Так что, совесть твоя может быть чиста, а о Берии вспоминать нечего – не было его и все... О прошлом рекомендуется помалкивать.
– Промолчи, промолчи, промолчи, – высоким голосом затянул Николай. – Промолчи – попадешь в первачи... Промолчишь, попадешь в богачи... Промолчишь, попадешь в пал-лачи...
Через неделю после похорон пришло из ОВИРа письмо в большом рыжем конверте со штампом. В нем сообщалось, что гр. Юфе Абраму Лазаревичу и его сыну Юфе Борису Абрамовичу дается разрешение на выезд в государство Израиль на постоянное жительство. Разрешение действительно до 15 ноября с.г.








