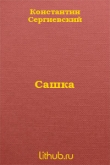Текст книги "Сашка Лебедев"
Автор книги: Виктор Астафьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Виктор Астафьев
Сашка Лебедев
Всю ночь санитарные машины шли без огней по шоссе. Впрочем, от шоссе осталось одно название. Несколько дней назад здесь сосредоточивалась для наступления танковая армия и разворотила булыжник на тихом древнем пути, наделала на нем рытвин и бугров.
По такой дороге санитарная колонна за ночь с трудом прошла семнадцать километров и в городе Жешуве оказалась ранним осенним утром.
Тяжелораненых и тех, что были похитрей да попроворней, разместили в переполненных госпиталях Жешува. Остальных кое-как подбинтовали на эвакопункте, дали им по стакану молока и начали снаряжать дальше.
Если бы у Олега Глазова была хоть какая-нибудь солдатская сноровка, он зацепился бы в прифронтовой полосе или сразу же постарался бы попасть в колонну, идущую в глубокий тыл.
Но он был еще молод и мало бит, и потому предстояло ему добираться до тылов на «перекладных».
Пока же Олег с радостным облегчением забрался в польский автобус и тотчас задремал на мягком сиденье. Он не слышал, когда тронулся автобус. Шофер-поляк вел машину тихо, чтобы бойцы, оглушенные и разбитые в ночном рейсе, хоть немного передохнули.
За городом Жешувом автобус остановился. Шофер отворил дверцу:
– Проше паньство.
«Паньство» – около двадцати раненых солдат – дремали и не сразу сообразили, что от них требуют. Русский санитар, сопровождавший автобус, в тон шоферу повторил:
– Проше.
Намытарившиеся солдаты не вдруг вылезли из автобуса. Сначала они изучили обстановку, кто с места, кто в окно высунулся.
Вдаль убегал изрытый гусеницами большак, обсаженный пыльными деревьями. К нему текли с полей и от деревень хилые тропинки и бугристые дороги. В кювете у большака вверх колесами лежала немецкая легковушка, а чуть подальше – с раздутым брюхом конь. За деревьями – тополями, сомкнувшими вялые ветки над дорогой, – стояла большая круглая палатка с красным крестом наверху. Возле нее толпился народ.
– Эвакуационный пост! – пышно назвал палатку автобусный санитар и, видя, что на пассажиров это не очень подействовало и они не трогаются с места, пояснил: – Отсюда специальным транспортом вас будут отправлять по госпиталям.
Многие из солдат как были перевязаны на передовой, так с теми повязками и мотались. Если проступала кровь, случавшиеся в пути санитары накладывали поверх новый бинт, но повязок не меняли. Почти у всех раненых была высокая температура, все одурели от бессонницы, голода и мечтали о заслуженном в бою блаженстве – о госпитале, о чистой перевязке, сделанной добрыми женскими руками, и о койке, о настоящей железной койке, может быть, с простынями и, может быть, даже с подушкой.
Упоминание о госпитале подействовало. Опережая один другого, с охами и бранью, раненые вывалились на большак. Автобус развернулся, юркнул в коридор тополей и убежал обратно, к Жешуву, оставив унылую пыль. Она медленно, как дым после залпа, оседала на листья и траву, и без того уже покрытую толстым слоем и потому бесцветную.
Сиротливой кучкой стояли солдаты на дороге. Никто к ним не подходил, и никто не обращал на них внимания.
Возле деревьев за большаком и около опрокинутой легковушки сидели и лежали раненые. Некоторые спали головами к стволам тополей, закрыв лица пилотками и шинелями, у кого они были, а если не было то просто локтем или ладонью.
У входа в палатку вкопан в землю стол и вокруг него рамою скамейки. За столом сидел солдат с перевязанной грудью, в хромовых, не по чину, сапогах.
Позолоченным трофейным карандашиком солдат что-то писал на потрепанном листе бумаги, придерживая его рукой. Время от времени он поднимал голову, со значением щурился, устремляя взгляд в осенние прозоры на тополях. В прозоры эти проглядывало успокоенное, перетомившееся в летних трудах и жаре солнце. В ветвях возились воробьи, стряхивая листья и пыль. Воробьи содомили из-за ворона, который взялся откуда-то и терпеливо ждал в ветвях, когда можно будет подлететь к душному коню и начать его с выпуклых глаз. На них уже давно хлопотали жадные черно-синие мухи.
Вид у солдата, сидевшего за столом, был такой занятой и отсутствующий, что нетрудно было догадаться – ни солнца, ни деревьев, ни птиц, ни людей он не видел.
Олег заглянул через плечо солдата и чуть было не сел от неожиданности. На истерзанном листе роились столбцы стихов. Буквально роились: каждая строчка в четыре, а то и в пять этажей. Сбоку, на полях, тоже пошатнувшаяся городьба строчек. Стихи солдату давались трудно.
Осенний лист кружася падает на лист бумаги.
Где грусть и трепет сердца моего,
Где по любви лишь сладкие мечтанья,
А больше нету ничего.
Две последние строчки столько раз черкались и перечеркивались, что Олег, тоже баловавшийся в школьные годы стихами, скорее угадал их, чем прочел.
«Контуженная муза!» – Олег предупредительно кашлянул, зная какой щепетильный народ поэты.
– Рифма хромает. Чувство в стихе есть, но техника отсутствует, – как бы между прочим заметил он, кособоко усаживаясь на скамейку.
Солдат прихлопнул стихи, как муху, и обернулся, засовывая лист под гимнастерку, в бинты. У него был горбатый, кавказский нос, а остальное все русское: серые глаза, жидкая белесая челка, белесые брови, с пяток крупных конопатин на переносье. Он смерил Олега пробуждающимся, недовольным взглядом:
– Откуда взялся грамотей такой? Из газетки, что ль? – И, заметив удивление Олега, пояснил: – Учено говоришь.
– А ты догадливый! – хмыкнул Олег и позвал «своих» солдат: – Давай сюда, братцы. Здесь хоть пыли меньше. – Повременив, с грустной усмешкой добавил, глядя мимо солдата: – Я цитировал рецензии на свои творения.
– Тоже стишки сочиняешь?
– Было дело, – с нарочитой, не идущей ему небрежностью ответил Олег. – Быстро эвакуируют отсюда?
– Чего-о? – удивился солдат и вдруг захохотал. Но тут же схватился за грудь, перегнулся, подавил стон и рассердился: – Лопухи! Будто вчера на свет родились! Зачем из автобуса вылезали? Теперь позагораете. Вон, – кивнул он на спящих под тополями людей, – видите?
– Как так? – рассердился пожилой дядька, вместе с которым ехал ночью Олег. – Где здесь начальство?
Боль, видимо, приотпустила солдата, и он уже спокойно сказал:
– Ты чего на меня-то орешь? Я сам отсюда умотать не могу. – И тише буркнул: – Стихи вон с голодухи кропаю.
Когда дядька перестал плеваться, ругаться и стучать о землю сделанным из кривой вишни костылем, солдат дал ему место рядом с собою на скамейке, зевнул, помахал кулаком у рта, как бы крестясь, пробормотал: «Прости нас, мать твою, богородица!» – и стал неторопливо рассказывать.
– Начальство здесь в двух лицах представлено – медицинский лейтенант и чуть живой сержант – не сегодня-завтра концы отдаст. Вот в таком разрезе, воины, насчет начальства. А насчет транспорта тут тоже полная ясность – уезжать надо на попутных. Во-он пылят машины.
Из палатки, прихрамывая, проковылял кривошеий сержант с высокими, до колен, обмотками, обернутыми не без форса, что отличает бывалых солдат, умеющих даже вшивой гимнастерке, если потребуется, придать такой вид, что хоть стой, хоть падай.
Сержант утвердился посреди дороги, решительно раскинул руки и втянул в плечи тощую шею, отчего сделался похожим на нахохленную музейную птицу.
Из тополей вынырнули три ЗИСа, в них разом громыхнули ящики.
– Чего тебе? – высунул запыленную, а может, и небритую личность шофер передней машины, почти ткнувшейся радиатором в грудь сержанта.
Объяснять ничего не пришлось. Из-под тополей высыпал раненый народ и, волоча тощие рюкзаки, мятые шинели, развязавшиеся бинты, полез в машины, непочтительно поминая бога, богородицу и всех, кто подвернется под руку.
– Да как же я вас повезу, братцы? – взмолился шофер. Но его никто не слушал. Легкораненые быстро оказались в машине и уже устраивались поудобней, расталкивая в кузовах ящик и пустые гильзы. Раненые потяжелей неловко карабкались в машины, цеплялись за борта, срывались. Сержант суетился, помогал бойцам забраться в кузов, кидал туда вещмешки, шинели, костыли. Солдат, писавший стихи, сначала кричал разные прибаутки, потом замолк, лицо его сделалось острым, злым. Он побежал к машинам, бодливо согнувшись в груди, принялся подсаживать людей, рассчитывая, видимо, прыгнуть в машину после всех. Но шофер переднего ЗИСа вдруг рванул с места. Раненые отскочили в стороны.
Опять побрели под тополя и стали укладываться – кто где. Сержант спрятался в палатку.
– Спектакль окончен, воины, – грустно сказал горбоносый солдат, которого, как потом выяснилось, звали Сашкой Лебедевым.
– Имя у тебя какое, малый? – неожиданно обратился он к Олегу. – Курева нет ли, часом? – без всякой надежды полюбопытствовал он после того, как Олег назвался.
Олег повернулся к Сашке левым боком:
– Доставай.
– Так чего же ты молчишь? – изумился Сашка. – Сидит с табаком и помалкивает! Одна цигарка три сухаря заменяет, – подмигнул он и, кажется, первый раз внимательно присмотрелся к Олегу. – Весь-то ты в кровище! – Сунул руку в карман Олега, достал слипшийся табак и вовсе удивился: – Даже в кармане кровь? Куда тебя?
– Не видишь? В плечо. – И Олег тоже, пожалуй, в первый раз после передовой, внимательно оглядел себя. Гимнастерка разделана в распашонку, в крови от ворота до подола. На брюках тоже насохла красная корка. Даже на ботинках сквозь пыль рыжели капли. Олег зажимал правой рукой рану, пока добирался до своей траншеи. Сгоряча он не чувствовал боли и не понимал, что к чему, а только плакал по-девчоночьи тонко и возил липким кулаком по залитому слезами лицу. Земляк-старшина, перевязывавший его, не мешал Олегу плакать, лишь хватал за руку и отводил ее: «Окровенишься весь, чучело!»
«Да-а, должно быть, видец у меня!» – конфузливо подумал Олег.
Солдаты, приехавшие с Олегом, разбрелись кто куда. Тая боль и стоны, Олег едва сидел у стола. Притупившаяся в пути боль опять закогтила плечо, и снова Олегу показалось, что кто-то раздувает уголь, спрятанный под бинтом, и печет от него всю грудь, пересыхает в горле. Рука ниже плеча залубенела, едва чувствовалась, силы нигде уже не было, и шея никак не держала голову, сламывалась. Хотелось пить, хотелось есть, но смутно, отдаленно хотелось. Вялость, беспомощность и беззащитность от боли притупили все в молоденьком солдате. Он качнулся на скамье. Сашка подхватил его.
– Кемаришь? – спросил он, протягивая Олегу окурок. – На, зобни.
От цигарки пахло жареным мясом. Олег сморщился:
– Не могу. Мутит – И, переваливая словно бы уже не свой язык в вязком рту, сиплым, перекаленным жарою голосом сказал, не открывая глаз: – Плевать я хотел на этот пункт, на машины. Я спать хочу, Лебедев, спать.
Сашка пощупал его лоб, сказал что-то издалека, побежал в палатку.
Олег поднялся и, шатаясь, побрел в сторону от дороги и все бормотал, сглатывая полубредовые слова. Последним проблеском сознания он ощутил впереди себя какие-то кусты и здоровой половиной тела упал, как ему показалось, в листву, провалился в нее – в горячую, темную, мягкую.
На самом же деле он уснул под дикой яблоней, почти на дороге, идущей к большаку из деревушки, чуть видной за полями, испорченными воронками и гусеницами танков.
Олег спал, как ходил после ранения, кособоко, словно перешибленный пополам, спал до тех пор, пока заполошно не загудел «виллис», едва не наехавший на него. В машине сидели полковник и лейтенант. Оба запыленные от пят до макушки, полковник к тому же еще и сердитый.
– Чего на дороге валяешься? – заорал он.
У Олега возникло желание огрызнуться, сказать что-нибудь вроде: «Нравится, вот и валяюсь», – но такая слабость была во всем теле, так болела голова, так было жалко самого себя, что он с трудом отполз с дороги, прижался к корявому стволу яблони и снова устало закрыл глаза, уронил голову на грудь.
– Постой, да ты вроде раненый?
– Разве заметно? – открыл глаза Олег и, чтобы не расплакаться, отвлечься, нащупал под деревом яблоко-падалицу, с луковичку величиной, откусил, покривился.
– Болит? – уже мирно спросил полковник, наклонившись над солдатиком.
– Яблоко кислое.
Перебарывая неловкость, полковник тоже поднял яблоко, вытер его о широкие галифе, куснул и тут же выплюнул.
– Фу! В самом деле глаз воротит. Ты вот что, вояка, грузись, и поедем. Тебе в госпиталь?
– Не мешало бы.
– Это в Ярославе? – обернулся полковник к лейтенанту.
– В Ярославе, товарищ полковник.
– Значит, по пути.
Олег, придерживая руку, залез в «виллис», пока полковник не передумал, уселся рядом с лейтенантом на заднем сиденье и боязливо прислонился толсто забинтованным плечом к холодной спинке.
– Сашку бы прихватить, – попросил он.
– Какого Сашку?
– Лебедева. Познакомились тут.
– Во друг! – громыхнул полковник. – Может, еще и бабушку твою прихватить? Посадили, так сиди. Сашка сам доберется куда надо.
– Сам так сам, – покорно согласился Олег. – Только не скоро он отсюда выкарабкается. – И, показав на расположившихся вдоль большака раненых, рассказал полковнику о том, как они добираются до госпиталей.
Полковник много километров крыл боевыми словами «тыловых крыс» и грозился, что он этого так не оставит и доберется до самого командующего фронтом и расскажет ему, как обращаются с ранеными на перепутье между передовой и госпиталями.
Олег подпрыгивал на заднем сиденье «виллиса», кусал губы, мычал, когда особенно сильно встряхивало, но закричать боялся, чтобы не обеспокоить полковника, Хороший попался полковник. Как выехали на асфальтированное шоссе, он перестал ругаться и предложил папиросу, настоящую, фабричную.
Олег отказался. Ему и без курева было тошно. А полковник подумал, что не курит солдатик по молодости, и похвалил его.
На ровном, спокойном шоссе обсушило встречным ветром испарину па лбу Олега, он перевел дух и решил воспользоваться благоприятным расположением полковника – намекнуть ему насчет еды, но так намекнуть, чтобы вышло непринужденно, чтобы с шуткой: мол, одна цигарка заменяет три сухаря или, наоборот, три сухаря заменяют цигарку. Пока Олег придумывал каламбур, пока краснел да набирался нахальства, они примчали к Ярославу. Олег обрадовался – не пришлось ничего клянчить – и так был благодарен полковнику, что не нашелся чего и сказать, а только слабо кивнул всем головою, когда шофер помог ему выбраться из машины.
В Ярославе порядки были другие: у въезда в город раненых встречал санитар с белым флажком и белой повязкой на рукаве. Если раненый был один, санитар объяснял ему, как найти распределительный пункт, если их было больше, сам сопровождал туда.
Олег Глазов очень быстро разыскал пункт, где распределяли раненых по госпиталям, и еще раз убедился, что ведомственные люди не любят называть вещи своими именами. То, что называлось пунктом, было на самом деле табором.
Территория гектаров в восемь, огороженная кое-где досками, кое-где проволокой и рамами разбитых машин. В загородь попали часть сада с нахохленным панским домом, часть огорода с только что выкопанной картошкой, два барака, построенные на скорую руку немцами, и несколько палаток, поставленных нашими медиками. За бараками дымило. В панском доме чадило. Кругом было густо людей и шума.
По всей территории, притоптанной до копытной твердости, лежал, сидел, стоял, кашлял, курил, балагурил, ругался, стонал, плакал и смеялся раненый народ. Посредине, на самом солнцепеке, буквою «П» стояло несколько столов. За каждым столом сидела военная девушка в халате, доведенная до полного изнеможения, и заполняла карточку, по-солдатски – подорожную.
Олег долго отыскивал в очереди последнего к одному из столов и нашел его за бараком, под крупнолистным деревом. Такие деревья Олег видел только в кино и, как они называются, не знал. В бараке была столовая. Под бараком подкоп. В яме шуровал лопатою солдат-кочегар. Он осаживал раненых, норовивших испечь картошку, и терпеливо разъяснял, что топит он котел углем, каменным углем, и картошка в момент сгорит, потому что ее, картошку, надо печь на дровах. Солдаты все равно приспосабливались. Они пекли картошку в горячем шлаке, недавно выброшенном из топки, и поносили тыловика-кочегара: побывал бы, дескать, «там», так сознавал бы…
Закопана в шлак своя доля и у «последнего». Он легко подстрелен, мог промыслить харч и оттого никуда не торопился и уже успел обжиться под деревом. Круглые листья на дереве были величиной с лопушные, почернели, скорчились с одной стороны и редко, печально опадали.
На вопрос Олега: «Когда же подойдет очередь?» – «последний» спокойно ответил:
– К завтрему, даст бог, подойдет. – Выкатив из золы пяток картошек, он чуть отодвинулся в сторонку, освободил местечко рядом с собой на листьях: – Устраивайся.
Подумал, подумал и бросил в колени Олега самую маленькую картофелину с обуглившейся бородавкой.
– Когда ел последний раз? – спросил он, отсыпая ему в ладонь крупной соли из чехла от зажигалки.
– Вчера, на передовой.
– Н-да-а… – перестал двигаться солдат и тут же встряхнулся, захлопотал: – Ну, ничего. Раненому не так уж еда и требуется, как здоровому. Червяка вот заморишь. Ты ее круче, картофель-то, соли, не жалей соли-то. – И вдруг вставил грустно: – Соли и слез в Расее всегда вдосталь. Н-да-а. Однако ничего, бланку заполнят, и ты с нею в столовую двинешь. Здесь не как в Жешуве. Порядок церковный.
Олег хотел сказать, что соли нынче тоже не хватает. В тылу ее рюмочками да стаканами продают на базаре, а вот насчет слез верно. Но зачем это говорить? Зачем без дела языком молоть?
– Ты тоже был в Жешуве? – только и сказал он.
– В Жешуве-то? В самом не был. А на подступах двое суток загорал. Мне что? Я – легкий, мне не торопно, Другим-то каково?
– Послушай, – перебил говорливого солдата Олег. – Ты не знаешь, приехал или нет Сашка Лебедев?
– Лебедев? Лебедев? – прижмурился солдат, вспоминая. – Куда раненный?
– В грудь.
– Ах, в грудь! Горбоносый такой? Приехал, приехал. Вместе и ехали. Четыре поляцких автобуса под нас лейтенант выхлопотал.
Олег доел картофелину, подобрал кожурки, солинки, покидал в рот, подождал добавки, но солдат больше его не замечал, бормотал что-то сам себе и бережно облупливал картошку, выгрызая из кожурок рассыпчатую мякоть.
Солдатик проглотил слюну, сказал, что пойдет поищет Сашку и чтобы солдат не забыл, что в очереди он, Олег, за ним.
Олег вовсе не надеялся найти Сашку в таком людском скопище. У него опять горячей чугуниной придавило плечо, щипало солью растрескавшиеся губы, и хотелось просто пошляться, постараться заглушить боль или отвлечься от нее, а может быть, где и на еду опять натакаться. Мало ли! О машине вон не думал, не мечтал, а она сама на него наехала. Картошку вот тоже – раз и съел. На войне из ничего берется чего. Убить могло? Могло – и не убило. Видать, в рубашке родился, иначе бы конец.
Олегу сегодня явно везло. Лишь только, кособочась, вышел он из-за барака и остановился оглядеться, думая о своей удачливости, сзади послышалось:
– Эй, малый, ты куда провалился? Автобусы пришли, я тебя искал, искал.
«Точно, в рубашке!» – окончательно решил Олег, но виду не подал.
– Что мне автобусы! – небрежно сказал он и похвастался: – Я на иностранной машине прикатил в обнимку с полковником!
– Эка невидаль! Кабы с полковничихой! С полковником-то и я езживал. Как рана?
– Болит, но терпимо…
– Терпимо? И у меня тоже. Слушай-ка, боец Глазов, а ведь ты мне нужен, – сказал Сашка, цепко, оценивающе оглядывая Олега, будто видел его впервые. – Жрать хочешь?
– Спрашиваешь!
– Спать?
– Спрашиваешь!
– Тогда не задавай больше вопросов и действуй, как скажу.
…К столу, за которым сидела девушка с невыспавшимися серенькими глазами, почти автоматически тыкающая пером в чернилку, в бумагу, в чернилку, в бумагу, – к столу этому продвигались двое раненых. Один из них, с двумя орденами Славы, тремя медалями и гвардейским значком, вел в обнимку молоденького солдатика без медалей. Был тот в сохлой кровище с ног до головы, в разорванной гимнастерке. На плече толсто напутаны бинты. Глаза захлопнуты густыми, девчоночьими ресницами, губа закушена. Тот, что с орденами, скорбно-озабоченным голосом просил:
– Минуточку, товарищи, одну минуточку, Прошу прощенья, – и, не слишком торопясь, но и не особенно задерживаясь, продвигался к столу по неохотно раздвигающемуся коридору. Девушка с усталыми глазами, завидев этих раненых, без разговора взяла два бланка.
– Фамилия?
– Моя Лебедев, а его, – кивнул он на Олега, – Глазов. Извините, что я за двоих. Растрясло его в дороге.
Девушка быстро заполнила подорожные и крикнула вправо, через плечо тонким властным голосом:
– Этих в первую очередь в санпропускник!
Но Лебедева и Глазова как-то заносило и заносило в сторону от санпропускника и занесло к столовой.
Увидев, что на крыльцо столовой они не ползут, а идут, и довольно проворно, один из раненых восхищенно прошептал:
– Ловкачи-и!
На каждого человека в столовой был приготовлен стакан какао и порция белого хлеба с тонким брусочке масла. Сашка размял масло пальцем по куску, помог то же самое сделать Олегу. У того совсем отяжелела и не шевелилась левая рука. А с одной рукой Олег еще не приспособился жить.
В один прихват, без всяких слов они проглотили еду. Сашка облизнулся, ковырнул ногтем в зубе, глядя при этом заинтересованно на соседний стол.
– Пикирнем?
Съели по второй порции. Сашка уже не ковырял в зубе, а просто всеми ногтями прошелся по зубам, как по клавишам. Получилось у него что-то похожее на веселый марш.
– Пикирнем?
Они побывали еще за двумя столами и почувствовал, что наконец-то их проняло. Сашка больше не играл на зубах, а уютно зевнул:
– Попили, поели, табачку б теперь найти!
Он захватил еще одно место и, немного порядившись с одним молоденьким сержантом, уступил его за две щепотки махорки.
– Тут жить можно! – заключил Сашка и по-домашнему развалился за столом, припрятав дымящуюся цигарку в рукав.
– Товарищ боец, покушали, и ступайте в санпропускник, дайте возможность другим покушать, – сделал Сашке вежливое замечание дежурный по столовой, тощий-тощий ефрейтор с почти фиолетовыми губами. Можно было подумать, что он me в столовой работает, а в протезной мастерской.
– Покушали! – недовольно фыркнул на ефрейтора Сашка. – Кормили бы тебя дети так под старость лет.
– А что я могу сделать? – виновато развел ефрейтор руками. – Норма есть норма…
Сашка хотел еще покуражиться над ефрейтором, но Олег вытеснил его из столовой.
Санпропускник размещался в старом панском доме с мезонином и пристройкой для оранжереи. Весь он был увит плющом. Вокруг дома ползла, тянулась вверх, змеилась, переплеталась, дурманила, воняла, исходила диковинными ароматами невиданная растительность. Многие деревья тут, не соглашаясь с осенью, вызывающе зеленели, а иные кусты даже цвели.
Видимо, любил пан-хозяин природу, но это не помешало ему сбежать с немцами, кинуть все эти райские кущи на произвол судьбы. Солдаты хмуро и отчужденно колготились в саду, устраиваясь отдохнуть. Больше всего народу лежало вдоль живой стены, которую образовали кусты с брусничным листом. Кусты давно не подстригали, они повыкидывали вверх и в стороны стрелки, да и оробели – кустам этим никогда не позволяли так вольничать, не давали расти, как им хотелось.
Под крыльцом и под верандою тоже лежали солдаты. Все уже давно перегорели, отругались, отшумели, поняли, что порядок есть порядок и горлом тут не возьмешь. Смиренно ждали очереди и оживлялись, когда выходил на высокое крыльцо распаренный старший сержант с подорожными в руках. Он вызывал в пропускник очередной десяток. Все тогда кричали друг на друга: «Тише! Тише! Товарищ старший сержант выкрикивать будут!» И если не откликался какой-нибудь солдат-дрыхало, дружно помогали старшему сержанту.
Вот в сто глоток закричали: «Сиптымбаев! Сиптымбаев! Где ты, азият проклятый?» – и готовы были растерзать Сиптымбаева за задержку, потому что всем хотелось быстрее в госпиталь, а без санобработки туда не пустят.
Сиптымбаев оказался почти мальчишкой, кривоногим, щелеглазым, по-русски мало разумеющим и совсем оглохшим от жара. Ему помогали подняться на крыльцо, а он не понимал, куда его ведут, что от него требуют, упирался, шевелил запекшимися губами:
– Бумашка! Кидэ мой бумашка? Дохтору нада…
Должно быть, крепко внушили Сиптымбаеву насчет бумажки и понимал он, что без нее ничего не значит.
Сашка где-то сорвал красную розу, нюхал ее и становился все сумрачней и смурней. Когда слабо сопротивляющегося Сиптымбаева уволокли в санпропускник, Сашка сердито забросил розу в кусты и выругался. Олег поморщился. Не любил он похабщины, не приучен к ней. Отец грузчиком был, но Боже упаси при сыне облаяться. И на войне Олег сопротивлялся, как мог, этой дикости, которой, подвержены были даже большие командиры и вроде бы иной раз щеголяли ею.
– Не нравится? – точно угадал настроение солдатика Сашка.
– Чего ж хорошего? Поможет, что ли?
– А вдруг поможет? Вдруг легче станет?
– Сомневаюсь.
– Сомневаешься? – Сашка сжал тонкие губы, и в углах его рта зазмеилась усмешка. – Юный пионер, к труду и обороне будь готов!
– Всегда готов! – стараясь удержаться на шутливом тоне, ответил Олег. – Ты чего пузыришься-то?
– Запузыришься тут.
Голос Сашки уже совсем стал спокойным, даже чуть грустным, усмешка с губ исчезла. Он подгреб под себя кем-то наломанные ветки каштана, морщась от боли, улегся, подобрал приплюснутый блестящий каштан, подкинул его, как монету, поймал.
– Такая аппетитная с виду штука, а сожрать нельзя, – с сожалением проговорил Сашка и скосил глаза на Олега – спит или нет?
Олег думал о чем-то, прикрыв глаза пушистыми ресницами. Лицо Олега было в сохлой крови под носом, у глаз, в ушах. Хорошо, что он не видел своего лица.
– Пайку я свистнул, Олик, за то и мантулил в трудовой колонии.
В санпропускнике кто-то выл, ругался, брякали тазы. По другую сторону каштана, привалившись спиной к стволу, солдат, тот самый, что угощал Олега картошкой, мусолил карандаш, нашептывая: «Ранило меня другорядь и опять в мяготь, слава богу…»
Сашка разомкнул ресницы. Олег все так же неподвижно сидел против него, навалившись здоровым плечом на зеленую оградку. Он слушал письмо солдата, сумевшего-таки пройти регистрацию без очереди и снова по-домашнему расположившегося под деревом, но уже под другим. «Видно, везде дом бывалому человеку», – уважительно подумал Олег.
«И чего я к этой святой душе привязался? И чего меня все тянет к этим юным пионерам?» – думал в это время Сашка, глядя на Олега.
«…Береги ребятишек, – тоскливо выдыхал за деревом солдат, – терпи, я вернусь уж живой, пока в госпитале да че – и войне конец».
– И чего это я в тебя такой влюбленный? – тихо произнес Сашка и быстро закрыл глаза.
– Что? – встрепенулся Олег.
– Да ничего, – притворно зевнул Сашка. – Спектакль я один вспомнил, комедию. Когда в детдоме был, Яшку-артиллериста в ней представлял.
– Ты и в детдоме был?
– Спроси, где я не был!.. – Сашка обернулся, тряхнул солдата за стволом каштана: – Эй, друг, передавай от нас привет своей Марье.
– Матрена у меня, – сумрачно поправил солдат Сашку. – Закурить надо, что ли?
Сашка за догадливость назвал солдата молодцом, принимая от него кисет. Не жалея чужого самосада, завинтил из газеты вместительную «козью ножку» и протянул кисет Олегу. Тот опять замотал головой. «Да, видать, худо малому, раз от табаку совсем отбило».
– Может, еще сманеврируем? – предложил он Олегу.
– Заметили. Не выйдет, – глухо отозвался Олег, облизывая сухие губы. – Рассказывай лучше о своей жизни, если не в тягость.
– В тягость не в тягость, а развлекаться чем-то надо, – сказал Сашка и ровным, даже чуть тягучим голосом, будто совсем о другом человеке, поведал о себе.
В двенадцать лет осиротел Сашка. Сначала забрали отца, потом мать. Была она женщина крутого характера, ринулась отбивать мужа, что-то сказала там, говорят, следователю в морду плюнула.
– А я подзаборником сделался, уркой. И прибрали меня в детдом. Хорошо там было – ни заботы, ни печали… А после – самостоятельная жизнь. Долго рассказывать…
– Э, друзья, – не поворачивая головы, вмешался в разговор солдат, дописавший письмо.
Сашка оглядел солдата. Был он ранен ниже колена, прибран, даже побрит, и погоны были на месте, и все пуговицы тоже. Добрые, глубокие морщины лучились возле его глаз, и задумчивая складка навечно поселилась между бровей.
Они разговорились.
– Ox-xo-xo! – вздохнул солдат, спросил у Сашки: – В штрафной спасся?
– Ага. Мы всей колонией в Москву писали. Разрешили нам вину искупить кровью. Радости было!..
– А как же! – задумчиво вставил солдат. – Там за счастье люди почитают фронт-то… Хоть в штрафную, хоть в какую…
Из-за кустов вывернулся младший сержант с забинтованной шеей, приткнулся цигаркой к Сашкиной «козьей ножке», с трудом прикурил, потому что его било трясухой – контузией. Он ушел, оставляя за собой синенький вкусный дымок от легкого табака.
Сашка проводил его грустным взглядом, запустил увесистым, как камень, каштаном в воробья, мерно чирикавшего на ветке.
– И скоро ли этот сержант-подлюга в предбанник выйдет? Олик, ты еще живой? – крикнул Сашка.
– Живой, – с тяжелым вздохом откликнулся Олег, убирая с лица пилотку. – Тебе награды за штрафную дали?
– Ну что ты, парень! В штрафной дают только прощенье, живым и мертвым. Да-а, лежат ребятишки где-то под селом Вишневцы. Как они шли, как шли!.. – с закрытыми глазами вспоминал Сашка. – Я такой атаки уж после не видел. – Сашка побледнел еще больше и с минуту молчал, нервно пересыпая в ладонях каштаны. – Все обиды ребятишки забыли, когда фраера чужие нашу землю лапать пришли. Все откинули. Скиксовали несколько урок. Пришили их.
Неожиданно через зеленую изгородь перелетел вещмешок, а за ним с шумом перевалился солдат с подвешенной на бинты рукой. Руку он зашиб, выругался мимоходом и, взяв вещмешок за один угол рукой, а за другой зубами, вытряхнул на дорожку яблоки.
– Навались, герои! – пригласил он великодушно, и яблоки вмиг исчезли.
Сашка успел добыть несколько штук и кинул одно яблоко Олегу, одно – солдату с вещмешком, потому что ему не догадались оставить, уступил ему место рядом с собой, с хрустом откусил яблоко и повел рассказ дальше:
– Вернулось нас из разведки боем от села Вишневцы сорок с чем-то человек, – Сашка кинул огрызок яблока в ботинок спящего под крыльцом солдата. Попал в самый каблук и удовлетворенно утер губы. – Вот так, боец Глазов, считаю, повезло мне. И что этот старший сержант в прожарку провалился, гад? – опять взъелся Сашка. – Сходить в разведку?
– А может, к паненке завернем? – предложил солдат, что притащил яблоки. – Паненка тут, ребята, ух паненка! Так и жгет, стерьва, как стручковый перец! И самогонка у ей…
Сашка заколебался: