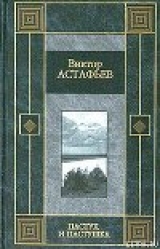
Текст книги "Звездопад"
Автор книги: Виктор Астафьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Когда оставался один час, я выходил в раздевалку и околачивался там.
Парадная дверь была широкая, со стеклами, и я замечал Лиду еще во дворе. Она чаще всего являлась со старым портфелем, у которого оторвался один железный уголок. Лида училась в медицинском институте и в госпиталь на работу приходила прямо с занятий.
На Лиде было узенькое в талии пальтишко, а вокруг шеи лежала рыженькая лиса с обхлестанным хвостом. И еще на ней был беретик, освеженный акрихином. Ей очень шло желтое.
Ей все шло. Девчонки, работавшие в госпитале, да и все мы считали, что Лада шикарно одевается и имеет дополна всякой одежды. И как я удивился, когда узнал впоследствии, что у нее было всего лишь два платьишка да кофточка, та самая, со шнурочком.
Полюбовавшись Лидой издали, я задавал стрекача по коридору. Потом точно рассчитывал время, потребное на то, чтобы раздеться человеку, и не спеша, вразвалку, с видом необремененного никакими заботами парня шел насвистывая. На повороте я «неожиданно» сталкивался с Лидой и удивленно приветствовал ее:
– О-о Лида! Мое почтенье! Как ваше ничего поживает?
– Здравствуй, Миша! Ничего мое поживает ничего, – и улыбалась усталой и доброй улыбкой.
Один передний зуб у нее чуть сломлен наискось, и меня он особенно умилял. Но я не показывал виду, что меня умиляет зуб, и безразличным тоном говорил:
– Заходи в гости, когда захочется.
– Хорошо, зайду, если будет время.
Но времени у нее часто не оказывалось, и тогда я ждал ее еще сутки.
Лишь иногда после вечернего обхода и после окончания процедур у Лиды выдавался свободный час-другой, и она приходила за печку слушать сказки. Я никогда не умел рассказывать сказки. А тут приохотился и, видно, рассказывал подходяще, потому что Лида и солдаты слушали их с большим вниманием.
Вскоре все сказки, какие я знал, кончились, и я стал их придумывать. Наверное, это были чудные сказки, потому что я собирал в кучу и прочитанное из книг, и виденное в кино, и разные были и небылицы. Но за то, что эти сказки имели в общем-то схожее содержание, можно ручаться.
Подобных историй, оторванных, как принято сейчас выражаться, от действительности, я наслышался в детдоме от бывших беспризорников. Но я их переделывал на свой лад: Вместо душегубаблатяги у меня преимущественно действовал благородный воинхрабрец, а вместо купеческой дочери – фронтовая сестра, называемая то принцессой, то царицей. Оба они были красавцы, и оба из сражений выходили целы и невредимы, а дальше шло, как во всякой доброй сказке: женились, оправляли свадьбу. Я там был, мед лил и так далее.
Чудные это были сказки! И Лида, очевидно, догадывалась, что я выдумываю их, но она не прерывала меня и хорошо слушала. Она ведь знала, что я стараюсь для нее и что солдаты, которые слушают вместе с нею мои сказки и хвалят меня за них, вовсе тут ни при чем.
В госпитале возбуждение, суета и сумятица – идет подготовка к Новому году. Должны приехать наши шефы со швейной фабрики и студенческий ансамбль медицинского института – давать концерт. Студентов мобилизовали Агния Васильевна, читающая какой-то предмет на каком-то курсе института, и ее любимая студентка и помощница Лида. А швейников завербовал Шестопалов, давно проникший в сердца разлученных с мужьями модисток, шьющих, чинящих белье нашему и: другим госпиталям.
Праздник разбит на два этапа: сперва студенты концерт дадут, а назавтра швейники прибудут и чего-то принесут – намекал Шестопалов.
В коридоре стук, бряк, волнение. Больше всех суетится культурница Ира, и голос ее слышен везде и всюду:
– Молоток? Кто взял молоток? Вы же порвете панно! Панно, говорю, порвете! Не знаете, что это такое? Нет, товарищи, это невозможно! Я н-не выдержу, н-не выдержу! Я сама попаду в палату контуженых!..
Рояль в коридор выкатили. Все кому не лень бренчат на нем. Ирочка отгоняет от инструмента ранбольных и раскудлаченная, потная летает по коридору, вроде бы не касаясь пола, всюду и везде дает указания и уверяет руководство и себя, что она-таки не выдержит, таки угодит к психам.
Между прочим, тот самый псих, что рассказывал про богиню Коринфскую и про то, как целуются носами (умора, ей-богу!), смущенно, дергая себя за бородку, предупредил Ирочку насчет палаты контуженых: вы, мол, знаете, как на них музыка дурно влияет.
– Знаю, знаю! – оборвала его Ирочка. – Сейчас, между прочим, у всех нервы! И у меня нервы! Распустились, понимаешь!..
Старичок сконфузился, теребнул еще раз себя за бородку и тихо удалился в девятую палату.
И вот наступил долгожданный день! Лежачих вынесли на носилках, навыкатывали на тележках, и пошла музыка.
Один парень из медицинского института жарил на барабане, другой дул в трубу, третий – в саксофон, а длинноволосый студент в латаных штанах юлил смычком по скрипке. Девчата пели всякие песни про любовь и про войну.
Студенты не только играли и пели, они еще и сценки потешные разыгрывали. Одна сценка уж больно смешная получилась. Из санпропускника явился на костылях одетый в драный немецкий мундир и в дырявую каску «фриц» с нарисованными углем усами. Студент в латаной на рукавах вельветке, но при галстуке, который вел концерт и называл себя в нос «конфэрансьэ», глянув на «фрица», пожал плечами и спросил у всех нас:
– А это, простите, что за фигура? – И повернулся к «фрицу»: Мы, любезный, кажется, вас сюда не звали?
Хохот прокатился по коридору и разом замер – все предвкушали, какая потеха дальше пойдет, если уж сейчас смех удержать невозможно.
– С под Сталинграда пробираюсь! – жалостно заныл «фриц». Щоб об любимого фюрера эти костыли обломать!..
Ну, тут уж все грохнули так, что в лампах свет подпрыгнул, и заговорили:
– Во дает!
– А нога-то, нога-то?! Крива!
– Дойдешь ли до Берлина-то?
– Вы поглядите, как он поумнел после Сталинграда! – усмехнулся конферансье.
– Умнель! Умнель! – согласился «фриц» и чего-то еще хотел оказать, но все представление чуть было не испортил старшина Гусаков. Он последнее время возжается с Шестопаловым, и вот, видать, они опорожнили на двоих грелочку с микстурой, и оттого перепутал старшина искусство с жизнью и загремел, приподнявшись на тележке:
– Поумнел?! Об чем ты раньше думал, живоглот? Где твоя башка была? Объясни народу!..
– Говори, стерьва, не то мы тебе!.. – поддержал старшину Шестопалов, и другие ранбольные тоже грозно загоношились.
Едва угомонили публику. «Фрицу» даже каску пришлось снимать и доказывать, что он самый настоящий русский парень из медицинского института и никакой не враг, а шеф и что все это было лишь искусство, направленное против фашизма. Однако номер с «фрицем» дальше продолжать студенты не решились, хотя там еще были сати рические куплеты и танцы на костылях, завершающиеся пинком «фрицу» под зад. Во всех других местах этот номер имел потрясающий успех, а здесь не прошел, здесь ведь не простой госпиталь, а нервно-патологический, о чем забыли медики и руководство забыло.
И, надо сказать, напрасно забыло оно об этом!
В коридоре был полумрак, потому что горело возле артистов всего несколько привезенных ими же свечей да несколько лампешек на стенах. В дальнем конце коридора, занавешенная красным одеялом, виднелась дверь девятой палаты. За нею шла жизнь, а какая – никто пока не знал.
Концерт после небольшой заминки продолжался и вошел в свое русло. Ребята уже исполнили один номер, другой. Уже спела белокурая девушка неугасимый в то время «Огонек», а Лида все не появлялась. «Неужели не придет?» – расстроенно думал я.
Никакой договоренности насчет концерта у нас не было, но я все же захватил для нее место и упорно оборонял его от наседающей солдатни. На моем же ряду сидел тот офицер с усиками и тоже нетнет да и озирался по сторонам. Я не озирался, но все равно почувствовал, когда появилась Лида. Офицер сразу вскочил и предложил ей свое место. А я только метнул взгляд в их сторону и отвернулся.
– Сидите, сидите, – тихо сказала Ляда офицеру и уважительно, как бы оправдываясь, добавила: – Чего же вам стоять, когда есть свободное место.
Она, очевидно, по моему взгляду или еще по чему догадалась, что, если не сядет рядом со мной, я уйду и чего-нибудь натворю: окно разобью, лампу, а может, и зареву. И она села рядом со мной и сразу уставилась на оркестр с полным вниманием.
Я тоже напряженно слушал оркестр и, не отрываясь, смотрел на него.
Народ захлопал, зашевелился, и я тоже с запозданием начал хлопать. Кто-то втиснулся еще на наш ряд, и меня прижали к Лиде. Я испуганно отодвигался, теснил и наваливался на моего бывшего соседа в операционной палате, а теперь вот и по скамейке соседа. Везет мне!
– Шо я тоби, забор? А? Дэрэвьяный, га? – не выдержал он.
– Оловянный! – рыкнул я.
«Дэрэвьяный» удивленно уставился на меня, моргнул раз-другой и не стал больше ничего говорить.
В это время конферансье, рассказывавший ехидные штуки про Гитлера и его клику, объявил в нос, как настоящий столичный конферансье:
– Л-любимая песня фронтовиков – «Дочурка»! К роялю подошла, улыбающаяся девушка, поклонилась нам и запела:
Злится вьюга всю ночь, не смолкая,
Замело все дороги-пути.
Ты в кроватке лежишь, дорогая,
Нежно Мишку прижавши к груди…
Пела девушка о маленькой дочурке, которую в полуночный час, в час короткого роздыха между боями вспоминал в окопе отец. И то, что от имени отца-фронтовика пела об этом девушка, женщина, почему-то особенно тревожило и скребло сердце.
Одеяло на двери девятой палаты шевельнулось, и из-под него возник Иван, тот самый, что просил меня прекратить «м-музыку». Иван прислонялся спиной у дверному косяку и стал слушать. Я с тревогой следил за ним и почувствовал, как обеспокоенно шевельнулась и напряглась оцепенело Лида. Рот Ивана начал подрагивать и кривиться. Казалось, какая-то жилка на его лице сделалась короче и оттягивала губы вбок. Иван с таким усилием выпрямлял губы, что пальцы его сжимались в беспокойные костлявые кулаки. Блик от свечи падал на лицо Ивана, и я увидел, каяк по степенно разгораются и дичают его тоскливые глаза.
Это же заметили и санитарки, которым ведено было бдить и, в случае чего, принимать решительные меры. Они белыми тенями возникли подле контуженого и принялись осторожно и молча оттирать его от косяка в палату. Иван тоже молча и настойчиво отбивался от санитарок. Он смотрел в одну точку – на свечу, рот его подергивался, будто он судорожно сглатывал музыку.
И вдруг Иван издал клокочущий, гортанный вопль:
– H-н-e ца-ца-пай-те! – И тут же высоко, как резинового, подбросила его страшенная сила, и он упал, сраженный припадком, ножницами раскинув ноги.
Музыка оборвалась. И теперь особенно явственно слышалось, как часто и тупо стучит затылок контуженого о деревянные половицы. На крики Ивана выскочили из палаты еще несколько контуженых, и началось…
Свечи погасли. Коридор провалился в темноту. Раненые бросились бежать. Крик, стон, вой…
– А-а-а-а-а!
– Бомбят, что ли?!
– Уби-и-или-и-и-и! Ой, убили-и-и-и!
– Товарищи, товарищи!
– Больные, спокойно! Голубчики, спокойно! – взывала во тьме Агния Васильевна. Но ее никто не слышал и не слушал.
Няни старались поскорее растолкать по палатам тележки, унести носилки.
– Кончай панику, в господа бога! – перекрывая весь грохот, заорал старшина Гусаков и тут же опрокинулся с тележки, громко рухнув на пол, хрустнули на нем гипсы, голос оборвался.
Видимо, опыт разведчика подсказал мне, как надо действовать в этой обстановке. Я схватил Лиду, прижал к стене, загородил собой и кричал ей:
– Стой! Изувечат; Стой, говорю! Она порывалась бежать.
– Да стой же ты!..
Кто-то ударил меня, а потом рванул за раненую руку так, что в глазах закружился огонь. Я охнул. Оседать начал.
– Миша, что с тобой?! – подхватила меня Лида и в ужасе истерически крикнула: – Свет! Зажгите свет! Ой, да что же это такое?
Появился свет. Санитарки и солдаты из выздоравливающих навалились на Ивана, связали его полотенцем. Контуженый все еще вздрагивал на руках санитарок и со всхлипами брызгал слюной и пеной. Гладя по мосластым спинам и по стриженым головам других контуженых, наговаривая им что-то умиротворяющее, байкающее, сани тарки повели их в девятую палату. Туда же пробежала дежурная сестра со шприцем наготове и со стаканом воды, Двоих солдат и старшину Русакова, валявшихся на полу, тут же унесли на перевязку. Несколько человек, люто ругаясь и охая, пошли в перевязочную сами.
А я, когда близко мелькнула лампа, увидел кровь на щеке Лиды и рванулся к ней:
– Кровь?!
– Какая кровь? – изумилась Лида и вдруг схватила меня за руку. – Это твоя! Это твоя… Я слышала, как потекло по щеке. – И сильно потащила меня: – Скорей на перевязку, скорей…
Мы очутились в перевязочной. Там толпился бледный народ. Кто похохатывал, кто требовал скорее остановить кровь, некоторые все еще рыдали, ругались, а иные лишь слабо стонали. Русакова оживили нашатырным спиртом.
– Все это сикуха-культурница! Предупреждали же ее контуженные об музыке, предупреждали! – ругался старшина и голос его успокаивающе действовал на раненых, на меня в особенности.
Я потихоньку выбрался из перевязочной и пошел искать Рюрика. Он оказался цел и невредим, помогал сестрам. Помогали и студентымедики, Коля-азербайджанец, парень, который изображал фрица, даже усики не успел стереть. Я тоже стал помогать. Но тут послышалось:
«Миша-а! Мишка! Вы не видели Мишу?» – Я еще и подумать не успел, что это обо мне, – мало ли Мишек на свете, как налетела не меня петухом Лида:
– Герой какой нашелся! Без перевязки ушел…
– Не шуми ты, Лидка, ничего мне не сделается.
– Да, не сделается, – сказала она, и губа у нее задрыгала. Вон кровь-то лье-oт! Иди, говорю, на перевязку, несчастный, а то я тебе не знаю что сделаю!
И я пошел на перевязку.
Ирочку с работы выгнали. Раненых привели в порядок. Все прибрали, наладили. Вот только шефы наши пострадали – остались без инструментов. В суматохе погнули трубу, на барабан кто-то наступил или упал и покорежил его. Студенты, по слухам, прирабатывали на хлеб музыкой этой. Остались без приработка жаль. Неловко получилось. Нехорошо. Я всегда презрительно относился к этой Ирочке. Оказывается, не зря.
Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. После этой «битвы» отношения между мной и Лидой сделались такими, что мы вовсе перестали избегать друг друга и таиться.
Если по какой-либо причине я не выходил ее встречать, она сама появлялась в нашей палате хоть на минутку. Солдаты к этому уже привыкли и даже насмехаться надо мной перестали. Мало того, нас всячески оберегали, и до меня дошел слух, что всем надоевший грубиян и выпивоха старшина Гусаков отчитал офицера с усиками за то, что он сказал какую-то поганость о нас с Лидой и в заключение даже будто бы кулачище под усики младшему лейтенанту поднес. Ну, это уж придумали, пожалуй. У нас тут присочинить есть такие мастера, что закачаешься.
Конечно, если бы услышал какую гадость я сам, то просто дал бы плюху младшему лейтенанту и все. А за это меня выдворили бы из госпиталя, а может быть, в штрафную роту отослали бы. Бить офицера солдату не полагается даже в госпитале.
Катится время, бежит. Весна скоро. Шестопалова, старшего сержанта, моего соседа – «дэрэвьяного», Колю-азербайджанца и еще много кого уже выписали из госпиталя и направили на пересыльный пункт.
Рюрика тоже комиссовали домой – у него на легком не зарастает дырка. Он получил новое обмундирование и ждал какую-то окончательную бумагу. Завтра я провожу его на поезд. Мне разрешили. А сегодня он меня спросил:
– Ты хоть знаешь, где живет Лидка-то?
– На улице Пушкина, дом с поломанным крыльцом и с флюгером на крыше.
– Ну, раз с флюгером, значит, найдешь, – заключил Рюрик и бросил на мою подушку сверток с обмундированием.
Я прикрутил к гимнастерке свои награды, стараясь попадать в просверленные Рюриком дырки, надел тесные сапоги и предстал перед народом весь окованный, стесненный новым обмундированием.
– Ну как, ничего, братцы?
– Какой там ничего?! Гвардеец! Чистых кровей гвардеец!
– Нет, правда, братцы?
– Не верит! Да сегодня девки по Краснодару снопами валяться будут!
– Слухай, тэбе до артыстки трэба!
– На хрена сдалась ему артистка! Какой прок от нее! Он любую буфетчицу в таком параде зафалует!..
– Да ну вас! – совсем уж обалдевший от конфуза и счастья, махнул я рукой и подался из палаты. А вслед неслось:
– Ты там про природу долго не разговаривай! Небо, мол, видишь? Землю, мол, видишь? Ну и все…
– Выпей для храбрости!..
Эти научат! Опытный сплошь народ, особенно на языке.
А все же кой-чему и обучили… Пользуясь советами «опытных» бойцов, я благополучно миновал все госпитальные заслоны, а также вахтера с будкой и направился на улицу Пушкина, которой вскорости и достиг. Также без особенных помех и затруднений нашел дом с флюгером – и тут чего куда девалось: оробел, топтался возле поломанного крыльца. А потом сел, потому что ноги, отвыкшие от обуви, жало невыносимо.
Я долго сидел на крыльце, слушал, как скрипит ржавый флюгер на крыше и сыплются крошки льда с ветвей, и до того досидел, что замерз, и сунул руки в рукава стеганого бушлата. Из дому вышла женщина с кошелкой в руке, глянула на меня большими, все еще яркими глазами, и я понял, что это мать Лиды.
– Вы чего-то потеряли молодой человек?
– Червонец!
– Где потеряли-то?
– Там, – кивнул я подбородком за ворота, потому что руки не хотелось вытаскивать из рукавов; мне все как-то сделалось нипочем.
– А ищете червонец здесь оттого, что светлее? Я этот анекдот знаю.
Разговор иссяк, все смешное кончилось. Надо было уходить «домой» в тепло, а я как прирос к этому крыльцу с проломленной ступенькой.
– И долго вы намерены сидеть здесь, молодой человек?
– Не знаю, – ответил я, впадая в уныние. – Еще посижу маленько, и тогда ясно станет.
– Что ясно-то?
– Все станет ясно.
– Э-э, дорогой солдатик, да ты вовсе закоченел! – нахмурилась женщина. – А ну марш в дом! Лидия спит. Разбуди ее. Я скоро вернусь из магазина. – И она ушла.
Дверь в сенцы осталась открытой. Я тщательно вытер сапоги, вежливо постучал в дверь и тихо вошел в дом. Снял бушлат, повесил. Звякнули медали. Я придержал их рукой и огляделся. Старый диван с зеркалом, бархатная с проплешинами накидка на туалетном столике, шифоньерчик с точеными ножками, картина, писанная маслом, в потускневшей раме. На картине арбуз и две груши – скудновато для такой рамы.
Отец Лиды был, видимо, начальником, и они жили в довоенное время хорошо. Но куда делся отец, Лида не рассказывала, а спрашивать было неловко. Из города они не успели выехать и во время оккупации проели с матерью все вещи, какие только можно было проесть. Проели и половину дома – это уже после оккупации. И зуб Лида поломала при немцах. Во время обстрела забилась она под стол, и не то со страха, не то еще от чего щелкала семечки, и под разрывами не заметила, как вместе с семечками попала в рот галька. Словом, понесла урон от войны.
Ох, и дуреха же! Право, дуреха! Спит и не знает, что я пришел при всех регалиях и в обмундировании. Она привыкла видеть меня в одеяльной юбке или в байковом халате, протертом на локтях. Не узнает небось.
Я придвинулся к дивану и опасливо глянул в зеркало. Ничего парень. Лицо, правда, осколком повредило, но это ничего, это за свидетельство геройства сойдет. Какое-то выражение на лице у меня незнакомое, осветилось вроде бы чем-то лицо. Недаром как-то в перевязочной, куда я пришел после ванны на перевязку, Агния Васильевна, эта до жуткости строгая Огния, сняв пенсне и близоруко щурясь, будто на бог весть какого «прынца» поглядела на меня и закудахтала так, будто золотое яичко снесла:
– Лидочка! Лидочка! Ты посмотри, какой у нас Миша-то стал!
Тогда я страшно смутился и удрал из перевязочной. Но я всетаки знал, что стал красивей и лучше. И мне было хорошо оттого, что я стал лучше, и на душе у меня праздник. А в праздник люди всегда выглядят красивыми.
Я пригладил заметно отросший, чуть волнистый чуб и кашлянул. Никакого ответа. Тогда я осторожно отодвинул занавеску на двери, ведущей в другую комнату, и увидел Лиду.
Она спала.
Я поставил стул и сел подле кровати. Сидел, смотрел, как ровно и глубоко дышит Лида, как легко пошевеливается одеяло на ее груди и как бесшабашно раскинулись ее волосы по пухлой подушке. Я привык видеть Лиду в белой косынке и не знал, что у нее такие пенистые волосы. Что-то истаивало у меня в груди. Я не удержался и дотронулся до волос Лиды. Они были действительно мягкие, невесомые, как пена. Лида шевельнулась и открыла глаза. Секунду она ошеломленно смотрела на меня, затем поддернула одеяло до подбородка.
– Ой, Миша! – Она какое-то время таращила на меня глаза, потом, как слепая, дотронулась до меня, провела рукой по волосам, по лицу, побрякала медалями, икнула и засмеялась: – Ой, и правда Миша!
Лида схватила меня за чуб и принялась теребить его так, будто этo не мой чуб, а грива лошадиная. Она терзала мой чуб, а я терпел и улыбался. Она пригнула мою голову к себе, притиснула к груди и заливалась все громче и громче:
– Мишка! Пришел! Сам! Один! Нашел!.. – И все икала и смеялась. Вот уж воистину, как у ребенка: то икота, то хохота! Ой, Мишка, и ты сидел возле меня? Я никогда-никогда этого не забуду, Миша! – Она укусила губу, отвернулась и опять икнула. По щеке ее покатилась слеза, круглая-круглая, и беспомощнаябеспомощная такая Лида была.
– Ты что? Ты что это?
– Ты знаешь, Миша, такая жизнь кругом: раны, кровь, смерти и вот такое… Даже не верится. Все еще кажется, что я сплю, и просыпаться не хочется. – Икота, слава богу, пропала, но смех тоже пропал. А как хорошо смеялась Лида, и зуб поломанный во рту ее мелькал веселой дыркой.
– Ты какая-то сегодня…
– Какая? – спросила она и по-ребячьи, локтем утерла лицо.
– Нервная, что ли?
– Ну уж и сказанул, – улыбнулась она сквозь слезы, которые дрожали на ресницах. – Мне ведь одеться надо, Миша. Отвернись.
Оба мы тут же смутились и стали глядеть в разные стороны. Но глаза наши сами собой встретились.
В упор глядели мы один на другого. Глядели напряженно, не отрываясь, будто играли в «кто кого переглядит». Лида первая опустила глаза и жалобно попросила:
– Отвернись, Миша.
Я стиснул ее руку до хруста.
– Отвернись, родненький, – еще тише повторила она, отвернись, лапушка… – Голос ее слабел, угасал. – Мама!.. – пропищала она.
Я с трудом выпустил ее руку и, переламывая в себе что-то такое смутное, захлестывающее даже рассудок, отодвинулся, а потом шагнул за занавеску и сел на диван. Медленно унималась дрожь, мне становилось все стыдней и стыдней, а Лида снова принялась икать.
– Господи, да что же это за напасть?! Ты, Миша, удрал без разрешения? – голосом, в котором была виноватость, спросила из-за занавески Лида и опять икнула.
– Да! – сердито отозвался я.
– Молодчик! – совсем уже виновато похвалила она меня и появилась в халатике, смущенная и робкая. Мимоходом, несмело погладила она меня по щеке, направляясь к умывальнику, стоявшему в этой же комнате.
А я как подскочил сзади, как цапнул ее под мышки да как зарычал лютым зверем – она аж шарахнулась, таз опрокинула:
– Ты Чего? Ты чего? Рехнулся?!
– Ничего. Умывайся знай.
Она принялась чистить зубы углем, а я взял альбом в бархатных корочках с этажерки и начал листать его. На первой странице обнаружился жизнерадостный ребенок.
Он в совершенно голом виде лежал на подушке и пялил глаза на свет белый.
– Надо же! Икота-то кончилась! – удивленно сказала Лида, утираясь полотенцем.
– Хэ! – сказал я. – Икота! Я и похлеще чего изгнать могу! Наваждение! Беса! Родимец! Даже наговоры… приворотные средства. Это неуж ты? – ткнул я пальцем в жизнерадостного ребенка.
Лида выхватила у меня альбом, треснула им меня по лбу.
– У-у, бессовестный какой! На вот! – Сунула мне подшивку журналов «Всемирный следопыт», а сама ускользнула под занавеску.
Я листал подшивку, стянутую веревочкой, смотрел картинки, а за занавеской слышался шорох одежды, и Лида развлекала меня оттуда разговорами:
– А где ты амуницию взял? Так она тебе идет!
– Рюрик дал. Его комиссовали.
– Молодчик.
– Кто молодчик-то?
– Ты, конечно! Вон от икоты меня излечил. А нашел-то как?
– Нюхом!
– Ну и нюх у тебя! Звериный прямо!
– Говорю тебе, таежный человек я.
– С тобой опасно!
– Еще как!
Лида явилась в синеньком платье с белой кокеткой, в навощенных туфлях, причесанная как-то так, что волосы вроде бы сами собой на плечи скатываются, но в то же время и прибраны, не кудлаты.
– Вот и я нарядилась! – перехватив мой взгляд, сказала она, скованная и чего-то стесняющаяся. – Не одному тебе форсить! – И, чудно закинув подол, подсела на диван, ощипалась, натягивая платье на колени. – Малое все сделалось…
Я листал журнальчики и помалкивал да поглядывал на нее украдкой.
– Что-то мама задержалась, – сказала Лида таким тоном, будто обманула меня в чем, и, не дождавшись ответа, с натянутым смехом прибавила: – В очереди застряла. Стареет. Любит поболтать. А раньше терпеть не могла очередей и болтовни.
Я листал «Всемирный следопыт». Лида отняла у меня подшивку.
– Ну, что будем делать, Миша-Михей?
– Почем я знаю?
– Почем-почем! Бука! – ткнула она меня в бок пальцем.
Я подпрыгнул, потому что щекотки боюсь.
– Мы будем гулять с тобой по Краснодару. Вот придет мама, пообедаем и отправимся. А то забудешь наш город. Уедешь и забудешь.
– Не забуду!
– Как знать?
– Не забуду! – упрямился я.
– И до чего же ты сердитый, Мишка-Михей!
– У нас вся родова такая. Медвежатники мы.
– Какие медвежатники? Медведей ловили, что ли?
– Ага. За лапу. Дед мой запросто с ними управлялся: придет в лес, вынет медведя за лапу из берлоги и говорит: «А ну, пойдем, миленький! Пойдем в полицию!» И медведь орёт, как пьяный мужик, но следует.
Ляда внимательно слушала меня и вроде бы даже верила.
– Ну и балда же ты, Лидка! А еще в институте учишься!
– Сам ты балда!
Лида хлопнула меня по руке. Я ее. И пошла игра: кто чью руку чаще прихлопнет. Лида, медицинская сестра, ничего не скажешь, ловкая девка! Однако же и я не в назьме найден – в тайге вырос, с девяти лет ружьем владею, потом детдомовскую школу прошел может, самую высшую по психологии и ловкости школу.
Лида лупит меня по руке, а я ее заманиваю, а я ее заманиваю. И как только она увлеклась, тут я и завез ей изо всей силушки!
Лида завопила – и руку в рот, а на глазах слезы навернулись от боли. Девушка все же, нежное существо, а я… Виновато погладил я ее руку, стал на пальцы дуть. А пальчишки, господи твоя воля, аж светятся насквозь и ногти розовенькие. Вот если бы не детдомовец я был, то и поцеловал бы пальчики эти, каждый по отдельности, но не могу я этого сделать, стыдно как-то.
Однако же и оттого уж только, что я подул на ушибленную руку, легче сделалось Лиде, и она принялась колотить меня кулачишком:
– Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе!
– Карау-у-у-ул! Наших бьют! – заорал я и подвернул Лидку, придавил к дивану, и мы начали дурачиться и бороться. И до чего бы мы доборолись – неизвестно, да в сенках послышались шаги Лидиной матери. Мы отпрянули друг от друга и стали торопливо приводить себя в порядок.
– Мама, а Мишка обманывает меня и балуется, – капризно пожаловалась Лида и надула губы.
– Это ж основная обязанность мужчин, доченька, – обманывать и баловаться, – ответила мать, выкладывая из кошелки черную горбушку хлеба. И по ее глазам и тону я понял, что эта женщина очень много пережила и много знает. Мать тут же окинула меня пристальным и умным взглядом.
– Так это и есть тот самый герой, который грудью защитил мое чадо?..
Она сняла шубу и стала цеплять ее на вешалку. Гвоздь у вешалки давно уже расшатался и вылазил из дырки. Шуба была тяжелая, и гвоздь не удержал ее – выпал. Шуба, слабо охнув, тоже упала. Я взял чугунный утюг с плиты, выпрямил гвоздь и забил его не в старую дырку, а в целую доску, пошатал, пристроил вешалку, водворил на место шубу.
– Вот что значит мужчина в доме! – оказала мать не то в шутку, не то всерьез и чуть заметно усмехнулась, глядя на меня, и я стушевался. А Лида уже наливала в рукомойник воды и совала мне плоский обмылок, будто я невесть какую работу выполнил.
Руки я все же помыл.
– Чем же мы будем потчевать гостя? – не то опросила, не то подумала вслух мать, и Лида жалостно отозвалась, глядя при этом с затаенной надеждой на нее:
– Придумаем что-нибудь.
– Да вы не хлопочите. Какой я гость? И сыт я. Нас хорошо кормят – на убой. Вот Лида знает.
– Мало ли как вас там кормят и мало ли чего Лида знает, заявила мать и подала Лиде жестяной бидончик. – Мигом слетай на рынок за молоком. Мы сварим мамалыгу. Вы когда-нибудь ели мамалыгу? – обратилась она ко мне.
– А что это такое?
– Ну вот, вы даже не знаете, что такое мамалыга, – усмешливо проговорила она и, когда Лида выпорхнула за дверь, думая о чем-то совсем другом, пояснила: – Мамалыга – это почти каша, только из кукурузы. Понятно?
– Понятно.
Мать прошлась по комнате, без надобности поправила занавеску и остановилась против меня. Я почувствовал – она хочет что-то сказать, и сказать неприятное для меня. Я отвел глаза в сторону и насторожился. И вдруг мать дотронулась до моих волос, погладила их почти так же, как Лида, и спросила:
– Вам сколько лет, Миша?
– Девятнадцать.
– Хороший возраст, – вздохнула мать и принялась растапливать печку тремя дощечкамл от тарных ящиков, бумагой какой-то и мазутным тряпьем. – Хороший возраст, – повторила она. – Вам бы сейчас по клубам, по вечеркам, петь, танцевать…
– У нас танцевать не умеют, у нас пляшут, – мрачно прервал я ее и отстранил от печки, потому что не растапливалась она, а только дымила.
Кое-как раздул я печку. В ней огонек закачался, хилый, чуть живой от такого топлива. Сюда бы охапку наших сибирских швырковых дров!
– Студено у вас, – оказал я.
– Студено, – эхом откликнулась мать. – Слово-то какое точное. Везде сейчас студено: в домах, на улицах, в душах… – Она хрустнула пальцами и наконец тихо опросила:
– Михаил, мне можно поговорить с вами откровенно?
– Почему нельзя? Можно. Я откровенно люблю.
– Вы не сердитесь. Я – мать. И дочь – это единственное, что есть у меня. Муж нас оставил, бросил. Он доктор. Сошелся с какойто во фронтовом госпитале. И вы понимаете… Словом, Михаил, будьте умницей, поберегите Лиду. Душонка у нее – распашонка. Она уж если… все отдаст. А девушке и отдавать-то – всего ничего.
– Зачем вы так?
– Ах, Михаил, Михаил… – сжала ладонями седые виски Лидина мать. – Не так бы надо сказать. Но раз уж сказалось, так слушайте дальше. Вы уже взрослый, вам уже девятнадцать. Не ко времени это все у вас, Михаил! Еще неделя, ну, месяц, а потом что? Потом-то что? Разлука, слезы, горе!.. Предположим, любви без этого не бывает. Но ведь и горе горю рознь. Допустим, вы сохранитесь. Допустим, вас изувечат еще раз, и несильно изувечат, и вы вернетесь. И что?.. Какое у вас образование?







