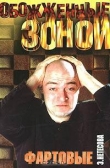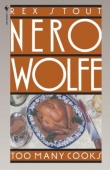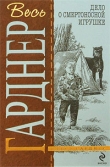Текст книги "Бочка"
Автор книги: Виктор Панов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Панов Виктор
Бочка
ВИКТОР ПАНОВ
БОЧКА
Доктор Лореш в белом халате погуливал у больницы, заложив руки за спину, щурился на солнце. Недавно в тюрьме мы сидели рядом несколько месяцев, сдружились. Я пожаловался:
– При комиссовке вольные доктора поставили мне вторую категорию труда – иди в бригаду на общие или в зоне уборные чистить.
– Сурово. – Лореш скрестил руки. – Поговорю со своим начальством о вас. Категория труда – в руках у медиков.
Очередная комиссовка. Врачи поставили в мой формуляр третью категорию труда. Я мог заниматься легким делом. Относил мертвых в морг, помогал при вскрытии трупов, рылся в кишках, тонких, как бумага, только не понимал, зачем что-то разыскивать в утробе мертвеца, когда ясно – умер от голода.
Жилось мне лучше многих. Утром не срывался с постели в минуты подъема, как все, не шел на работу в строю, не запрягался в тачку, а в зоне мог посидеть на крыльце, с кем-то побеседовать, встретить у тропинки ромашку, колокольчики небесно-голубые, клевер, мог зайти к разговорчивому культурнику, заглянуть в газеты.
Жил я все еще в бараке пекарей и поваров. В барак прокрадывались женщины из соседней зоны, отгороженной колючей проволокой. На воротцах между зонами стоял дежурняк из нашего брата, часто падкий на крупную взятку. Он пропускал женщину для встречи с поваром или пекарем, а я выходил из барака последить, чтобы не зашел к нам дежурняк из вольняшек. Разумеется, за подобные обязанности мне приплачивали хлебом. Каких только сожительниц не было у пекарей и поваров! Смелые, трусливые, отчаянные, хохотуньи, умеющие быстро скрыться под нарами от зорких глаз дежурных. Некая Нина говорила пекарю: "Петя, чёрнага ни хачу от буханки, белага хачу! Атдельна испяки мне булачки, пахрустывала бы корачка с маслом. Павлушка Маньки испек булачки..." Мечтали забеременеть, чтобы избавиться от ненавистных работ, сократить срок пребывания в лагере.
Однажды Нину чуть не застали в бараке, но успела она улечься в постель, высунуть из-под одеяла ноги в мужских сапогах и накрыть голову фуражкой, чтобы дежурняк принял ее за уснувшего мужика.
– Не боюсь вертухаев, – уверяла она хвастливо.
Нарядчик увидел меня.
– Чисти уборные. Санчасть приказала. Или – в оглобли на тачку.
– У меня третий труд. Формуляр возьми.
– Видел твой формуляр. Второй поставят. Гринберг из санчасти рассвирепела. Твое дежурство у склада не забывают.
– А ей-то что?
– Не вдаюсь в подробности. Выполняй.
От поваров и пекарей пришлось немедля выселиться.
– И порог не переступай к нам, – сказал дневальный Павел Мещеряков, мой дружок. – Вынесу тебе покушать. Сам понимаешь...
Жили чистильщики уборных в маленькой пристроечке к бараку. В комнату в рабочей обуви не входили. Жилье прибрано: кровати заправлены, на полке аккуратно расставлены книги. Пахло дегтем и карболкой.
Сосед по топчану – латыш Вольдемар. Высок, плечист, лицо широкое, мало исхудалое, молодое, хотя на висках густая проседь. На тумбочке его фиалки, что встречаются по травянистым склонам и полянам. Я склонился над цветами.
– Зона большая, – сказал Вольдемар, – прежде тут была усадьба пригородного совхоза, сорняков много, растут быстро, только в предзоннике около проволоки черная земля. Слежу за порядком в хибарке. Люблю чистоту, проветриваю жилье... А как вы насчет запахов?
– В камере терзала параша. В мертвецкой едва терпел... И здесь не обрадовался, хотя не очень пахнет в уборных.
– А почему не очень? Едим обезжиренное. Конские запахи...
С детства умел я работать метлой и лопатой, а разбрызгивать растворы карболки, хлорной извести скоро научился у Вольдемара.
– Не спеши, – советовал он. – Не пачкайся. Аккуратнее.
Велик наш поселок. Семь уборных, из них в четырех по десять мест, в остальных – поменьше, есть и по одному, например в нужнике для вольняшек.
Отхожие расположены подальше от бараков, поближе к предзонникам и хорошо просматривались часовыми со сторожевых вышек. Параши в бараке на ночь не ставились, отчего и с малой нуждой приходилось быть под зорким глазом.
Утром, с первых минут подъема, работы было много, но часам к десяти мы почти управлялись. Оставалось вывезти за зону несколько бочек с фекалиями, но тут мы уже не спешили – ведь пустая бочка возвращалась с полей часа через полтора. В это время лежи, читай, прогуливайся. Вольдемар похвастался:
– Всю библиотеку перечитал, а многие книги – по два раза.
– Не сердится библиотекарь, не пахнут?
– А я их перед сдачей легонько раствором извести или карболкой. Живем. Терпим. Многие отдают концы после общих работ...
В Первую мировую войну с Германией Вольдемар служил в латышском полку. В конце 1916 года из восьми полков образовали латышскую дивизию. Латыши не столько дрались с немцами, сколько мечтали о самостоятельной Латвии, о своем государстве. В семнадцатом в декабре охраняли Смольный, занятый правительством. Оберегали переселение власти из Петрограда в Москву, спасали Советы во время эсеровского мятежа...
– Если бы не мы – крышка большевикам бы, – этими словами Вольдемар обычно заканчивал свои рассказы о годах революции.
– За что же вам – десятку?
– За латышских стрелков. Похваливал. Другие получили вышки...
Кроме Вольдемара я подружился с Леоновым. Он отвозил бочки фекалиев из лагеря. Ласково поглаживал бархатистые губы лошади, запряженной в телегу с бочкой, поправлял сбрую. В бараке скидывал кепку с широкой розовой лысины, долго мыл руки, не скупясь на черное дегтярное мыло, которое давалось нам от санитарной службы. Перед едой мелко крестился, ел медленно, не ронял и мельчайшей крошки хлеба. Книжек не читал. Любил вспоминать свою деревню около речки и дубовой рощи. Помимо работ на колхозных гектарах он выращивал полоску гречихи на приусадебном участке. Своей крупы хватало семье на год. От пяти-шести домиков пчел бывала постоянная взятка меда.
– Мой участок давал урожай раза в три выше колхозного, но гречиха барыня капризная: не терпит заморозков, засух. Сеять бы гречиху по всей стране – наедались бы каши и меда! – рассказывал он. – Яблони свои тоже не сравнишь с колхозными... Радостей мало. Сынок пишет редко с фронта. Был парень в госпитале, снова попал на передовые. На Харьковском направлении наши войска продвигались. Захватили орудия, танки, сбили сорок самолетов. Леонов показывал фотографии сына.
– Леонов, признайся, за что сидишь?
– А ни за что жиманули. Совести нет. Брали и другие, а я один в ответе. С председателем нелады. А на пересылке поставили первую категорию труда и загнали в дальний этап. Всю жизнь не везет с колхозных дней...
Он – бесконвойник и, видимо, срок отбывал за мелкое воровство. Сперва его послали за зону кормить собак. Леонов отказался от ухода за ними, хотя и мог вместе с животными сносно питаться. Ездил он от наших уборных куда-то далековато за зону, к месту сливания нечистот.
Утомляла унизительная перекличка. Сотни нас вечером выводили из бараков на поверку. Дежурняк выкрикивал фамилии. Заключенный, услышав свою фамилию, должен был громко назвать имя, отчество, статью. Почти все отбывали срок без суда, по литеру, и слышалось:
– Кры! КРД! – что обозначало – "контрреволюционер", "контрреволюционная деятельность". Был свой литер у буржуазных националистов. Часто слышалось: АСА – антисоветская агитация. Какой-нибудь весельчак добавлял к нему нечто вроде кавказского восклицания при танце: "Ас-са! Ас-са!" – и легонько бил в ладоши и притоптывал, потешая соседей. Редко звучал литер – Пшэ! Подозрение в шпионаже.
Сельские жители иногда озорновато откликались на страшную статью:
– Иван Иванович, колхозный представитель, семь! восемь! тридцать два, десять и пять по рогам!
Это означало, что голодный крестьянин по указу от седьмого августа тридцать второго года получил срок десять лет и пять лет поражения в правах. Или мужики отвечали двумя словами: за колоски!
Жесточайшее это наказание получали те, кто либо до уборки хлеба срезал колоски, либо собирал их на стерне после уборки. Стоило только обнаружить у человека сумку с колосками, и он уже объявлялся злейшим врагом.
– За колоски – удивляюсь, – говорил Вольдемар. – У нас в Латвии колоски не собирали. Голодных не было, да и колоски не валялись. Разучились теперь хлеб убирать. Позор! И другие ваши статьи – позор. Дождь накрапывает, а малограмотные, бестолковые вертухаи сосчитать людей не могут. То человека не хватает, то лишний оказался. Не сходятся подсчеты. Смех и горе. А когда-то мы тоже были России вольные сыны, но тогда – меньше дураков.
Мы аккуратно заполняли черпаками на длинных ручках пузатую большую бочку, поставленную на низкие дроги – под ними висело грязное ведро в подтеках, когда подошел к нам невысокий зека, пригляделся к работе и сказал:
– Вряд ли кто вам позавидует...
– Завидуют, – ответил Вольдемар. – Девятисотку в зоне только нам дают, да еще и по пирожку достается, если санинспектор похлопочет. Ручка у черпака длинная, рукавицы плотные, на известь и карболку начальство не скупится, за спиной бригадира нет. Ветер в затылок. Завидуют, браток.
Невысокий зека с печалью в крупных глазах чуть навыкате спросил Леонова, далеко ли тот отвозит нечистоты из лагеря, а мне сказал, когда он уехал:
– Знаю то место. Овраг за свалкой. Льете золото в прорву. По дороге слева – четыре дома, подальше – два. От деревни остались... Народ пробивной там.
– А где нет пробивных, – ответил я. – Одним война, а другим нажива.
Как на воле, он подал мне мягкую, нежную руку:
– Наум Абрамович, в прошлом инженер.
Живет он в бараке пересыльных, прибыл к нам недавно. Двойные нары. Теснота. Он говорил негромко, четко, словно бы выделяя каждый звук, хотя плохо произносил "р".
– Имею две новые простыни. – Инженер отступил от грязи. – Жена позаботилась. Не поможете ли продать? Боюсь ходить по баракам.
– Простыни? – Я подумал. – В больнице они есть. В бараках их не бывает. И едва ли кому нужны простыни.
– А рубашка новая? Ткань дорогая.
– Рубашку придурок возьмет за пайку. Шестисотку дадут.
– Мало! А нельзя ли вашему помощнику простыни и рубашку вывезти за зону и продать? Каким образом? – Он усмехнулся. – А очень просто. В тех домишках наверняка торговки живут... Под городом оборотистые. И вам перепадет.
Я призадумался. Заманчивое предложение. Но придется искать покупателя. А донос? Леонова законвоируют. Я попаду в карцер. Сказал Науму Абрамовичу:
– Риск большой, а выгода чепуховая.
– Никакого! Слушайте Наума. На вахте не будут с пристрастием обыскивать вонючую бочку. Я уже издалека видел – вахтер торопит его проехать в распахнутые ворота. Положит простыни под свою подстилку, сядет, привалится спиной к бочке. А рубашку надеть. За милую душу проедет.
– А обратно как? С маслом или хлебом?
– Хлеб на ломти, за пояс, масло в сапоги, за голенища. Под рубахи не заглядывают. Без торговли мир никогда не жил.
Леонов молча выслушал меня и отказался взять простыни. Я сказал об этом Науму Абрамовичу.
– Жаль. – Он приподнял плечи. – Подождем. Авось образумится. Как говорится, смелый там найдет, где робкий потеряет. Только бы не украли у меня простыни.
Дня через три Леонов в каморке сказал мне:
– Находится покупательница на простыни и рубашку. Легко вывезу, а вот обратно с продуктами... Ну, не сразу взять? А? – Он рассмеялся. Попробуем.
Я видел издалека – на вахте дежурный живо распахнул ворота, проводил лошадь с бочкой, значит, простыни и рубашка Наума запросто перебрались за ворота. Оставалось ждать возвращения Леонова.
Латыш Вольдемар, деловито орудуя метлой и лопатой, вспоминал, по обыкновению, свою Латвию. Не знали горя двести двадцать годочков под властью России, а каких-то два годочка тому назад попали в кабалу – петля на шее. На прежнюю Россию не сердится он, жена из русских, и себя считает русским латышом. В шестнадцатом году на войне с Германией за смелость и мужество получил орден Святого Георгия, хотя позже и был защитником революции. Сто первый раз повторил: если бы не латышские стрелки большевикам в Москве не удержаться у власти при схватке с эсерами.
– Поживали бы теперь и добра наживали. Без уравниловки и царства лентяев. У одних плохо лежит, а у других брюхо болит, и хочется сожрать чужое. Революцию брюхо сделало. Покорились нужде.
Появился хозяин простынь и рубашки.
– Не волнуйтесь, Наум Абрамович, – сказал я ему, – не обманем в случае успеха. Пройдите подальше за барак, а я с дороги понаблюдаю за проездом бочки через вахту.
Распахнулись ворота. Вахтер на ходу заглянул в пустую бочку. Леонов медленно проехал к уборной в глуховатом углу зоны, поставил телегу с бочкой, где полагалось, и достал из-за пояса плоские ломти белой булки, а из сапог вытянул масло, завернутое в лоскутья клеенки.
– Хлеб согрелся малость, а масло чуть не растаяло. Завтра тетка добавит хлеба и масла. – Он подтянул голенища сапог. – Добрая тетка. Спрашивает, как живем, не сильно ли голодаем. Дала еще головку чеснока лично мне. А чего тут зубоскалить? В домишко не звала. Да и открытое место, рисково останавливаться. Ничего она. Не старуха. На фронте сын. Хоть бы маломальский лесок – спрятаться.
Наум Абрамович сиял.
– Еще у меня простыня, да у соседа новенькая, да рубашки... Осторожность, разумеется, необходима. – Он рассмеялся, сощурив глаза. Вахтер едва заглянул в пустую бочку: проезжай скорее, значит.
Отправили за зону вторую простыню, нам в обмен дали картошку. А как ее завезти в зону? Леонов, подумав, сказал:
– В ведре – под бочкой. Еще случая не бывало, чтобы в то ведро заглянули, да туда и не склониться.
Сырая картошка – сильное средство против цинги. Она творит чудеса. Человек пухнет, кровоточат десна, но ему раза три-четыре поесть немного сырой картошки – и спала опухоль. Человек оживает!
– Добудь, добудь картошку! – просил меня бригадир портных. – Погрызем. Чесноку бы маленько...
Отправляли за зону новое белье, простыни из больничного хозяйства, наволочки... Портные за головки чеснока отдали новый пиджак, взялись сшить куртку и брюки по заказу Леонова.
– Не кончится добром, – предупреждал меня Вольдемар. – Найдется стукач. Первым тебя посадят в карцер, Леонова законвоируют. Могут и меня прихватить...
– Остановиться не могу, – признавался я Вольдемару. – Повара и пекаря чеснок просят, лук зеленый. Сапожники не дают покоя...
– Пиджак и брюки отправить легко, – сказал мне Леонов, – а вот не знаю, как быть с обувью... Пока тапочки в карман засунул. Проехали, а о сапогах – не берусь.
В глубоком ведре с пятнами подтеков, привязанном к дрогам, Леонов трижды провез картошку и в нем же осмелился переправить новые башмаки.
Портные в мастерской сшили узкий, короткий мешок из брезента, и Леонов провозил в нем бутылки молока, сметану, простоквашу, свежую мелкую морковь, огурчики. Мешок, заполненный провизией, он опускал в ведро или в дальний конец пустой бочки – это было не опасно, дежурный на вахте бегло заглядывал в бочку, ведром не интересовался. Брезент был плотен, и дурной запах через его ткань не проникал в бутылки. Портные получали яства, которые много лет им только снились.
– Согласен посидеть в карцере, – говорил мне исхудалый бригадир портных, – после того, как недельку сметанки поем, молочко попью, огурчики попробую. Сошьем, что закажут, лишь бы переправить...
Сапожники готовили туфли, тапочки, хотя Леонов не всегда соглашался перевозить их товар, говоря мне:
– Бедой кончим. Алчность одолела. Грешники мы, спаси царь небесный. Вам-то что с большим сроком, а меня законвоируют, в карцере насижусь...
– Не будь трусом, в крайнем случае дадут суток пять, но не законвоируют. Хлопотное дело...
– Да так-то оно так. Питаюсь лучше, чем на воле. Часом живем. А все-таки...
Мы с бочкой появлялись и в женской зоне – подъезжали к уборной.
– Красотка, задержись, – крикнул я.
– Черпай, черпай, вонюха... И убирайся! Ищи дуру.
А другая задержалась около нас. Приглядная, одетая чисто. Ждала, что скажем.
– Подойди ближе, – сказал я. – Не кусаемся. Не волки.
– Отчего вас называют золотарями?
– Золотые мы. Богачи.
Она молчала. Мы торопились заполнить бочку. Вдруг сказала:
– Забегай в гости. Чё лыбишься?
"Боязно к бабьему сердцу прилипнуть", – подумал я.
Синеглазая, пухленькая подошла ко мне ближе.
– Зойка. Забегай.
Только мне и Вольдемару разрешали бывать с бочкой у женщин. Вольдемар не знакомился с молодицами, а я загляделся на синеглазую Зою. Она была старшей дневальной и, понятно, на день оставалась в пустом бараке.
Однажды я принес Зое сливочное масло. Она рассмеялась:
– Люблю богатых женихов...
Скидывала с меня одежду, а я боялся задерживаться в ее бараке.
– Чудак! – Она смеялась. – Полежим здесь, как на воле... Я послала свою помощницу охранять нас. Появится дежурняк в зоне – она прибежит. Успеешь смыться. Редко случается с мужиком полежать. То начальника боишься, то уголочка нет. За чеснок и за масло благодарим. Нинку не помнишь? К повару бегала. Светленькая. Белоруска. Ватрушки он ей пек. Дважды в карцере отсидела. А недавно ее на сельхоз отвезли. Мечтает мальчонку родить. Досрочно освободят. Добилась. И мне бы давно рожать...
Вольдемар, покачивая головой, предостерег меня:
– Баба – главное зло.
– Молчал бы, если затвердело сердце. Без бабы народ бы вымер.
– Но только не здесь путаться... Жена – закон!
– Не хочется быть пугливым зайцем. Авось гром и не грянет.
– Жаль тебя, бабника. С дешевкой связался. Сгоришь! Загонят на общие, а оттуда прямая дорожка в деревянный бушлат...
– А я вас поняла, – сказала Зоя. – Отправим новенькое женское белье, запустим лапу в каптерку. Как это мы раньше не догадывались?
Леонов поотказывался, но все-таки сумел выгодно обменять юбки и чулки на продукты. Однако был недоволен:
– С бабьем лучше не связываться. Молчать не умеют.
Днем вдруг неожиданный обыск у нас в хибарке. Двое вольняшек старались. Беду навлек, я думаю, один наш работяга: не угостили его, лодырем называл Вольдемар. Не ворвались бы с обыском, если бы не донос.
В моей тумбочке – масло, сахар, чеснок; под кроватью – картошка. Дежурный по режиму, казалось, схватит меня за горло, он хрипло орал, дубасил кулаком по столу:
– Воруешь с кухни, со склада! Фашист! Вражина! Бабахнуть бы по морде...
– Гражданин начальник... – Я стоял по-солдатски навытяжку. – Моей вины нету. Картошка на складе летом у нас полугнилая, с ростками, дряблая, а моя одна к одной! А масло? И сравнивать не приходится. Да и сколько его там? Пол-литровая банка. У меня есть друзья. Попросили хранить. Обворуют их в бараке.
Дежурный вызвал старшего повара, тот сказал:
– Не наша картошка и не лежала с нашей. И масло не то...
– Но у него нет передач! Откуда он мог взять ее? И масло?
Я заранее условился с одним, будто бы он и другие хранили у меня передачи с воли. Тот подтвердил мои слова. Не попал я в карцер.
– Бог миловал. – Вольдемар улыбнулся. – Соврал ты ловко. Подготовился. Убедил. Но будем осторожнее...
Леонов с неделю ничего не вывозил за зону, хотя сапожники и портные предлагали всяческие мелкие изделия в обмен на молоко, на чеснок.
Меня вызвали к нарядчику. В чем дело? Я забеспокоился. Давно бы полагалось угощать нарядчика молоком. Загонят в бригаду на тяжелые работы? Я робко переступил порог его комнаты.
Вертлявый нарядчик с морщинистым лицом, с волосатыми руками кричал на бригадира, перебирая на столе формуляры. Я подумал: "На воле – вор, а здесь – царь и Бог. Ну и дурак я – забыл умаслить стервеца". Он сказал мне:
– Стой у двери. Фамилия? А-а... Это писатель? – Тон помягче. Докторам понравилась твоя работа. Ставят помощником санитарного врача. Вызывает Гринберг, начальница санчасти. Пойдешь утром. Те же уборные да плюс помойки, чистота в бараках, вши, клопы... Ты – фигура! Гроза! Ходи в чистеньком. Должны тебя побаиваться. Всё. – Он сел к столу. – Кто там еще?
Засучил рукава, будто готовился к драке.