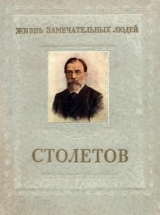
Текст книги "Столетов"
Автор книги: Виктор Болховитинов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
Постоянно борясь за приобщение русских людей к завоеваниям науки, Столетов в эти годы много сил отдает ее популяризации. Он часто выступает в аудитории Политехнического музея с рассказами о новостях науки.
Несколько вечеров Столетов тратит на то, чтобы ознакомить московскую публику с фонографом, этим удивительным аппаратом, умеющим воспроизводить, музыку и человеческий голос. Столетов подробно объясняет слушателям принципы устройства аппарата, демонстрирует действие единственного в те времена в Москве фонографа. «Успех вышел колоссальный – нечто небывалое, – радовался, как ребенок, Столетов, – представьте себе битком набитую аудиторию. Начинаю я – кратким объяснением (около получаса), с рисунками в приложении. Затем перед нами поочередно раздаются – соло на кларнете, декламация Южина, пение Nikita, английская сцена со свистом и хохотом, и пр. и пр. Затем начинаем творить новые фонограммы: певица поет романс, граф Толстой fils (студент) играет на балалайке, студенты поют «Вниз по матушке» и «Gaudeamus»; все это по очереди записываем и воспроизводим» (письмо В. А. Михельсону от 21 ноября 1890 года).
Интересы Столетова широки и многообразны. И, как всегда, в центре его внимания – электротехника.
«Заехав (не удержался таки!) на кратчайшее время во Франкфурт, чтобы взглянуть на электрическую выставку, – я колебался, продолжать движение на юг, или вернуться вспять, – пишет Столетов В. А. Михельсону (25 июля 1891 года). – Франкфуртская выставка недурна, но самое главное (передача работы на 180 км) еще не готово; испытания (экспертиза) начнутся в августе».
В этом письме идет речь о знаменитой Лауфен-Франкфуртской дальней электропередаче – замечательном создании русского технического гения. Создателем этой первой в мире дальней линии на переменном токе был великий русский электротехник М. О. Доливо-Добровольский (1861–1919). Творец системы трехфазного переменного тока и изобретатель асинхронного мотора Доливо-Добровольский этой электропередачей показал воочию величайшие преимущества переменного тока перед постоянным. Изобретения русского инженера произвели подлинную революцию в технике. Трехфазный ток завоевал господство в электроэнергетике, а асинхронный мотор Доливо-Добровольского стал родоначальником многочисленной современной армии электромоторов.
Столетов прозорливо оценил историческое значение изобретения Доливо-Добровольского. Как замечателен тот живой интерес, с которым великий физик отнесся к первым шагам новой электротехники!
Жизнь Столетова идет в труде, постоянном, напряженном и многостороннем.
– Дел всегда непочатый край. Он давно уже чувствует себя главой большой и все увеличивающейся-семьи, многих из членов которой он никогда не видел.
Каждое утро на четвертый этаж дома, выходящего на Большую Никитскую, поднимается почтальон. Письма Столетову приходят со всех концов нашей родины. Ему пишут из Варшавы, Казани, Одессы ,Петербурга, Киева. Получая эти письма, Столетов как бы живет во всех университетах родины. Присылают письма молодые диссертанты – они просят дать оценку своим научным работам. Пишут из захолустных углов молодые русские люди, желающие заняться наукой. На квартиру Столетова присылают свои книги популяризаторы науки, – им тоже надо ответить, они делают большое, полезное дело, которому столько сил и таланта отдал и сам Александр Григорьевич Столетов.
Недавно сделанная находка воочию показала, как широки и многообразны были связи Столетова с научным миром.
В 1944 году во время ремонта в Научно-исследовательском институте физики Московского Государственного университета пришлось отодвинуть от стеньг огромный библиотечный шкаф, не сдвигавшийся со своего места, вероятно, с того самого дня, когда он был поставлен. Сдвинув шкаф, рабочие увидели: в стене нишу, а на полу в ней большой ящик, доверху набитый какими-то бумагами.
Бумаги эти были тотчас же просмотрены профессором А. К. Тимирязевым. С волнением профессор увидел, что перед ним архив Столетова.
Большинство бумаг оказалось письмами, присланными великому физику.
Чьих только писем не было в этом ящике, простоявшем сорок лет за шкафом! Трудно назвать имя: какого-либо русского ученого из живших во времена Столетова, который хоть раз не написал бы ему.
Корреспондентами Столетова были все его ученики – Зилов, Шиллер, Жуковский, Гольдгаммер, Соколов, Михельсон, Брюсов и другие. Со Столетовым переписывались: физики Хвольсон, Петрушевский, Боргман, Фан дер Флит, Лермантов, Егоров, Степанов, Авенариус, Слугинов, Шведов, Надеждин, Зайончевский, Косоногов, К. Рачинский; астрономы Бредихин, Церасский, Хандриков, Энгельгардт; географы Анучин, Воейков, Зворыкин; метеорологи Клоссовский, Рыкачев, Вильд; химики Марковников, Н. Бекетов, Лясковский; ботаники Фаминцын, С. Рачинский; физиолог Цион; математики Сонин, В. Цингер, А. Давидов, Громека, Млодзеевский; почвовед Докучаев; механик Слудский; врач Склифосовскин; изобретатели Циолковский, Израилев и многие, многие другие.
Немало приходило к Столетову писем от иностранных ученых: ему писали Гельмгольц, Кельвин, Больцман, Липпман, Маскар, Каммерлинг Оннес, Кюнен.
Выдающийся голландский физик Каммерлинг Оннес, прославившийся своими работами по изучению низких температур, пишет Столетову письма на русском языке. Язык ему дается с трудом, но он его упорно учит: русская физика уже столь богата, что имеет смысл учить этот нелегкий язык.
«Позвольте мне уверить Вас, что я бесконечно благодарен ради назначения почетного (речь идет о выборе Каммерлинга Оннеса в члены Общества любителей естествознания – В. Б.) …Я это наверно знаю, что Вы были делатель, жалею, что язык российский так претрудный.
Довольно ошибок», – заканчивает письмо Каммерлинг Оннес, посмеиваясь над своими промахами в русском языке.
Были среди корреспондентов Столетова и безвестные люди, зачастую жившие в провинциальной глуши.
Адрес квартиры Столетова известен всем русским ученым, инженерам, техникам и студентам. Самые разнообразные поручения приходится выполнять Столетову. Он достает фотометр для метеоролога Савельева из Петербургской обсерватории. Он добивается перевода в Москву бывшего студента Гурьева.
Скольким надо помочь, скольких нужно поддержать!
Помощь, которую оказывает Александр Григорьевич русским ученым, велика и действенна.
Вот заболевает туберкулезом ученик Столетова – Михельсон, и Столетов сразу же начинает энергичные хлопоты. Он требует субсидии для Михельсона, а тем временем, не ожидая, пока раскачается начальство, на свои собственные деньги отправляет заболевшего товарища в Давос – курорт в Швейцарии. Он пишет Михельсону ободряющие письма, посылает книги, чтобы ученый не чувствовал себя оторванным от научной среды.
«Если я когда-нибудь вылечусь, – пишет Михельсон Столетову, – то это только благодаря Вам, Александр Григорьевич».
Столетов делает все, чтобы помочь Михельсону. Работу Михельсона он представляет на соискание мошнинской премии, весь свой авторитет употребляет на то, чтобы эта работа получила ее.
В годы, когда Михельсон еще лечится, Столетов уже думает о его будущем. Он добивается предоставления Михельсону приват-доцентуры в Киевском университете.
Это не только любовь к самому Михельсону – это забота о русской физике. Столетов стремится сохранить для русской науки каждого из ее бойцов.
Тяжело приходится в эти годы и старому знакомому Столетова – Константину Эдуардовичу Циолковскому. Издевательскими и насмешливыми письмами отвечают Циолковскому из Императорского русского технического общества на его проекты цельнометаллического дирижабля. И только у Столетова, у Менделеева, у Жуковского находит гениальный новатор поддержку.
«Многоуважаемый Александр Григорьевич! – пишет 29 августа 1891 года Циолковский Столетову.
Моя вера в великое будущее металлических управляемых аэростатов все увеличивается и теперь достигла высокой степени. Что мне делать и как убедить людей, что «овчинка выделки стоит»? О своих выгодах я не забочусь, лишь бы дело поставить на истинную дорогу.
Я мал и ничтожен в сравнении с силой общества! Что я могу один! Моя цель – приобщить к излюбленному делу внимание и силы людей. Отправить рукопись в какое-нибудь ученое общество и ждать решающего слова, а потом, когда ваш труд сдадут в архив, сложить в унынии руки – это едва ли приведет к успеху.
История показывает, что самые почтеннейшие и ученейшие общества редко угадывают значение предмета в будущем, и это понятно: исследователь отдает своему предмету жизнь, на что немногие могут решиться, отвлеченные своими обязанностями и разными заботами. Но в целом среди народов найдутся лица, посвятившие себя воздухоплаванию и уже отчасти подготовленные к восприятию известных идей.
Поэтому я думаю, что лучше, если разбираемый мною вопрос будет представлен на рассуждение всех добровольцев; мне кажется, что будет более шансов для достижения успеха, ибо хотя и найдутся при этом противники, но зато найдутся и защитники и продолжатели дела; спор же только способствует выяснению истины, подобно спору Гальвани с Вольтою.
Итак, я решился составить краткую статью (20–30 листов писчих), содержащую решение важнейших вопросов воздухоплавания; надеюсь закончить эту работу в три или четыре месяца. Но, прежде чем присылать вам ее и хлопотать так или иначе о ее напечатании, позвольте мне передать резюме этой статьи, которое вам и посылаю (печатать его, конечно, некому).
Я желал бы, чтобы Як. Игн. [Вейнберг], Ник. Е. [Жуковский] и другие лица, не подвергая преждевременно критике мои идеи, прочли посылаемое мною резюме.
Почитающий Вас К. Циолковский».
Столетов делает все от него зависящее, чтобы помочь Циолковскому. Он добивается напечатания его статьи, он сам от своего имени обращается в министерства с просьбой поддержать Циолковского, дать ему средства для исследовательской работы.
А вот и другое письмо Циолковского:
«Многоуважаемый Александр Григорьевич!
Посылаю Вам мою статью, которую я вторично сократил, согласно совету Николая Егоровича; теоретическая часть сокращена более чем вдвое: опыты и вспомогательные для них формулы упрощены.
Позвольте мне кстати сделать Вам неважное сообщение об аэростате, летающем только силою солнечных лучей.
Опыты показывают, что сосуд, обернутый в темную материю или выкрашенный в черную краску, будучи выставлен на солнечный свет, вытесняет 1/12 или 1/13 часть заключенного в нем воздуха, что, по простому расчету, соответствует повышению температуры внутри сосуда на 22° Цельсия против температуры окружающего воздуха (градусов 25 Ц.). Так как мои опыты я делал в конце августа и после полудня, когда высота солнца не превышала 30 гр., то я думаю, что, при более благоприятных обстоятельствах, разность температур между внутренним и внешним воздухом может быть гораздо больше.
Если устроить сферический аэростат из черной папиросной бумаги и выставить его на солнце, то температура воздуха внутри его, на основании предыдущего, должна повыситься, так что подобный аэростат будет не что иное, как готовый в путь монгольфьер; несложное вычисление показывает, что (даже при повышении температуры на 22 град. Ц.) шар, сделанный из папиросной бумаги, квадр. метр которой весит 13 грамм, подымется на воздух при диаметре в 1 метр; при диаметре же в 2 метра он подымет еще и груз, равный весу шара, или, без груза, подымется на высоту около 5 километров.
Для успешности опыта полезно предварительно подогреть воздух внутри шара, чтобы он лучше раздулся.
Когда шар поднялся и летит по направлению ветра, то он находится в относительном покое (в отношении воздуха), вследствие чего его ветер как бы не обдувает и нагревание солнечными лучами дает ему более высокую температуру, чем это мы заметили из наших опытов (22° Ц.).
Понятно, что такие аэростаты не могут быть удобны для человеческих полетов, между прочим, и потому, что размеры их должны быть чересчур значительны, так аэростат, поднимающий одного человека, должен иметь сажен 10 в диаметре.
Пустив лететь наш солнечный воздушный шар утром, при ясной погоде, часов с 9-ти и до 3-х пополудни, найдем, что он может пролететь по ветру в 6 часов около 240 верст, считая по 40 верст в час (средняя скорость свободных аэростатов).
Предполагаю весною следующего года произвести опыт пускания такого аэростата.
Извините, если сообщение мое о солнечном аэростате не ново и не интересно!
Я работаю, по обыкновению, над металлическими управляемыми аэростатами, о чем надеюсь писать Вам особо».
Кто поймет дерзкую, такую поэтическую мечту Циолковского о «солнечных аэростатах», поднимающихся в ясный, погожий день в голубое небо! Но со Столетовым он может поделиться, этот человек – сам великий мечтатель, сам великий путешественник в неизведанные страны науки.
«Прошу Вас не оставлять меня!» – такими словами заканчивал письмо Циолковский.
Нет, Столетов его не оставит. Он со всеми, кому дорога Россия, русская наука, кого теснит самодержавие.
Так жил Столетов.
Времени для продолжения своих исследований совершенно не было. Не имея возможности отдаться этим исследованиям, он настойчиво советовал всем соприкасавшимся с ним физикам продолжать, непременно продолжать эти исследования. Столетов все же надеялся: может быть, наступит когда-нибудь время, когда он сможет снова вернуться с Иваном Филипповичем Усагиным в маленькую комнатку, где пылятся на полках его приборы. Но этим надеждам не суждено было сбыться. В начале девяностых годов наступила самая тяжелая полоса в его жизни. «Угнетенное состояние духа и потрясенное здоровье, – писал А. П. Соколов, – явились новою помехою для работы, которая так и не возобновилась более».
XIII. РЕАКЦИОНЕРЫ МСТЯТ
«Когда я дочитал вчера вечером этот рассказ, – говорил двадцатидвухлетний Владимир Ильич Ульянов своей сестре Анне Ильиничне, – мне стало прямо-таки жутко. Я не мог остаться в своей комнате, встал и вышел. У меня такое ощущение, точно и я заперт в палате № 6» [24]24
А. И. Ульянова-Елизарова.Воспоминания об Ильиче. М., 1935, стр. 48–49.
[Закрыть].
Повесть Чехова «Палата № 6» произвела огромное впечатление на русское общество. Проницательные читатели угадали подлинный смысл повести. Похожая на тюрьму больница, в которой гибнет доктор Рагин, походила на всю страну, в которой властвовали такие же жестокие, тупые и грубые люди, как и те, в чьих руках очутился доктор Рагин.
Вся царская Россия была колоссальной, страшной тюрьмой.
Эта тюрьма многим казалась несокрушимой. Но были люди, которые видели силу, способную разрушить эту тюрьму, понимали, что такая сила есть, что она год от году крепнет.
В глухие годы александровской реакции зарождалась и нарастала новая революционная волна.
Восьмидесятые-девяностые годы были годами, когда на историческую арену стал подниматься русский рабочий класс. В России начинают возникать первые социал-демократические группы и кружки.
В начале девяностых годов рабочее движение усиливается. Учащаются стачки. Растут и крепнут социал-демократические организации. Год от году выступления рабочих становятся все более организованными. На подъем революционного движения правительство отвечает жесточайшими репрессиями. Расправляясь с революционерами, царские слуги усиливают гонения на все передовое, свободомыслящее, независимое.
Принципы, которыми руководствовалась администрация в своем отношении к профессуре, четко были сформулированы министром народного просвещения графом Деляновым: «Лучше иметь на кафедре преподавателя со средними способностями, чем особенно даровитого, которые однако, несмотря на свою ученость, действуют «на умы молодежи растлевающим образом».
Реакционеры начинают травить друга Александра Григорьевича – великого русского ученого Климента Аркадьевича Тимирязева. Черносотенный публицист князь Мещерский пишет о статьях Тимирязева, пропагандирующих материалистическую биологию: «Профессор Петровской академии Тимирязев на казенный счет изгоняет бога из природы».
«В этих словах, помимо доноса, – писал Тимирязев, – заключалась и фактическая ложь. Ни одной строки Тимирязева в царской России не было издано на казенный счет».
Целая серия доносов на Тимирязева идет в министерство народного просвещения. В 1892 году реакционеры празднуют победу: неблагонадежного профессора Тимирязева, друга передового студенчества, увольняют из Петровской академии.
В борьбе, с прогрессивными деятелями науки министерству народного просвещения помогали и люди, именовавшие себя учеными. Были свои люди у министерства и в среде профессуры Московскою университета.
«Министерскую группу» – так называли университетских приспешников реакции – возглавлял ректор, профессор римского права Боголепов. Бездарный ученый, но способный, беззастенчивый карьерист, Боголепов впоследствии выслужился до поста министра народного просвещения. На этом посту он снискал себе всеобщую ненависть студенчества, в частности своим гнусным распоряжением об отдаче неблагонадежных студентов в солдаты. В 1901 году Боголепов был убит студентом Карповичем, возмущенным этим приказом министра.
Достойным товарищем Боголепова был математик П. А. Некрасов, сменивший потом Боголепова на посту ректора. Поставив Некрасова во главе университета, правительство не ошиблось в своем выборе. И когда по истечении своей ректорской деятельности он обратился с просьбой об отставке, Александр III приказал оставаться ему на своем посту. Выслуживаясь перед правительством, Некрасов доходил до того, что даже математику пытался превратить в орудие прославления самодержавия. В своих книгах по теории вероятности Некрасов преподносил читателям выведенную им формулу, математически «обосновывающую» незыблемость и святость царской власти, развивал бредовый «научный» анализ построенного им «священного треугольника», вершинами которого являются царь, синод и наука.
Некрасов дожил до советской власти; любопытно, что после революции этот черносотенец всюду стал распинаться в своей «извечной преданности» делу революции.
«Министерская группа» рьяно помогала проведению диктовавшегося свыше курса на превращение университета в бюрократическое учреждение, в котором профессора играли бы роль чиновников министерства народного просвещения, курса, направленного на то, чтобы покончить в университете с малейшими проявлениями либерализма и оппозиции. Преследуя свои цели, выживая из университета неугодных людей и протаскивая всюду своих ставленников, эта группа не стеснялась в выборе средств, использовала любые самые гнусные и подлые приемы.
«Министерская группа» насаждала в университете систему сыска, наушничества, шпионажа. Доносчики вербовались и из студенческой среды.
Реакционная профессура орудовала до цинизма грубо, беззастенчиво.
Действуя методами слежки и доноса, компания Боголепова еще в восьмидесятых годах добилась изгнания прогрессивных профессоров С. А. Муромцева и М. М. Ковалевского.
«Министерская группа» давно уже начала подкапываться под Столетова. Друг Тимирязева, товарищ В. Танеева, принципиальный, не желающий мириться с каким бы то ни было произволом, ученый пришелся не ко двору университетскому начальству. Выдерживавший твердую линию во всех вопросах, не идущий на компромиссы, Столетов не раз уже давал бои «министерской группе».
Начальство этого не забывало. Оно пользовалось любым поводом, чтобы придраться к Столетову, уязвить его, притеснить. Про ученого распускались клеветнические слухи. Выпады против Столетова, носившие вначале характер как будто служебных неприятностей, в 1892 году участились и, наконец, переросли в настоящую травлю Столетова, в подлинные гонения на него.
В конце февраля 1892 года к Столетову обратилась группа студентов с просьбой прочитать дополнительные лекции по общему курсу физики. Лекции были включены в расписание физико-математического факультета и проходили с большим успехом – вместо тридцати неуспевающих студентов на лекции приходило до ста человек. Но эти дополнительные лекции были введены без разрешения ректора Боголепова. На лекции Столетова Боголепов отозвался приказом по физико-математическому факультету; Александру Григорьевичу был сделан выговор.
В ответ на выговор Столетов на следующий же день отправил Боголепову возмущенное письмо. В нем ярко проявился свободолюбивый дух ученого – страстного противника рабских порядков, формализма, насаждавшихся царскими чиновниками.
«Могу ли адресовать Вам, – писал Столетов Боголепову, – несколько строк не как начальнику – ректору, а как товарищу – профессору, с надеждой, что они не сочтутся вновь за новое нарушение субординации?
У меня не выходит из головы наш вчерашний разговор. Профессор, желая облегчить студентам усвоение трудного предмета, соглашается повторить и развить часть читанного курса. Имея и без того много лекций, он урывает от своего вечернего отдыха: едва кончив обед, бежит опять в аудиторию, опять говорит два часа, опять возится с опытами. А студенты охотно пользуются этим «туторством» [25]25
В английских университетах «туторами» называют репетиторов, занимающихся с группами студентов.
[Закрыть], и вместо ожидаемых 20–30 человек является сотня.
Кажется, чего бы лучше? Скажем спасибо профессору, порадуемся на студентов!
Но вот беда: не придавая этим сверхштатным беседам официальною и обязательного значения, профессор не вспомнил во-время, что усердствовать можно не иначе, как по надлежащем разрешении, – что, помимо и прежде жертвы временем на дело, нужно найти время и на изготовление должных «прошений» и «отношений».
Оплошал профессор! – Но неужели somme faite [26]26
Somme faite– за этот поступок ( франц.).
[Закрыть]он заслуживает не «спасибо», а выговора, хотя бы мягкого и покрытого великодушным разрешением post factum: [27]27
Post factum– задним числом ( лат.).
[Закрыть]«Я Вам разрешаю!» – Да неужели же мыслимо запретить профессору отдавать свое время желающим учиться – сверх часов, регламентированных в расписании? Не слишком ли много мы смотрим на формы, в ущерб сущности дела? Не слишком ли резко звучит ревность о власти и призыв к канцелярской правильности? Fiat subordinatio [28]28
Fiat subordinatio– да будет субординация ( лат.).
[Закрыть].
Не формализмом живет университет, а старанием каждою из нас делать дело, приносить пользу, хотя бы и с недосмотрами по части бесчисленных церемоний. Вы скажете: дело делом, а форма формой. Конечно; но non possunt omnia omnes. [29]29
Non possunt omnia omnes– нельзя запрещать все и вся ( лат.).
[Закрыть]А что лучше – формализм без дела, или дело без формализма? Какой вред мог произойти из того, что случилось? «Беспорядки»? Те вечные «беспорядки», которых мы так боимся и избыть не можем (не потому ли именно, что слишком боимся)? Но вот тут-то и не могло быть беспорядка. Подумайте, кому бы их опасаться, как не мне? Профессором слыву я строгим, чуть ли не людоедом. А между тем во мне не возникает и тени боязни, что в те неофициальные и неогражденные часы сделают со мной или при мне что-либо неподобающее. Даже предубежденный, питающий злобу за единицу или за незачет, и тот видит, что я жертвую ему тем, чем не обязан, и спешит благодарить – вниманием и порядком.
Припомните мои фонографные вечера 1890 г., где в аудитории бывало по 500 студентов.
Отчего же начальственному оку видится во всем этом одно несоблюдение порядка?»
Боголепов ответил Столетову пропитанной ханжеством запиской, в которой, говоря о необходимости формализма, сослался на то, что, мол, сам Столетов заставляет студентов в своей лаборатории руководствоваться во время опытов известными правилами.
Столетов в своем втором письме разбивает жульническую аргументацию Боголепова.
«Я не предоставляю моих научных снарядов в бесконтрольное распоряжение студентов, – писал Столетов, – но этот запрет не распространяется на дополнительные добросовестные занятия студентов в лаборатории. Как ни ценна упомянутая истина о пользе форм и порядка, надо, чтобы она не заслоняла собой вещей более крупных.
В математике есть правило, что бесконечно малое пренебрегается перед конечным, бесконечно малое высшего порядка перед бесконечно малым низшего порядка. Это считается не только позволительным, но и обязательным: иначе результат может выйти путанный и неверный. Правило это должно иметь силу не в одной только математике, но и во всех сферах мысли и деятельности. Уж кажется аккуратный народ – немцы, а у них на эту тему есть особая пословица «из-за деревьев не видеть леса». Мне казалось, что это золотое правило не всегда соблюдается в наших университетских делах и отношениях: энергия лиц и учреждений тратится иногда на сравнительно неважное к неизбежному ущербу задач существенных».
Не прошло и нескольких месяцев после истории с дополнительными лекциями, как Столетову снова пришлось столкнуться с университетским начальством.
В 1891 году в России был страшный неурожай, и в следующем году цены на хлеб возросли вдвое. Низкооплачиваемые служащие университета, получавшие в месяц всего лишь 6 рублей, очутились в катастрофическом положении. Оно усугубилось еще тем, что в том же году ректор запретил женам университетских служащих подряжаться стирать белье, запретил работу, которая была им немалым подспорьем. Летом 1892 года один из служащих умер от голода.
Узнав об этом трагическом случае, Александр Григорьевич созвал совещание профессоров физико-математического факультета. Всех профессоров факультета ему собрать не удалось, так как были каникулы. На этом частном собрании было решено созвать экстренное совещание всего факультета. Была создана комиссия по вопросу о вознаграждении служащих вспомогательными средствами физико-математического факультета. Комиссию возглавил Столетов.
Детальнейшим образом исследовав сложившееся положение, Столетов выяснил, что и сторожа и дворники давно уже получили прибавку и лишь служащие при лаборатории остались на прежнем окладе. Комиссия, в которую вошли профессора В. В. Марковников, Н. Е. Жуковский, К. А. Тимирязев, А. П. Павлов, М. А. Мензбир, В. К. Церасский и В. И. Вернадский, обсудив все вопросы, составила протокол, в котором говорилось:
«а) что, за крайне немногими исключениями, служители учебно-вспомогательных учреждений вознаграждаются гораздо менее, чем дворники университета;
б) что при назначении служителям прибавки с июля 1892 года имелось в виду: с одной стороны, занималось ли данное лицо стиркой белья (ныне воспрещенной), или нет, – а с другой стороны, какие-то особые аттестации, сделанные без ведома г. г. заведывающих и иногда совершенно неточные. Так, о некоторых служителях в проекте прибавок помечено: «имеет посторонний заработок»; о других: «имеет время носить дрова» (хотя этот вопрос не мог быть решен помимо заведывающего учреждением); о третьих: «получает от профессора столько-то» (что присутствующими в заседании профессорами было категорически опровергнуто);
в) что распределение пособий, выданных служителям к новому году, также сделано было помимо г. г. заведывающих, и в некоторых случаях – весьма произвольно и неравномерно».
Этот протокол был послан попечителю учебного округа графу Капнисту. Граф ответил безапелляционным письмом на имя А. Г. Столетова. Он писал:
«…из протокола я усматриваю во-1-х, что в него включены обстоятельства, совершенно выходящие из пределов компетентности комиссии, а именно обсуждение общих распоряжений правления по администрации университета, как, например, обсуждение вопроса об увеличении содержания и числа служителей, вовсе при учебно-воспитательных учреждениях не служащих, например, чернорабочих, сторожей, дворников и т. п., относительно коих ни отдельные заведывающие учреждениями, ни комиссия, из них образованная, не призваны судить, да и не могут иметь в руках тех данных, которые обусловили принятие правлением той или другой меры.
Во-вторых, – чему я не могу не придать особого значения и что главным образом лежит на Вашей ответственности как председателя комиссии, – в протоколе заключаются неуместные и резкие выражения относительно действий правления, по отношению распоряжения коего, например, допущено выражение «весьма произвольно» и т. п.
Наконец, по наведенным справкам, я удостоверился, что данные, на которых комиссия основывала свои суждения, были добыты Вами частным обращением к писцу канцелярии правления, каковые сведения были переданы Вам помимо распоряжения и ведома не только ректора, как председателя правления, но даже секретаря…
Затем я считаю себя обязанным поставить Вам, как председателю комиссии, на вид, во-1-х, допущенные Вами в протоколе несоответствующего полномочиям комиссии обсуждения и критики действий правления, во-2-х, совершенную неуместность резких выражений, чему я придаю особое значение, и прошу Вас впредь в сношениях с правлением не выходить из пределов, общепринятых в сношениях с официальными лицами и учреждениями».
Столетова особенно возмутила фраза в письме Капниста, говорящая о том, что Столетов «частным обращением» к писцу добыл сведения, на которых зиждилось постановление комиссии. В ответном письме графу Капнисту Столетов подробно изложил все обстоятельства составления протокола. «Приступая к занятиям комиссии, – писал Столетов, – я счел существенно необходимым ознакомиться и ознакомить г.г. членов с точными цифрами вознаграждения служителей, взятыми из официального источника. С этой целью я, в присутственный день и час (утром 24 сентября), в канцелярии правления открыто обратился к помощнику секретаря правления, а потом и к секретарю (только что входившему в канцелярию), с запросом, не найдут ли они возможным предоставить мне для просмотра относящиеся к данному вопросу документы. Получив согласие, при чем тут же при мне приказано было одному из писцов подобрать и передать мне соответствующие дела на ведомости, – я того числа вечером получил те и другие для просмотра на дому, и после этого ни за какими иными справками к писцу не обращался. Таким образом, обвинение, будто я «частным обращением к писцу канцелярии правления» добыл какие-либо данные, основано на неточном сведении, доставленном Вашему сиятельству».
Капнист был удовлетворен ответом Столетова, но продолжал, однако, настаивать на неуместности резкой характеристики такого высокого учреждения, как правление университета.
Ректор Боголепов был страшно недоволен, что Столетов через его голову обратился сразу к попечителю. Боголепов попрежнему утверждал, что Столетов самовольно взял документы у письмоводителя, иными словами, обвинял профессора в краже. Он даже потребовал очной ставки Столетова с писцом. Письмоводитель подтвердил все, что говорил Столетов. Клевета Боголепова была обнаружена. Но ректор отказался извиниться перед профессором. После этого инцидента Столетов перестал подавать Боголепову руку.
С осени 1892 года отношения Столетова с реакционной профессурой, предводительствуемой Боголеповым и его помощником профессором Некрасовым, обостряются. Когда профессора университета хотели подать Боголепову, собиравшемуся уйти из университета, адрес с просьбой остаться, Столетов отказался его подписать. Не подписал адреса и В. В. Марковников, он даже написал на адресе «совершенно не согласен».








