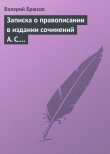Текст книги "Мифы и реалии пушкиноведения. Избранные работы"
Автор книги: Виктор Есипов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Пушкин и декабристы
«К убийце гнусному явись…»
117 марта 1834 года Пушкин, продолжая размышлять над недавними событиями истории России, записал в дневнике: «Но покойный Государь (Александр I. – В. Е.) окружен был убийцами его отца. Вот причина, почему при жизни его никогда не было бы суда над молодыми заговорщиками, погибшими 14-го декабря. Он услышал бы слишком жестокие истины. NB. Государь, ныне царствующий, первый у нас имел право и возможность казнить цареубийц или помышления о цареубийстве; его предшественники принуждены были терпеть и прощать» (ХII, 322; курсив наш. – В. Е.).
Эта дневниковая запись никогда не привлекала особого внимания пушкинистов, ее не принято было цитировать, что далеко не случайно. В самом деле, до октября 1917 года общественное мнение стыдливо избегало непредвзятой оценки деяний и планов декабристов, а тем более не допускало возможности признать объективную логику в реакции властей, подвергших заговорщиков суровой каре. Ведь это общественное мнение формировалось той частью русской интеллигенции, которая, по определению Н. А. Бердяева, «корыстно относилась к самой истине, требовала от истины, чтобы она стала орудием общественного переворота, народного благополучия, людского счастья», и чье основное моральное суждение «укладывается в формулу… долой истину», если она стоит на пути заветного клича «долой самодержавие»9494
Бердяев Н. А. Философская истина и интеллигентская правда // «Вехи. Из глубины». М., 1991. С. 17–18.
[Закрыть].
В советское же время эта цитата из Пушкина была бы сочтена идеологически враждебной существующему строю и могла навлечь на осмелившихся воспроизвести ее в публичной полемике репрессии, тяжесть которых зависела бы от того, в какие годы был бы совершен этот идеологический проступок: 30-е, 40-е или 70-е (причем в иные периоды общественной жизни такие репрессии могли оказаться не менее тяжелыми, чем те, что выпали на долю декабристов). В советские десятилетия был создан своего рода культ: поклонение декабристам, ведь они, как было установлено, «разбудили Герцена» и т. д. В этом идеологическом контексте даже в пушкинском наследии важнейшей проблемой стали его идейные и дружеские связи с декабристами. Пушкин должен был предстать перед многомиллионным читателем безусловным политическим единомышленником декабристов, революционером, борцом с самодержавием. Именно тогда в научный оборот окончательно был введен как пушкинский некий стихотворный текст, приписываемый ему некоторыми его довольно близкими современниками, который, как они полагали, являлся первоначально заключительной строфой программного пушкинского стихотворения «Пророк». В ней император Николай I, утвердивший решение суда о казни пятерых декабристов, характеризуется как «гнусный убийца». Вот один из нескольких вариантов этой строфы, опубликованный в самом авторитетном академическом пушкинском собрании сочинений, правда, там она никак не связывается с «Пророком», а приводится в качестве самостоятельного неоконченного текста:
Восстань, восстань, пророк России,
В позорны ризы облекись,
Иди, и с вервием на выи
К у.<бийце> г.<нусному> явись
(III, 461).
Отметим здесь научную корректность редакторов тома, сопроводивших оба «расшифрованных» слова в последней строке скобками и вопросительными знаками. А в примечаниях сообщается, что строка печатается с «конъектурой, предложенной Цявловским» и что в собрание сочинений Пушкина эти стихи вводятся впервые (III, 1282).
Итак, приведенная нами строфа была признана пушкинской, что получило в советском пушкиноведении дальнейшее развитие. Уже трактовка самого стихотворения «Пророк» стала даваться сквозь призму этого сомнительного текста.
Так, в собрании сочинений 1969 года, изданном под редакцией Д. Д. Благого, находим: «П р о р о к. – Написано под впечатлением казни пяти и ссылки многих из декабристов на каторгу в Сибирь. В основу положен образ библейского пророка – проповедника правды и беспощадного обличителя грехов и беззаконий царской власти; некоторые мотивы были взяты Пушкиным из книги самого пламенного и вдохновенного из древнееврейских пророков, Исайи, погибшего мучительной смертью. Первоначальный конец (последняя строфа) стихотворения дошел до нас в нескольких, едва ли вполне точных и расходящихся в мелочах, но в основном совпадающих, записях:
Восстань, восстань, пророк России…
Позднее (стихотворение было впервые опубликовано только в 1828 году) Пушкин отказался от этой концовки, заменив ее новым четверостишием…» 9595
Пушкин А. С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. М., 1969. С. 484, 485.
[Закрыть] (курсив наш. – В. Е.).
О пушкинском «Пророке» ко времени выхода процитированного комментария уже было написано множество вдохновенных страниц, суммарный объем которых в тысячи раз превышает объем самого текста стихотворения. Для адекватного осмысления его глубочайшего содержания использовались высокие и сложные формулы.
Так, Владимир Соловьев находил, что в «Пророке» «высшее значение поэзии и поэтического призвания взято как один идеально законченный образ, во всей целости, в совокупности всех своих моментов, не только прошедших и настоящих, но и будущих. Болезненный и мучительный процесс духовного перерождения проходит перед нами в мгновенных картинах и тут же завершается целиком. Но в действительности он ведь не завершен. Пусть поэт в самом деле ощутил себя пророком, пусть он в самом деле восходил на пустынную гору высшего вдохновения, где видел серафима и слышал голос Божий. Все это было, но полное его внутреннее перерождение – еще впереди…»9696
Соловьев В. Значение поэзии в стихотворениях Пушкина // «Пушкин в русской философской критике. Конец XIX – первая половина XX в.». М., 1990. С. 79.
[Закрыть].
Вячеслав Иванов «в ослепительных, как молния», строках «Пророка» видел, как «сказалась с мощною силой призыва вся истомившая дух жажда целостного возрождения»9797
Иванов В. Два маяка. (Там же. С. 257.)
[Закрыть].
Семен Франк считал это гениальное стихотворение «бесспорно величайшим творением русской религиозной лирики, которое, по авторитетному свидетельству Мицкевича, выросло у Пушкина из основного его жизнепонимания, из веры в свое собственное религиозное призвание как поэта»9898
Франк С. Религиозность Пушкина. (Там же. С. 389.)
[Закрыть].
В представлении же корифея советской пушкинистики все выглядит совершенно ясно и просто: «Написано под впечатлением казни пяти и ссылки многих из декабристов на каторгу…» Это уже развитие идеи. Первый же и главный шаг, повторимся, был сделан при составлении академического собрания сочинений: приписываемый Пушкину текст был признан пушкинским.
В результате возникло явное противоречие в пушкинской оценке одного и того же поступка Николая I: в дневниковой записи 1834 года и в приведенных стихах факт казни декабристов оценивается с диаметрально противоположных позиций. Нам могут возразить, что за семь с лишним лет взгляды Пушкина могли измениться, и таких случаев, когда его оценки тех или иных событий или исторических лиц менялись во времени, в его творческом наследии немало. Но, во-первых, речь здесь идет не об изменении взглядов, а о полной их смене на противоположные: обвинительная оценка конкретного исторического поступка императора сменилась на оправдательную. А во-вторых, взгляды Пушкина не претерпевали за это время существенных изменений: и в 1826 году его оценка происходящих событий, как мы это постараемся показать дальше, кардинально отличалась от той, что заявлена в крамольном четверостишии. Если же предположить, что подобные стихи могли вылиться из-под его пера под влиянием момента, импульсивно, то мы, несомненно, имели бы куда более совершенный эстетически, куда более пушкинский текст, нежели тот, что нам предлагают.
Ведь помимо противоречия смыслового здесь возникло и еще одно противоречие, чисто художественного свойства.
Дело в том, что даже самый беглый анализ злополучной строфы убеждает в ее полной эстетической несостоятельности, что отмечено подавляющим большинством пушкинистов. Трудно назвать кого-нибудь, кроме Благого, кто бы оспаривал такую оценку. Например, П. А. Ефремов, сначала допускавший возможность принадлежности этих строк Пушкину, в третьем издании собрания сочинений поэта, вышедшем под его редакцией, отказался поместить это «плохое и неуместное четверостишие» даже в примечаниях, считая его упоминание рядом с «Пророком» недостойным памяти Пушкина. Валерий Брюсов указывал на «явную слабость этих виршей». Один из наиболее авторитетных исследователей наших дней В. Э. Вацуро в комментариях к воспоминаниям современников о Пушкине признает эти строки «художественно беспомощными».
Против принадлежности Пушкину рассматриваемого четверостишия говорит также его лобовая политизированность, столь мало свойственная пушкинской лирике, а также весьма малая вероятность характеристики царя как «убийцы гнусного», в чем убеждает хотя бы текст дневниковой записи Пушкина 17 марта 1834 года.
Кстати, тут уместно вспомнить, что конъектура текста предложена М. А. Цявловским тоже в советское время. И возникает вопрос, почему именно «гнусному»? И разве не было действительно гнусным намерение наиболее радикальной части декабристов истребить всю царскую фамилию, включая малолетних детей? А убийство безоружного Милорадовича, героя Отечественной войны 1812 года, выстрелом в упор на Сенатской площади? И мотивировка этого убийства в советском историческом исследовании? Вот как описывается этот эпизод восстания 14 декабря в книге М. В. Нечкиной: «Было 11 часов утра. К восставшим подскакал петербургский генерал-губернатор Милорадович, стал уговаривать солдат разойтись… вынимал шпагу, подаренную ему цесаревичем Константином с надписью: ”Другу моему Милорадовичу“, напоминал о битвах 1812 г. Момент был очень опасен: полк пока был в одиночестве, другие полки еще не подходили, герой 1812 г. Милорадович был широко популярен и умел говорить с солдатами. Только что начавшемуся восстанию грозила большая опасность. Милорадович мог сильно поколебать солдат и добиться успеха. Нужно было во что бы то ни стало прервать его агитацию, удалить его с площади. Но, несмотря на требования декабристов, Милорадович не отъезжал и продолжал уговоры. Тогда начальник штаба восставших декабрист Оболенский штыком повернул его лошадь, ранив графа в бедро, а пуля, в этот же момент пущенная Каховским, смертельно ранила генерала. Опасность, нависшая над восстанием, была отражена»9999
Нечкина М. В. Декабристы. 2-е изд., испр. и доп. М., 1982. С. 109.
[Закрыть] (курсив наш. – В. Е.).
Итак, по логике историка, ради спасения восстания, ради идеи можно, оказывается, не останавливаться ни перед чем: цель оправдывает средства! Тут проявляется столь свойственная определенной части интеллигенции «та беспринципная, ”готтентотская“ мораль, которая оценивает дела и мысли не объективно и по существу, а с точки зрения их партийной пользы или партийного вреда», и характерное для нее «принципиальное отрицание справедливого, объективного отношения к противнику»100100
Франк С. Л. Этика нигилизма //«Вехи. Из глубины». С. 195.
[Закрыть].
Нам предлагают поверить, что Пушкин в 1826 году воспринимал подобные поступки и намерения декабристов иначе, чем он воспринимал их 17 марта 1834 года, делая запись в своем не предназначенном для публикации дневнике, или иначе, чем мы сегодня, но для этого нет достаточных оснований.
Да и сама психология поведения поэта в пору предполагаемого написания приписываемых ему стихов не позволяет поверить, что такие стихи действительно могли быть им написаны. Но это мы рассмотрим несколько позднее. А сейчас обратимся к доводам тех пушкинистов, оппонентами которых мы предстаем в настоящих заметках.
2Итак, текст строфы, о которой идет речь, дошел до нас в нескольких отличающихся друг от друга вариантах, записанных со слов некоторых современников Пушкина, входивших в его окружение. Наиболее существенные разночтения относятся к четвертой строке. В академическом собрании сочинений приводится четыре источника текста (III, с. 1282). В двух из них («Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851–1860 годах» и сборник Лонгинова-Полторацкого) четвертая строка дается одинаково:
К У. Г. явись.
В третьем источнике (биографический очерк «Пушкин», составленный П. П. Каратыгиным под редакцией П. А. Ефремова) четвертая строка не приводится вовсе.
В четвертом источнике (публикация А. П. Пятковского в «Русской старине» в марте 1880 года) приводится другой вариант четвертой строки:
К царю..... явись!
В академическом собрании, как известно, принят первый вариант.
Нельзя не остановиться на том, каким образом аргументирован такой выбор. Редакторы тома М. А. Цявловский и Т. Г. Цявловская-Зенгер отсылают читателя к книге «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым…», вступительная статья и примечания к которой написаны Цявловским. В указанной книге находим буквально следующее: «Как должна читаться четвертая строка, остается неизвестным, но во всяком случае не так, как читается в заметке Пятковского – ”Къ царю.....явись!“, где точками (причем точка не соответствует букве слова) скрыто какое-то очевидно нецензурное по тому времени слово…»101101
Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851–1860 годах. М., 1925. С. 93.
[Закрыть] (курсив наш. – В. Е.).
Вот, собственно, и все доказательство! С помощью столь несложного аргумента («во всяком случае, не так, как читается в заметке Пятковского») (!) один из двух вариантов четвертой строки был объявлен принадлежащим Пушкину и в таком качестве вот уже около полувека присутствует в самом авторитетном пушкинском издании.
Таков же и уровень обоснования «конъектуры, предложенной Цявловским» в академическом издании: «Что-то очень оскорбительное для Николая заключают в себе и слова, начинающиеся на ”у“ и ”г“, в записи Бартенева, если он их не решился записать даже в своей тетради. Не назвал ли Пушкин Николая I за казнь пяти декабристов ”убийцей гнусным»102102
Там же. С. 93–94.
[Закрыть]?
Наши сомнения в возможности такой характеристики царя Пушкиным мы привели выше. Здесь лишь заметим, что на подобном уровне аргументации легко могут возникнуть и другие варианты расшифровки букв «У. Г.».
Не более убедительным выглядит и биографическое обоснование этой версии.
Существует легенда, по которой Пушкин будто бы взял эти стихи с собой, когда в начале сентября 1826 года в сопровождении фельдъегеря выехал из Михайловского в Москву по вызову царя. Основывается она на показаниях тех же его современников, со слов которых стихи записаны: С. А. Соболевского, А. В. Веневитинова, С. П. Шевырева, П. В. Нащокина.
Однако при внимательном сопоставлении показаний выясняется, что они явным образом противоречат друг другу по самым существенным вопросам, а иные из них страдают отсутствием внутренней логики. Это и неудивительно, ведь между рассказами мемуаристов и самими событиями, о которых они вспоминают, прошли десятилетия!
Главным свидетельством является рассказ Соболевского, по которому Пушкин будто бы был испуган потерей листка, содержащего текст крамольного четверостишия, предполагая, что он мог быть обронен им во дворце во время аудиенции у императора. А затем этот листок, по утверждению Соболевского, отыскался у него на квартире: «…вот то место, где он выронил (к счастию – что не в кабинете императора) свои стихотворения о повешенных, что с час времени так его беспокоило, пока они не нашлись!!!»103103
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1974. С. 8.
[Закрыть].
Но такой рассказ предполагает, что поэт после высочайшей аудиенции приехал прямо к Соболевскому. На самом деле все было совершенно иначе: в письме М. Н. Лонгинову 1855 года сам Соболевский сообщал, что «по приезде Пушкина в Москву он жил в трактире ”Европа“, дом бывшего тогда Часовникова на Тверской»104104
Там же. С. 372.
[Закрыть]. Причем, по свидетельству Лонгинова, Пушкин из дворца направился «в дом… дяди своего Василия Львовича Пушкина, оставивши пока свой багаж в гостинице дома Часовникова… на Тверской»105105
Пушкин. Письма. Т. II. М.; Л., 1928. С. 182.
[Закрыть].
Об этом же сообщает П. И. Бартенев в «Заметке о Пушкине», опубликованной в 1865 году: «…на Басманной же жил в своем доме дядя поэта Василий Львович Пушкин, к которому Александр Сергеевич и приехал прямо из дворца, так как родителей его, Сергея Львовича и Надежды Осиповны, в то время не было в Москве»106106
Бартенев П. Л. О Пушкине. Страницы жизни поэта. Воспоминания современников. М., 1992. С. 264.
[Закрыть].
Между двумя сообщениями Соболевского временна́я разница в двенадцать лет. Вероятно, за этот срок его воспоминания утратили прежнюю отчетливость и ему стало казаться, что Пушкин приехал из дворца прямо к нему. Во всяком случае, сегодня его воспоминания 1867 года не могут быть признаны достаточно достоверными: ситуация с отысканием стихов в его квартире не поддается логическому объяснению.
Однако слухи о том, что Пушкин в сентябре 1826 года привез в Москву какие-то «возмутительные» стихи, впервые были упомянуты в печати за год до публикации письма Соболевского. Впервые о них упомянул историк М. И. Семевский в 1866 году, причем его отношение к этим слухам было весьма критическим: «…в тогдашнем обществе, принимавшем живейшее участие в судьбе своего любимца, ходили о Пушкине и о разговоре его с государем самые разноречивые, самые нелепые толки»107107
Семевский М. И. Прогулка в Тригорское // «С.-Петербургские ведомости». 1866. № 163.
[Закрыть]. Далее Семевский приводит один такой рассказ, по которому Пушкин, спускаясь по лестнице дворца после встречи с императором, заметил на ступеньке «лоскуток бумажки» и с ужасом узнает в нем «собственноручное небольшое стихотворение к друзьям, сосланным в Сибирь». Семевский высказывает убеждение, что подобные рассказы – «не более как басня».
А. Н. Вульф, по сообщению Семевского, отнесся к этому рассказу весьма скептически и поведал ему, что Пушкин из желания порисоваться перед дамами мог «поприбавить такие о себе подробности, какие разве были в одном его воображении»108108
Там же.
[Закрыть].
Не менее отрицательно по поводу подобных слухов, в частности по поводу сообщения Соболевского, отозвался П. А. Вяземский. В письме Бартеневу 6 марта 1872 года он писал: «…полагаю, что Соболевский немножко драматизировал анекдот о Пушкине. Во-первых, невероятно, чтобы он имел эти стихи в кармане своем, а во-вторых, я видел Пушкина вскоре после представления его Государю и он ничего не сказал мне о своем испуге»109109
Бартенев П. И. О Пушкине. С. 408.
[Закрыть].
Кроме того, показаниям Соболевского противоречат воспоминания другого пушкинского знакомца – С. П. Шевырева, в которых утверждается, что Пушкин, хорошо принятый императором, «тотчас после этого… уничтожил свое возмутительное сочинение и более не поминал об нем»110110
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 39.
[Закрыть]. Тем самым, по воспоминаниям Шевырева, получается, что Пушкин не мог рассказать Соболевскому о существовании стихов, а тем более сообщить ему их содержание.
Но самые большие противоречия с показаниями Соболевского содержит рассказ П. В. Нащокина, записанный Бартеневым: «В этот же раз Павел Войнович рассказал мне подробнее о возвращении Пушкина из Михайловского в 1826 году. Послан был нарочный сперва к псковскому губернатору с приказом отпустить Пушкина. С письмом губернатора этот нарочный прискакал к Пушкину. Он в это время сидел перед печкою, подбрасывал дров, грелся. Ему сказывают о приезде фельдъегеря. Встревоженный этим и никак не ожидавший чего-либо благоприятного, он тотчас схватил свои бумаги и бросил в печь: тут погибли его записки… и некоторые стихотворные пьесы, между прочим, стихотворение «Пророк», где предсказывались совершившиеся уже события 14 декабря. Получив неожиданное прощение и лестное приглашение явиться прямо к Императору, он поехал тотчас с этим нарочным и привезен был прямо в кабинет Государя»111111
Там же. С. 187.
[Закрыть] (курсив наш. – В. Е.).
Отметим в рассказе Нащокина следующие важные моменты:
1) Нащокин считает, что вопрос об освобождении Пушкина был решен еще до встречи с императором. Кстати, так же трактует события и П. В. Анненков в своих «Материалах для биографии А. С. Пушкина». Таким образом, по версии Нащокина, для Пушкина не было никаких оснований везти на встречу с царем в кармане сюртука (как утверждал Соболевский) крамольные стихи;
2) Нащокин утверждает, что Пушкин, узнав о приезде фельдъегеря, сжег все свои рукописи крамольного содержания, в том числе стихотворение «Пророк». Значит, и по этому пункту воспоминаний Нащокина нечего было везти Пушкину в кармане сюртука в Москву.
Разумеется, комментаторы воспоминаний Нащокина считают, что его показания в отмеченных нами пунктах не очень точны, и мотивируют это следующими, довольно резонными соображениями: «Нащокин не был свидетелем этих событий и сообщает о них со слов Пушкина, по памяти, приблизительно»112112
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 443.
[Закрыть] (курсив наш. – В. Е.).
Но, помилуйте, хочется возразить им, а разве другие мемуаристы делают свои сообщения «не со слов Пушкина, по памяти»? А разве тексты самого четверостишия существуют в каком-либо другом виде, кроме как в их сбивчивых и отличающихся друг от друга вариантах? Мы не беремся судить, кто из мемуаристов более точен, мы хотим только подчеркнуть, что версии Нащокина и Соболевского расходятся в одном из самых существенных моментов: мог ли привезти Пушкин в Москву, на встречу с императором, крамольные стихи, или нет.
Следует также особо остановиться на том утверждении Нащокина, по которому в стихотворении «Пророк», якобы сожженном Пушкиным перед отъездом из Михайловского, «предсказывались совершившиеся уже события 14 декабря».
Такую характеристику никак нельзя отнести ни к известному нам стихотворению, ни к рассматриваемому четверостишию «Восстань, восстань, пророк России!..». Любопытно, что подобным же образом характеризуют некое «возмутительное» стихотворение Пушкина другие мемуаристы, на показания которых ссылаются сторонники рассматриваемой нами легенды. Так, например, М. П. Погодин исправил при публикации в приведенном выше тексте Соболевского слова «стихотворения о повешенных» на «стихотворение на 14 декабря».
О пушкинских стихах «на 14 декабря», получивших хождение в 1826 году, пишет в своих воспоминаниях Ф. Ф. Вигель113113
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 228–229.
[Закрыть], однако он прямо указывает, что имеет в виду стихотворение «Андрей Шенье», напечатанное с цензурными сокращениями в издании 1826 года «Стихотворения А. Пушкина».
В связи с этим возникает вопрос: не могли ли Нащокин и Погодин за давностию лет перепутать стихотворения «Пророк» и «Андрей Шенье»? Тем более, если вспомнить, что в известном письме к П. А. Плетневу 4–6 декабря 1825 года сам Пушкин написал об этих стихах следующее: «Душа! я пророк, ей-богу пророк! Я ”Андрея Шенье“ велю напечатать церковными буквами во имя Отца и Сына etc.»114114
Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 102.
[Закрыть].
Вполне вероятно, что это пушкинское откровение ко времени записей Бартеневым рассказов о Пушкине было им известно (опубликовано письмо Бартеневым в 1870 году). В памяти мемуаристов восклицание «я пророк» и стихотворение «Андрей Шенье», в какой-то степени действительно «предсказывающее» события 14 декабря, каким-то образом соединились, вот почему, говоря о стихотворении «Пророк», они считают, что в нем «предсказывались совершившиеся уже события 14 декабря».
Так или иначе, но это еще одно противоречивое место в показаниях мемуаристов, снова свидетельствующее о том, что их воспоминания не могут приниматься нами безоговорочно.
Мы не касались еще воспоминаний А. В. Веневитинова, о которых в 1880 году поведал А. П. Пятковский: «А. В. Веневитинов рассказывал мне, что Пушкин, выезжая из деревни с фельдъегерем, положил себе в карман стихотворение ”Пророк“, которое в первоначальном виде оканчивалось следующею строфою…»115115
Русская Старина. Март. 1880. С. 674.
[Закрыть] (далее приводятся стихи о «пророке России». – В. Е.).
Что можно заметить по этому поводу? Такое свидетельство (через третье лицо) никак не может быть признано нами достаточным, хотя бы на том же основании, на каком сторонниками легенды отвергаются показания Нащокина (кстати, ссылавшегося в своих воспоминаниях непосредственно на Пушкина): ни Пятковский, ни Веневитинов «не были свидетелями событий» и сообщают о них «по памяти, приблизительно», а Пятковский еще и с чужих слов.
Итак, мы сопоставили в самых важных моментах воспоминания и мнения нескольких пушкинских современников и можем подвести некоторые итоги.
Рассказ Соболевского о том, что Пушкин привез из Михайловского в кармане сюртука «возмутительные стихи», вызвал критическое отношение Вяземского, Семевского и Вульфа. Рассказу Соболевского, страдающему отсутствием внутренней логики, противоречат в самом существенном месте воспоминания Шевырева и особенно Нащокина. Воспоминания Веневитинова опубликованы не им самим, а в пересказе Пятковского. Все эти показания появились спустя десятилетия после описываемых событий.
Мы, как уже было отмечено, не ставим себе здесь задачу установить истину. Наша цель значительно проще: показать, что возобладавшее в советском пушкиноведении мнение о существовании крамольной строфы «Пророка» и о готовности Пушкина в случае неблагоприятного исхода аудиенции 8 сентября 1826 года предъявить эти стихи императору не подтверждается никакими реальными фактами.