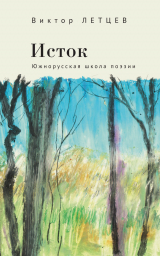
Текст книги "Исток. Южнорусская школа поэзии"
Автор книги: Виктор Летцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
В. М. Летцев
Исток. Южнорусская школа поэзии
Конвенция (не)реальности, или Киевский opus magnum современной русской поэзии
…Личная автогеография порой таит в себе нечто большее, нежели сведения о себе любимом и собственных вехах на пути. «Всякая эпоха переходна, – напоминает автор этой книги. – Всякая переходит. Но можно переходить через улицу и переходить через Альпы. В первом случае рукой подать до дома. Во втором – очень многое надо взять с собой и очень многое оставить». Если вспомним известную сентенцию о том, что далеко бывает не до Америки, а до вокзала, то что же все‐таки удалось поэту унести и чего лишиться по дороге в свои шестидесятые, со времен которых он живет и работает в Украине?
Иными словами, в случае новой книги Виктора Летцева, в которую вошли стихи последних лет, что же привносит «киевский» концепт его поэтики (или в его лице «так называемая южно‐русская школа поэзии» (М. Берг) в современную русскую словесность? И каким образом «этимологические эксперименты», которыми цитируемый выше автор обозначает обновление «профетического пафоса» нашего героя, на самом деле, являются данью все той же «местной» традиции. А также ее, традиции, неизбежности в случае изменения и семантики места, и ее мистико‐философского модуса.
Если же серьезно, то есть, без снисходительных контаминаций в духе «дачного» Антоши Чехонте («Доехал до Харькова. Наконец‐то юг»), то речь, все‐таки, о более важных «технологических» моделях, нежели просто «территориальная» привязка Слова к бревну «национальных» смыслов, не замеченных на голубом глазу. Итак, классический метод постижения реальности в ее «поэтическом» оформлении – так называемая «рефлексия», пришпиленная к таблице жанров – разделяется, как известно, на «повествовательную» (американская традиция) и «назывную» (европейский канон). То есть, «называть вещи своими именами», а не перечислять их в столбик, каталогизируя реальность, как последний битник – это, согласитесь, все‐таки более ответственное и важное упражнение в демиургии. (В том, что автору книги присущи «созидательные» черты «поэтического» характера, отметило в свое время немало критиков («не чужда роль поэта‐демиурга и пророка»), и собранный воедино массив его текстов – в том числе, размышления о поэзии, теория стиха и выступления на публике – лишний раз это подтверждает).
Сам автор так обозначает вышеупомянутые векторы «демиургического» и «эпикурейского», скажем так, различия: «Соответственно я различаю: поэзию непосредственного выражения впечатлений мира (за этим – секулярная установка Нового Времени и опосредованность восприятия позитивным знанием) и поэзию, где восприятие мира опосредовано религиозно‐философским понятием, а предметом непосредственного обращения является Сакральное».
Впрочем, сама книга, напомним, представляет собой своеобразное избранное автора, куда вошли и старые, и новые стихи, и как раз на подобном примере «компиляции» и можно узнать (увидеть, расслышать, распознать) поэта во всей его «эволюционной» красе. Будучи по духу поэтом «концептуальным», Виктор Летцев начинает свое путешествие в прошлое с иронической поэзии 70‐х годов, дополнив ее любовной и философской лирикой последующих лет. «Тяжек нисхождения путь/ вхожденье в отверстый проем / вмещенье в последний предел / в кромешную смертную тьму», – словно не о себе самом, а обо всех нас и нашей общей судьбе провозглашает автор свой путевой лист‐манифест. И позднейшие тексты он тоже маркирует несколько по‐другому, практикуя в биографическом «остранении» авторскую отстраненность и объясняя статус «я» в публикуемых стихах следующим образом. «Этот статус – иной, чем прежде, непривычный… Это «я» (в том числе и не обозначенная личным местоимением «точка говорения») есть не эмпирико-биографический автор и не соответствующий ему герой – но некое сфокусировано‐общее человеческое Я, выступающее субъектной инстанцией в Бытийном отношении-говорении (ср., напр., державинское «Я телом в прахе истлеваю, / Умом громам повелеваю…» – здесь лирическое «Я» никак неотождествимо с эмпирическим «я» автора…).
Жанры, создающие при этом подобную «статусную» («безличную») реальность, не исключают, а дополняют друг друга, и жизнь в городе, где «Днепр, огибая острова, / Сплавляет лед по чинному теченью», уже не кажется уходом в «столичную» украинскую глубинку, о которой еще футуристы 1920‐х писали как о «зеленой тоске на этом хуторе, что Киевом зовется». «Концептуальный Мир‐Текст или Текст‐Мир принципиально двусмыслен, двузначен, двуобращен», – уверяет автор в статье «Концептуализм: чтение и понимание» (1989).
И вышеупомянутые модели бытования поэтического текста («американская» и «европейская») в его творчестве обыгрываются в виде каких‐то «общих», дополняющих, а не исключающих реальностей. «Конструктивный смысл этих «альтернатив», – уточняет автор, – конечно, не во взаимоисключении, а, кажется, напротив, в столкновении и взаимопроникновении двух пространств, двух миров – знания и мнения, которые могут пересечься в некоей «третьей точке», на границе или за пределами ее».
При этом тавтологии, встречающиеся в стихах Летцева (о которых всегда упоминала критика) – это ведь не только элемент поэтики, усиливающий экспрессию текста, но и основная «технологическая» особенность данного жанра. Какого жанра, спросим вслед за критикой? Какого именно жанра, уточним после того, как все случилось? Какого еще жанра нам надо, переспросим в конце «тавтологической», согласимся, цепочки бытия, иногда именуемой «пищевой». («Все что разрушилось / что сокрушилось / ниспало / я воздвигаю / все упраздненное / отринутое / восстанавливаю / воссоединяю все / что отъединилось / восставляю место мое / утверждаю основы мои / все подлинное во мне / все изначальное / все что я есть…»). Как видим, жанр в данном случае один – это, конечно же, Один. Или Перун, или Уицилопочтли – особой разницы при этом нет. Поскольку все это как всегда – сакральное камлание, набор заклинаний или, если угодно, ритуальные концентраты, словно повторы‐квадраты в блюзе, рок‐н‐ролле или госпеле (церковном, все‐таки, песнопении).
То есть, как в случае Летцева, «игра в слова» – это, на самом деле, постоянный поиск наугад, продвижение на ощупь, выстрел вслепую, в результате чего ценность представляет не результат, а сам процесс, и если его фиксация – без пресловутых «бубенчиков рифм» и прочего «мастерства» – имеет вид не совершенства, но совершенной работы (совершенно, искусно исполненной) – то это, по всей вероятности, и будет поэзия. А уж подобное совершенствование, как уверял автор на вручении ему Премии им. Андрея Белого, «никак не возможно без раскрытия‐обретения в этом искании энергии Изначального, которое есть источник всех даров и сокровищница всех смыслов, даже если мы и не догадываемся об этом источнике и он остается для нас бессознательным».
Как бы там ни было, но тот самый «мираж на большом отдалении», которым Франческо Бонами обозначал «реальность» в живописи, в нашем случае – весьма подходящая оптика для восприятия поэзии Виктора Летцева. Его книга – это пристальное вглядывание в горизонт отшумевших событий, многие из которых близки и дороги всем нам. Стоит взглянуть.
Игорь Бондарь‐Терещенко
I. Стихи разных лет
Вариации на тему А.С. Пушкина:
«Фонтан любви, фонтан печальный…»
«Фонтан любви, фонтан живой…»
«Фонтан любви, фонтан печальный!..»
Второй эпитет мне претит.
Скажу вот так: фонтан фатальный,
И пусть поэт меня простит.
Скажу еще: фонтан беспечный,
Кристалл веселья на весу…
Как ты строга была в тот вечер,
Как был загар тебе к лицу.
Как мгла горела, боже правый!
Как рассыпался над тобой
Фонтан любви, фонтан лукавый,
«Фонтан любви, фонтан живой!»
Три сонета
Девушке – осветителю в театре
1
Я встретил вас! Вот вам букет из роз!
Вам, пересмешница, сказавшей: ложе – ложь.
Вам, желтоокая. Вам, ветреница слов.
Вам, дщерь Юдифи. Вам, блудница снов.
Вот вам сонет! Светите им из лож!
(Раба на сцену! Свет! О, как угрюм.)
Вам муки муз. Мне – мук. Благодарю!
Он ваш. Он вам. И. да святится ложь!
Ни локтя правды. Правда (сон и снег!) —
когда без вас. О вас, для вас – лишь ложь.
Вы – песнь сирен. Она – лишь воск, лишь вождь
ушей и губ. Вас забыванье в дне
уместится. Твердите: ложе – ложь…
Я встретил вас. Дня нет…
2
Дня нет. И роли нет. Пишу слова.
Ваш выход, иудейка, и – ваш меч!
Ваш. Воли не прошу. Сон воли – вам.
Мне – ремесло, и жертвенник возжечь!
Возжечь – и не писать! Луну – и выть!
И кончено! И не расти трава!
И наг мой слог, и на груди глава,
как дай вам бог!.. А коль не даст – увы!
Увы, моя! Осталось долюбить
остаток. И осадок не будить.
Он птица не синица – воронье.
Он сказ не голос – скрежет по стеклу.
Смыкаю слух. За двух молюсь теплу.
Но не о вас моление мое!
3
Теперь о вас молчание мое.
Мое прощание. Не мстит моя молва.
Раздам слова. Но вам, лишь – жалость вам.
Теперь – ни зла нет. И трава быльё.
И сам! Гори мой карточный, мой май!
Крыла иллюзий – лепестками люстр.
И явь, как явь, и колокольный лай
к заутрене, приемлю – и молюсь!
Молюсь! За семь надежд – семь белых стай.
за семь небес – семь осиянных рун.
(О, сети солнц – лишь неизбежность лун!)
Молюсь! Свети же солнце и сверкай!
Свергай и лейся! И да будет миг
добра и утра, муки и любви!
май 1979 г.
«Теперь зима опомнится едва…»
Теперь зима опомнится едва,
Как беглый царь, на грани отреченья,
И Днепр, огибая острова,
Сплавляет лед по чинному теченью.
Залив раскрыт. Строптивым сквозняком
Продуты флейты ивняка речного.
Песок речной, дрожа озябшим ртом,
Глотает брагу снежного покрова.
Люблю смотреть на этот слезный пир
С крутого парка на высоком склоне,
Где под рукой прибрежный тонет мир
И все Левобережье на ладони.
А в городе гадают по часам.
Я сам включаюсь в этот счет проворный.
И горбится асфальт глубоко‐черный,
И шляется за мною по пятам.
И тут, и там уже витает хмель.
В составе воздуха – переизбыток влаги.
И повинуясь удивленной тяге,
Слетает с крыш дочерняя капель.
«Ладони твои – два дара, две доли…»
Ладони твои – два дара, две доли,
Две птицы, на волю отпущенных в поле.
Скитаются где‐то, с чужими сплетаются,
Тепло им, ладоням – они забываются…
Взовьются – и канут. И станут со мною
Горючей травою, плакучей листвою.
«Синяя ночь. Тишь и теплынь. Око…»
Синяя ночь. Тишь и теплынь. Око
Талой луны перья небес чистит.
И тополя все в серебре – сколько
Белых монет – не сосчитать! – листьев.
Но раскрадет свет серебра – утро.
Но исклюют тишь тишины – птицы.
Нет мне богатств – тени твоей смуты.
Нет тишины – голос, твои лица…
Надпись на книге
Знаю, когда‐нибудь вновь, книгу открыв,
ты забытую
Надпись прочтешь, а меж строк
память живую мою.
Глянут не глядя зрачки,
ласточки воспоминаний
Зыбкий покинут приют
и закружат над тобой…
И, с этих пор, ты полюбишь
эти нехитрые строки,
Где осыпается время,
как золоченый песок.
«Этот город сам не свой…»
Этот город сам не свой,
Без тебя неузнаваем,
А вчера казался раем
И беседовал со мной.
Без тебя властитель мой,
Мой учитель, свод Софийский,
Гордый крестник византийский,
Клонит купол золотой.
Вез тебя перевитой,
Бирюзовый, как в апреле,
Ослепительный «Растрелли»
Не парит над суетой.
Без тебя калитки той,
В старый сад, никто не ищет.
Без тебя я сам, как нищий
Над копилкою пустой.
На день рождения
Год от года,
Счет от счета
Все труднее сердце дышит.
День рожденья,
День круженья
Все печальнее и тише.
Только нет его милее,
Легче нет,
Прозрачней нету —
Беглой спицей
В колеснице
Он прокатится по свету.
«Друг друга нам нельзя касаться…»
Друг друга нам нельзя касаться,
Ни сном, ни голосом задев.
Лишь оглянись – и вновь раздастся
Кружащий, тающий напев.
Лишь оглянись – и вновь прольется
На раздорожье ворох трав,
И птичье племя распоется,
Листву на ноты разобрав.
«Ты вошла – и по‐новому время пошло…»
Ты вошла – и по‐новому время пошло,
От тебя начиная отсчет.
В этот год все поимое светом взошло,
И казалось не кончится год.
И казалось… А в дивном беспамятстве ваз
По неделям не вяли цветы,
И не двигалось солнце, и мучило нас,
И сияло нам до слепоты.
Птицы пели – и ты просыпалась, смеясь,
И лазурь проливалась в ответ,
Запевала свирель, и вилась, и вилась,
И казалось не кончится свет.
И казалось…
Аленушке
Дитя, Аленушка, Аленка!
Ручонка – тоненький смычок,
Воздушно‐шелковая чёлка,
На синей кофточке жучок.
В чернилах пальцы. Не сидится
На месте. Вроде ветерка:
Летает, нежится, кружится;
Нетерпелива и легка.
Красуется, читает книжки
Про рыцарей и королей.
А молчаливые мальчишки
Уже записки пишут ей.
В записках бред. Как это ново!
Ответа нет. Посланье вновь.
И в воздухе витает слово
Еще незримое…
Знание
Знаю я ярость и мощь твою
когда ты обрушиваешься внезапно…
Знаю любовь твою
что расщепляет мозг
расплавляет сознание
Знаю гнев твой
что вздымается кровью
от лживого слова…
знаю тяжесть твою…
Знаю все твое
и этого довольно…
[Всё во всем]
Это ты расщепляешь
замыкающиеся в темном
Это ты связуешь
рассеянное в сомнении
Это ты прорастаешь
в опустевшем сознании
Это ты мучительно прорастаешь
в замкнувшемся самосознании
Это ты светло прорастаешь
в больном сознании
Это ты неожиданно отступаешь
и отвращаешься…
память неожиданно отступает
и медленно отступает жизнь
Это ты объемлешь всё
Это ты прорастаешь во всем
Это ты всё во всём
1987
«А душа все летает туда…»
А душа все летает туда,
И дрожит, и под окнами бродит,
Будто тать в ожиданье суда,
Где последняя ночь на исходе.
Разве можно так больно любить?
Разве свет не повинен смежаться?
Говорят: нужно память убить.
Что мне в том? Нам уже не расстаться.
Нам уже не проститься с тобой.
Это будет без времени длиться.
Выжжет сердце. Скрестится с судьбой.
И умрет. И опять возвратится.
Загадка
Ни журавль, ни синица,
А доволен сам собой,
Хорохорится, ершится,
Побродяжка городской.
Сердобольная жилетка,
Да опасливый зрачок,
С ноготок грудная клетка,
Хвастунишка, дурачок.
Все б ему прыжки да прятки
По задворкам, по верхам.
С огольца и взятки гладки,
Сам встает, ложится сам.
День‐деньской одна забота:
Был бы цел да был бы сыт.
От призора, приворота
Сам себя заговорит.
Сам найдет себе горбушку,
Сам возьмет себе подружку.
Сам потужит‐погрустит,
Позабудет, посвистит.
«Горчайший мой собрат и друг…»
Борису Марковскому
Горчайший мой собрат и друг
Тишайший, ткущий под сурдинку
Созвучий вздорных полукруг,
Смятеннейшую паутинку,
Смотри! что лебединый крик
Звезда взошла в последней трети,
Скорбит пред вечностью старик,
А белый ангел двери метит.
И твердь сдвигается дрожа,
И вширь ложится книга жизни…
Семижды имени бежав,
Душа откроется на тризне.
В последней, смертной наготе
И прямоте. Крыла расправит…
И нам земные сны и те,
И те грядущие оставит.
И нет их слаще и страшней,
И жизнь глядит в себя, как в небыль,
И отирает слезы небом,
И белый город снится ей.
«Свет ли слабеющий…»
Свет ли слабеющий
Издалека?..
Круто на запад
Идут облака.
В дымке у края
Теряется след,
Ни возвращенья,
Ни памяти нет.
«Ну вот мы с тобою и снова в начале…»
Ну вот мы с тобою и снова в начале.
Семь бед за плечами, как лучшие дни.
Скорей же упругий зрачок поверни:
Бог света лазурь отпирает ключами.
Смотри, как бестрепетно сосредоточен
Багульник, как легкий ольшаник лучист;
Как бабочка, дышит безоблачный лист,
В шелках беспризорный кузнечик стрекочет.
Войди в этот неотвратимый покой,
В отверстую музыку лада и света,
В живое блаженство пчелиного лета,
В бесхитростный праздник роскошно‐скупой.
«Еще далеко до весны…»
Еще далеко до весны
И сны глубоки у природы,
А мы уже заражены
Безумием горшей свободы.
Так дети, ища новизны
И смысла в игрушечном мире,
Слагают бессчетные сны
Из кубиков ветхой цифири.
Но чудная птица живет
В прозрачном дому из кварцита,
Где вечный кончается счет,
И зренье, как сфера, открыто.
«Утвердясь в нерушимом порядке…»
Утвердясь в нерушимом порядке,
Терпеливой листвы ученик,
Я к непрочному миру привык,
Как школяр наигравшийся в прятки.
Жизнь снует, как челночная нить,
На себя натыкаясь с разбега.
Мне бы только до первого снега
Горсти разума не обронить.
Никогда я не чаял вернуть
Ни ручья, ни скользящего света,
Но люблю возвращение лета
И листвы восходящую суть.
«Перепутались дни – каждый собственным шумом живет…»
Перепутались дни – каждый собственным шумом живет.
Посмотри, как мелькают в глазах безотчетные беличьи
спицы.
Повернем же туда, где на площади улиц разлет,
Башня время, мигая, крадет и фонтанная чаша струится.
Здравствуй, шаткая влага, проточный дробящийся дом,
Оголенная поросль ума под сверкающей шапкой,
что видишь?
Пахнет свежим мелком истолченным и ручным
вороватым дождем,
Но сегодня, пожалуй, сумятицей вечной уже никого не обидишь.
Бестолковые братья мои, воробьиная шустрая мастъ,
По дворам промышляет нуждой – зоркой крошкой
себе на прожиток.
Хочешь – плачь, но нельзя уцелеть, чтобы в круг
отчужденья не впасть,
И нельзя не любить тот слепой вечереющий свиток.
Мне мерещится одуванчика распавшийся шар.
Это ты, не шутя, нагадала по книге японской.
Это по ветру летит кочевой приглянувшийся дар.
Что ж, удачи ему в этой ласковой роли неброской.
К ночи в городе вешнем, как вишни, цветут фонари.
Опускается синяя сеть, тяжелея от соли вселенской.
Разливается мгла. Лиловеет ветвей лабиринт.
И асфальтовый щит хорошеет от влажного блеска.
Спи же, время невидимо и не бежит никуда.
Как воздушный играющий ключ – лишь восходит
к упругому краю.
Голубые колеса причин и простая глазная вода, —
Вот и все, что поет. Только зеркало мира мерцает.
Киевские этюды
12
Пруд потемнел.
Низко солнце стоит на закате.
В ровной воде повторяется берег и солнце.
Жабы кричат – голодных артистов орава.
В кваканье этом
глухая таится обида,
глупая жалоба всех
на двусмысленность жизни.
На возвышении церковь и рядом
часовня стоит из грустного дерева вся
со взглядом скрипучим и тихим.
Римских кровей циферблат
и башенка с колоколами.
Глядь, молоточки пошли,
звон три часа отбивает.
Ловкий пружинный завод
и почерневшая медь.
Где здесь награда, где цель?
Есть ли течение здесь?
Воздух густеет.
Плывет и колеблется, перемещаясь.
В этот подвижным объем тополя
пух отпускают —
летит, подлетает, садится.
Сонное зрелище —
морок, слюда, иллюзорность.
Сны ли летают
или только призраки снов.
Медленно, медленно так
на сидениях дремлют,
пока не устанет качать.
Ниже, на спуске к Днепру,
Буйство и плеск разнотравья.
Желтый цветет чистотел —
желтым питается соком.
Тут же крапива цветет —
жалкая жалит в отместку.
Чинно на листьях сидят
Жучки в пиджачках из эмали.
Мушки летают и помнят
только лишь о пропитанье.
Бабочки дышат легко —
летают крича и мечась.
Скачут кузнечики, вечно
носясь с бестолковой заботой, —
что бы еще одолеть,
кого бы еще удивить.
Уже от духоты земля устала.
И нет дождя.
И пух летит, летит,
как полоумный.
Что за перегоны?
Что за ужимки?
Что за времена?
3
Лето в начале,
а липы уже отцвели.
Всех нас подвел календарь —
жалкая схема природы…
А на полянах сидит
одуванчиков легкая стая.
Легче уже и во сне
оперения не отыскать.
Так безнадежно легки,
что никак и взлететь невозможно.
Только привстал – и прощай
видимый дом и объем…
Душно. Совсем отцвели
каштаны. Цвет их уснувший
пестрым укрыл тротуар – кем вы были вчера?
Дворники ловко метут.
Ловко мелькают корзины.
Мусор бесцветный
засушенный и отрешенный —
где вы были вчера?
Только на смену взошли
грозди акации белой.
Пахнут, а ветер летит —
торгует во всех направленьях
запахом сладким —
успел, не успел – отходи!
Денег не надо,
Вся плата – внимательный шаг.
4
Еще цветет шиповник – вдовий бог,
оплаканный навеки в тех стихах,
что собраны в соцветья и горчат,
напоминая, что судьба пристрастна.
Напротив вечно,
стоя выше крыши,
качаются верхушки тополей:
туда‐сюда,
вчера‐сегодня‐завтра,
туда‐сюда.
У них одна забота —
как выше стать.
Туда‐сюда
и в небо.
Как устоять,
как выше стать.
Утренний город лучист.
Солнце на юго‐востоке.
Левобережье в дыму.
Мощные воды Днепра.
В тысячный раз постою
справа над темной водою,
в тысячный раз посмотрю
на ослепительный след…
Сентябрь в городе.
Уже не до купаний.
Нет‐нет, какой‐нибудь сорвется лист.
покачиваясь на упругой почве,
Глубоко дышат легкие деревья:
Каштаны, клены, липы, тополя.
Сентябрь в городе.
Каштановые сборы.
Уже висят на ветках еле‐еле
тяжелые колючие плоды,
как кулачки в ежовых рукавицах.
Кто преуспел – срывается на землю.
Сквозь шум слышны тяжелые удары —
слетит, расколется и, словно из оправы,
выскакивает маленький божок —
опрятный, влажный, хитрый колобок,
и по земле разбросаны без пары
никчемные колючие футляры.
Рыжеют листья.
Стебли трав рыжеют.
Рыжеет тех каштанов кожура.
И воздух сам по крохам, но рыжеет.
Сентябрь.
Нет‐нет какой‐нибудь сорвется лист.








