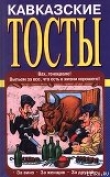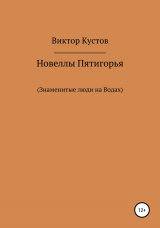
Текст книги "Новеллы Пятигорья. Знаменитые люди на Водах"
Автор книги: Виктор Кустов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Предчувствие
В начале октября 1837 года в Ставрополе ждали приезда императора Николая I, который возвращался из Тифлиса в Петербург. Так уж совпало, что в эти дни здесь же ожидали дальнейшего назначения ссыльные декабристы, которые получили милостивое позволение после Сибири служить на Кавказе.
Начальник Кавказской линии и Черномории Вельяминов, естественно, сопровождал императора. В тот день, когда прибыли ссыльные декабристы Николай Михайлович Сатин, тоже ссыльный, но по другой провинности и переведённый только что из Симбирска, завтракал у генерала Засса. Они уже перешли к вину, когда адъютант генерала доложил о прибытии разжалованных в солдаты.
– Это декабристы, – пояснил Сатину генерал и велел адъютанту, – проси их сюда.
Декабристов было шестеро. Одетые по-походному и усталые после дороги, они довольно спокойно приняли приглашение генерала присаживаться к столу и угоститься вином. Представились: Михаил Нарышкин, Владимир Лихарев, Михаил Назимов, Николай Лорер, барон Розен, князь Александр Одоевский. И всё же было видно, что такой приём их весьма удивил и обрадовал, обещая более лёгкие условия жизни не только по причине мягкого климата, но и иного, чем в Сибири, отношения властей. Впрочем, всем им теперь предстояло не только отбывать наказание, но и воевать, а это значит – подвергать свою жизнь опасности большей, чем морозы.
Скоро общение стало довольно непринуждённым, генерал не отделял себя от своих гостей, охотно отвечал на вопросы и с интересом расспрашивал о жизни в Сибири. Политики, естественно, не касались, хотя о приезде императора говорили, отметив, что тому тоже пришлось преодолеть немалое расстояние, чтобы посмотреть южные границы империи.
О каждом из вновь прибывших генерал знал по делам, с которыми уже ознакомился, и теперь сопоставлял эти знания со своими впечатлениями. Наиболее интересным ему показался Одоевский: было похоже, что тот нисколько не огорчён своим нынешним положением государственного преступника, не обижен на столь несправедливый зигзаг судьбы, хотя расположения к императору, несмотря на его милость, не питал. К тому же, он писал стихи. Один из них, сочинённый в далёкой Чите в ответ на известное стихотворение Пушкина «Во глубине сибирских руд», тоже был в деле. Генерал его помнил.
Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
И – лишь оковы обрели.
Но будь покоен, бард! – цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеёмся над царями.
Наш скорбный труд не пропадёт,
Из искры возгорится пламя,
И просвещённый наш народ
Сберётся под святое знамя.
Мечи скуём мы из цепей
И пламя вновь зажжём свободы!
Она нагрянет на царей,
И радостно вздохнут народы!
Стихотворение явно носило крамольный характер, но со дня его написания прошло почти десять лет, а они должны были сказаться. Генерал исподволь наблюдал за Одоевским, усмирили ли того годы. Спросил:
– А вы, князь, стихи продолжаете писать? Одоевский помедлил. Потом кивнул.
– У нас места поэтические, а события исторические, – продолжил Засс. – Не сомневаюсь, к вам обязательно придёт вдохновение.
– Да уже пришло, – вставил Нарышкин.
– Вот как? Уже что-то сочинили? – Оживился генерал. Одоевский неохотно кивнул. А Нарышкин, который от вина и радушного приёма поверил в лучшие перемены на новом месте, сообщил:
– Муза с Александром в одной повозке ехала, вот засмотрелся он на журавлей и продиктовал, а я записал…
– Уже здесь? – спросил Сатин.
– На подъезде к городу.
– Так прочтите же, – попросил генерал Одоевского. И торопливо добавил. – Оно ведь не касается политики.
– Птицы свободны, и их не беспокоит то, что беспокоит нас, -уклончиво отозвался Одоевский и негромко, глядя на товарищей, стал декламировать.
Куда несётесь вы, крылатые станицы?
В страну ль, где на горах шумит лавровый лес,
Где реют радостно могучие орлицы
И тонут в синеве пылающих небес?
И мы – на Юг! Туда, где яхонт неба рдеет
И где гнездо из роз себе природа вьёт,
И нас, и нас далёкий путь влечёт…
Но солнце там души не отогреет
И свежий мирт* чела не обовьёт.
Пора отдать себя и смерти и забвенью!
Но тем ли, после бурь, нам будет смерть красна,
Что нас не Севера угрюмая сосна,
А южный кипарис своей покроет тенью?
И что не мёрзлый ров, не снеговой увал
Нас мирно одарят последним новосельем;
Но кровью жаркою обрызганный чакал*
Гостей бездомный прах разбросит по ущельям.
На какое то время за столом установилась тишина. Наконец Засс прервал её:
– Я думаю, у вас это настроение скоро пройдёт. Мы научились воевать и напрасно своей жизнью наши солдаты не рискуют. Теперь император будет иметь представление о нашем здесь положении и об опасностях, так что и чины ваши скоро вернутся к вам, и свобода…
Ссыльные в ответ промолчали и, спустя некоторое время, сославшись на необходимость хорошего отдыха после дальней дороги, откланялись…
…Разъезжались в разные места службы в разное время. Одоевский задержался: как всегда где-то какие-то бумажки не вовремя дошли, а назначение он получил неблизкое, в Тифлис. Жил он в гостинице Найтаки, в центре города. Сатин часто к нему наведывался, а потом познакомил с Лермонтовым, с которым они учились и который тоже отправлялся в Тифлис. Тот остановился у своего родственника, начальника штаба войска Кавказской линии Петрова, но всё свободное время проводил со знакомыми. И, несмотря на разницу в возрасте, между ними установился тот самый контакт, который возникает при взаимной симпатии, ощущении взаимного интереса и нужности друг другу. Они легко находили общие, интересные обоим темы для разговора, иногда соревнуясь, кто точнее опишет того или иного знакомого. У обоих был острый ум, завидное понимание людей, и поразительным образом совпадали оценки. Одним словом, скоро Сатин уже чувствовал себя лишним в их общении. Но ему было интересно наблюдать за ними. В разговорах Лермонтов был более желчен и порой безжалостен в характеристиках, Одоевский, может быть, в силу возраста и опыта жизненных перипетий был более мягок. Говорил он просто и всегда предельно искренне. А если не хотел обидеть, но имел плохое мнение о каком-нибудь человеке, ничего не говорил.
Более всего они любили беседовать о состоянии русской литературы, которую Одоевский знал хорошо, в Сибири он даже читал лекции своим товарищам по её истории, и Лермонтов с очевидным интересом, почти не споря, его слушал. Говорили они и о правилах стихосложения, часто вспоминая Пушкинский лёгкий слог и его поразительную точность. Но Лермонтов считал, что тот во многих стихах поверхностен и совсем не затрагивает души. Довольно часто речь заходила о мистике, сопутствующей религии, обоим это было интересно, хотя Одоевский очевидно был более набожен, чем Лермонтов и Сатин. И в таких разговорах они оба чувствовали себя учениками. Одоевский, казалось, знал досконально историю религии и, не во всём разделяя её ритуалы, искренне верил в волю Всевышнего.
Иногда они читали друг другу стихи. Одоевский свои никуда не записывал, хранил в памяти и читал не очень охотно. Но читал хорошо, очаровывая слушателей, словно владел магией слова.
Лермонтов старался устроить, чтобы они вместе отправились в Тифлис…
Так в разговорах и ожидании предписаний и прожили ещё несколько дней в Ставрополе. Как раз до приезда императора.
В тот день, 17 октября, горожане с нетерпением ждали на улицах приезд царствующей особы. Но императора всё не было, и только уже в сумерках по улице под возгласы: «Царь! Царь!» в окружении горящих факелов проехало несколько тёмных экипажей.
И, стоя на балконе гостиницы, Одоевский вдруг произнёс, ни к кому конкретно не обращаясь: «Похоже на похороны. Ах если бы мы подоспели…» – вложив в эту фразу одному ему ведомый смысл. Затем залпом выпил бокал вина и добавил – Ave, Caesar, morituri te salutant.»11
Славься Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя.
[Закрыть]
Сатин, стоявший рядом с ним, негромко заметил:
– Это не тот цезарь, за которого стоит идти на смерть.
– Но он нас посылает, – также негромко отозвался Одоевский. И Сатин подумал, что в стихотворении о журавлях слишком много печальных предсказаний…
Теперь жизнь Одоевского была связана с кавказскими горами по обе стороны могучего хребта, с военными стычками, бивуаками и прочей солдатской жизнью. Теперь он знал, где покоится его двоюродный брат Александр Грибоедов, который в те давние годы, разделяя чаяния декабристов, тем не менее не верил в успех их заговора. Александр помнил, как когда-то тот выразил сомнение, что «сто прапорщиков переменят государственный быт России». Он тогда сказал Грибоедову о Христе, который был один…
Как же давно это было… Убит и навсегда остался в этой земле Грибоедов. Не стало на этом свете чарующего своими стихами Пушкина, с которым он, после написания ответа на его стихотворение, чувствовал незримую связь. И вот он убит завистником, столь же никчемным человеком, как и император… И как верно всё то, что он и многие его товарищи думали, высказал в своём стихотворении на «Смерть поэта» юный Миша Лермонтов. И как он благодарен, что Господь свёл их, предоставил возможность насладиться чудесным общением…
Его брата Александра нет на этом свете уже много лет. И им пережито такое, что в пору их юности немыслимо было представить… Он очень хотел и ему удалось побывать в имении Чавчавад-зе,увидеть вдову брата Нину Грибоедову. Они много и светло говорили об Александре… Он поднялся на гору Мтацминда, постоял у каменной плиты, под которой покоился прах брата…
Служил он в драгунском полку полковника Безобразова, где было немало разжалованных в солдаты. Но общались они в основном с офицерами. Это отношение к государственным преступникам шло от полковника, который в своё время сам попал в немилость императора. Красавец мужчина, пользующийся успехом у женщин, он дослужился до должности флигель-адъютанта его императорского величества, влюбился во фрейлину императрицы, княжну Хилко-ву, а найдя свою молодую жену вскоре после свадьбы у посаженного отца Николая Павловича в государевой опочивальне, отпустил императору оплеуху…
Таким образом они одинаково относились к императору: И полковник и ссыльный князь были едины в своей нелюбви к Николаю…
Пути его с товарищами старыми и вновь обретёнными разошлись. С кем надолго, а с кем и навсегда. Но были и радующие встречи. В июне 1838 года после окончания военной экспедиции он получает отпуск и отправляется на лечение в Пятигорск. Здесь он встретил старых знакомых Сатина и Лермонтова, общение с которыми особенно было приятным. Завёл и новых друзей. Одним из них стал доктор Майер.
Они с Одоевским представляли контрастную пару: Александр даже в солдатской амуниции имел вид довольного жизнью, спокойного и уравновешенного человека. А его дружелюбное расположение ко всем, острый ум, искренняя весёлость, блеск глаз в разговоре и звонкий смех в ответ на шутки друзей располагали к нему сразу же любого собеседника, даже самого ярого оппонента.
В отличие от него доктор Майер был откровенно некрасив: широкая голова, глубоко посаженные маленькие глазки, толстые губы. А к ним вдобавок одна нога короче другой, отчего он носил специально подбитую обувь, но всё равно хромал. Но вся эта некрасивость исчезала, как только он начинал говорить, и видно было, что оба, и
Одоевский, и доктор, просто наслаждаются беседой. И оба были заняты глубокими раздумьями о христианстве и о смысле жизни.
Девятнадцатилетний Александр пошёл в декабре на площадь с другими товарищами, отчётливо понимая, чем это ему грозит в случае неудачи, а потом сам пришёл в тайную канцелярию, сам заявил о своём участии в заговоре, был заключён в Петропавловскую крепость, а затем сослан на каторгу в Читинский острог: так много всего случилось в его жизни, что он теперь иначе воспринимал свершённое им в прошлом. Но остался верен и своим идеям и товарищам, с которыми так много довелось испытать.
В том числе сохранил самые тёплые чувства к отцу. Хотя перед ним он и теперь чувствовал какую-то вину. Привыкший к одиночеству, порой он остро ощущал тоску по родному дому, по ушедшим безвозвратно юным годам, когда, устремлённый в будущее, он не умел наслаждаться каждым мгновением, проведённым с семьёй. И более всего сейчас сожалел, что так мало времени проводил в детстве с матерью: Прасковья Александровна умерла, когда ему было восемнадцать лет. Отец же его любил безмерно. Не винил в произошедшем, поддерживая в ссылке и морально, и материально. И хотя был он уже преклонных лет, чтобы повидаться выехал навстречу ему в Казань, где они смогли провести вместе несколько незабываемых дней…
Теперь, спустя годы и события здесь, на Кавказе, вдруг родились строки:
Я разлучился с колыбели
С отцом и матерью моей,
И люди грустно песнь запели
О бесприютности моей.
Но жалость их – огонь бесплодный,
Жжёт укоризненной слезой;
Лишь дева, ангел земнородный,
Простёрла крылья надо мной.
Мне, сирому, ты заменила
Отца и мать, вдали от них,
И вполовину облегчила
Печаль родителей моих.
С отцом и матерью родною
Теперь увиделся я вновь,
Чтоб ввек меж ними и тобою
Делить сыновнюю любовь.
Эти стихи неожиданно стали песней, популярной среди военных.
Появились у него и новые друзья из офицеров и солдат, с которыми он теперь делил военные тяготы в тёплых южных краях. К службе он относился спокойно, как ко всему, что выпало ему и в прошлом, и в настоящем. И с таким же ровным спокойствием относился к грядущему, которое никто, кроме Господа, не мог знать. И он принимал свою судьбу без ропота и обиды.
Ведь всё, что было и будет, ему даровано в этой жизни неслучайно. Он в этом теперь не сомневался.
Вечер в Железноводске
Они всё больше расходились во взглядах на жизнь и желаниях. Марию влекли удовольствия, которые так притягательны в молодости: шумное общество, беззаботное веселье, внимание окружающих, его же – встречи с друзьями, умные беседы, чтение. И хотя он был старше всего на четыре года и не так уж давно, встретив её, потерял голову и совершенно искренне написал давнему другу Герцену, что любовь к Марии спасла его от пустоты провинциальной жизни и «отчаяние сменилось верою», а виною этому именно любовь, теперь ему казалось, что их разделяет гораздо больший срок. Она ещё порхает, словно летняя бабочка, он же, как мудрый скарабей, собирает всё увеличивающийся груз знаний… Обожаемая Машенька, умная, весёлая, единственная на всю Пензу (да что там Пензу – на весь мир!), вошла в его жизнь в самую печальную пору. Свет тогда вдруг озарил его мрачное бытие: отцовский надзор, под который его отправили по решению суда за чтение неугодных царю и охранке сочинений и писем, был сродни заключению: родовитый дворянин Платон Богданович Огарёв, своенравный, не признающий никаких новых веяний, никакого вольнодумства, к тому же из-за болезни бранчливый и нетерпимый к возражениям, видел в сыне продолжателя рода, управляющего огромной семейной вотчиной, а не потакающего хулителям и ниспровергателям ладно устроенного порядка.
Тогда явление Машеньки, Марии Львовны Рославлевой и его страсть к ней способствовали обретению душевного равновесия, из которого его вывели и преследования охранки, и суд, и заточение, и вынужденная разлука с товарищами, да и образ провинциальной жизни, когда на смену жарким спорам о справедливом устройстве государства, заряжающим возбуждающей энергией действия, возвышающим над прочей публикой, наполняющим жизненные устремления смыслом, вдруг пришли сонные, одинокие будни, заполненные глупой и пустой суетой, разговорами о пустяках, касающихся обедов, визитов, наказания провинившихся крепостных и городских сплетен…
После свадьбы, помня свою клятву на Воробьёвых горах и наставления Герцена о коварстве женских чар, наполненный счастьем первых дней семейной жизни, искренне уверенный, что это будет продолжаться и дальше, он не сдерживается, спорит с лучшим другом: «…другой жены я не мог бы выбрать и с другой не мог быть счастлив…»
Сейчас, на отдалении во времени и под новым для него южным небом, он нет-нет да и вспоминал эти строки из своего письма и ловил себя на сожалении, что поспешил тогда с выводами, но винил в отдалении их друг от друга не жену, а себя. И даже здесь, на Кавказе, старался не огорчать её своим отказом провести время так, как ей хочется, сопровождая в визитах и бесцельном времяпрепровождении.
Иногда он заводил с ней разговор на темы, волнующие его, но Мария слушала невнимательно и могла вдруг перебить, задав какой-то совсем не относящийся к разговору вопрос, он тогда с трудом сдерживал раздражение и старался не показать свою обиду. И давал себе слово более не угождать жене, а жить собственной жизнью.
В этой собственной жизни на первом месте были друзья. И этот 1838 год подарил ему немало встреч с ними и незабываемое путешествие. Задыхаясь от удушливой атмосферы каждодневного вынужденного общения со становящимся всё более деспотичным Платоном Богдановичем, они с Марией, наконец, нашли предлог для бегства и в начале мая отправились на Воды не столько поправить здоровье, сколько встряхнуться от наскучившей обыденности.
Путешествие это они замыслили неторопливым, решив посмотреть южные просторы и поставив родных в известность, что пробудут на Кавказе до осени. И поэтому по настоянию Николая заехали в Саратов, хотя это было не по пути, к Лахтину, товарищу по делу о вольнодумстве, который также был сослан в провинцию. Огарёв ожидал от этой встречи чего угодно, но только не того уныния и тоски, что так поразили его в Лахтине. Встреча получилась не такой, как ему представлялось. Лахтин не скрывал своего равнодушия и к его приезду, и к Марии, которую он отправил за ним, оставшись ждать в гостинице, опасаясь навредить товарищу, находящемуся под надзором. Когда тот вошёл в номер, первое, что бросилось в глаза, за эти три года, что не виделись: Лахтин сильно похудел. Но оба бросились друг к другу, поддавшись порыву. Вот только взгляд того уже не горел, не выражал радости, в нём Огарёв увидел поразившее его уныние. У него сложилось впечатление, что тот чем-то неизлечимо болен. Во всяком случае именно такой потухший взгляд и отсутствие желаний, по его представлениям, должно было предшествовать уходу в иной мир. И хотя он планировал задержаться в Саратове, сверить свои мысли, накопившиеся за годы пензенского одиночества, после этой встречи поторопился поехать дальше.
Зеленеющая майская буйная степь по берегам Дона, дыхание южных ветров и бескрайние просторы, заканчивающиеся пронзительной синевой неба на всё отдаляющемся горизонте, помогли избавиться от тягостных воспоминаний этой встречи. Но главное, что запомнилось из многодневной поездки вдоль разлившейся реки, – казаки. В них он увидел людей свободных, самостоятельных, совсем не похожих на запуганных крестьян, принадлежащих им, да и на пензенских мещан, которых тоже к свободолюбивым отнести было трудно.
Контрастом этим бодрящим и вселяющим веру в то, что раболепие всё же присуще не всем, впечатлениям была встреча на выезде из Саратовской губернии, о которой он потом нередко вспоминал и которую пересказывал друзьям. Остановившись в одной из деревень, он попросил чаю и стал ждать, пока подадут, на крыльце станционного дома. Вдруг появился квартальный в новом мундире, изрядно заставивший его поволноваться: уж не аукнулась ли встреча с Лахтиным? Но тот подобострастно поинтересовался:
– Не здесь ли остановился сенатор Огарёв?
– Сенатор?.. Сенатора здесь нет, – догадался наконец Огарёв, что речь идет о его дяде, который не так давно ревизовал Саратовскую губернию. – Я – его родственник, но не только не сенатор, но даже ещё и не коллежский регистратор…
И предложил блюстителю порядка чаю.
Но квартальный явно оконфузился. Поспешно выпив горячий чай, раскланялся и торопливо ушёл.
Провожая его взглядом, Огарёв с горечью подумал, что в русском управительстве, за исключением безумца, мечтающего иметь благодетельное влияние по службе, служит разве только подлец…
Но по мере продвижения по казацким землям этот случай всё более превращался в анекдот, достойный разве что застольной беседы, но никак не рассуждений, и скоро он полностью отдался новым оптимистичным впечатлениям.
Это пьянящее настроение прежде невиданных мест, простора, весеннего обновления и вольной, неподвластной никому, кроме Бога, жизни (что за песню пела казачка, переплывая через реку одна в маленьком челноке, на закате солнца!), не оставляло его до самого Пятигорска. Оно сохранялось и первые дни, усиленное такими близкими большими, с возвышающейся над ними белой папахой Эльбруса, и малыми, среди которых выделялись Бешту и Машук, горами, а главное – дарил незабываемые встречи с теми, кто попал сюда не по своей воле, с «первенцами свободы», как он их называл и с кого они в своём университетском кружке брали пример.
Встреча с Николаем Сатиным, ещё одним товарищем по судебному приговору, которой после Саратова он опасался, его не огорчила. Тот совсем не изменился, был так же горяч в мыслях и азартен в спорах, не отказавшись от юношеских убеждений. И хотя на момент приезда был довольно серьёзно болен (мучил ревматизм), из-за него, собственно, он стал уже здесь старожилом, не утратил силу духа и искреннюю любовь к товарищу. Своей радости от встречи он не смог, да и не хотел скрывать.
Они вечер провели в воспоминаниях. Много говорили о Герцене, который должен был нынче отбывать ссылку в Вятке, веря, что тот ещё прославит университет (они с Сатиным были лучшими в выпуске, серебряными медалистами), не преминули коснуться и не очень приятных дней, когда томились в застенках.
И Огарёв опять выказал свой восторг давнему поступку товарища. Когда остальных кружковцев арестовали, Сатин находился у родителей в Тамбовской губернии. Узнав об этом, он сам поехал в Москву.
А находясь в тюрьме, написал «Послание к сестре», строки из которого стали их общим гимном:
Из тесной кельи заключенья
Зачем ты требуешь стихов,
Там тухнут искры вдохновенья,
Где нет поэзии цветов!
Он был худ, немного прихрамывал, имел грустное красивое лицо, чем походил на Байрона, и чувствительную душу. А ещё был честен и тяготился тем, что вышел из дворян-землевладельцев. В университете все устремление и прилежание направил на поэтические опыты, уклоняясь от всяческой суеты. Но, тем не менее, загорелся идеями свободного общества, восторгаясь декабристами, и принимал самое активное участие в кружке. Друзья называли его «Рыцарем из Тамбова».
В Пятигорске он лечился уже длительное время, и его дом был открыт для друзей. Сюда почти ежедневно заходил, когда приезжал, Лермонтов – поболтать, отдохнуть душой. Здесь год назад он разошёлся с Белинским, приехавшим лечиться. Сюда постоянно заглядывали декабристы и прочие ссыльные.
В доме Сатина Огарёв и познакомился с князем Александром Одоевским.
Явление одного из легендарных декабристов в солдатской шинели, но с лицом, в котором каждый встречный признавал человека благородного и более высокого и значимого, поразило Огарёва в первую же встречу. Во взгляде пережившего столь много: и утрату товарищей, и многолетнюю ссылку, и тяжести солдатской жизни, он не увидел ни апатии Лахтина, ни романтической восторженности Сатина. Это был взгляд человека, знающего главную тайну жизни, ответ на вопрос: для чего он пришёл в этот мир.
Он никого не винил за выпавшие на его долю невзгоды, снося их по-христиански спокойно, и никого не судил, хотя его и призывали в судьи.
Вот и Огарёв, желая продолжить знакомство и услышать мнение истинного знатока и ценителя, послал свои стихи на его суд.
И Одоевский их принял, проникшись к автору искренним участием. И с этого момента оба почувствовали потребность общения.
… И ещё с одним человеком Огарёв познакомился и сблизился благодаря Сатину. В первые же дни тот привёл к устроившимся Огарёвым доктора.
Врач штаба кавказских войск Николай Васильевич Майер6 был вольнодумцем, охотно общался с декабристами, отчего находился под пристальным вниманием надзорных органов. Внешне он был не красив, но привлекателен. Большой лоб, глубоко сидящие глаза, толстые губы. К тому же одна нога короче другой. И в то же время доброта, живой взгляд, острый ум и отчаянная смелость в суждениях. Майер свёл Огарёва с декабристами, которые теперь бывали у них почти ежедневно, как и Одоевский.
На его глазах доктор пережил личную драму.
Майера трудно было отнести к людям чувственным. Во -первых, он был врачом, а значит, хорошо знал анатомические особенности человека, а во-вторых, воинствующим атеистом, из-за чего не раз попадал в неприятные ситуации, приобретя характеристику скептика и материалиста.
Так вот этот скептик вдруг влюбился. А вскружила ему голову молодая стройная черноглазая красавица с косой до пят. И, растопив сердце умудрённого жизнью, но, как оказалось, легковерного мужчины, она быстро к нему охладела, сначала обманывая, а затем откровенно пренебрегая ищущим ответного влечения доктором.
Наблюдая эту скоротечную драму и сопоставляя свои переживания с переживаниями Майера, Огарёв находил немало похожего. Мария теперь уже не стремилась разделить с ним его интересы, она хотела жить своей жизнью. Прежде ему казалось, что они настолько близки, что его устремления, его радости так же важны и понятны ей. Но вот теперь он всё более убеждался, что это далеко не так. Жену привлекали веселье, праздные разговоры, флирт. Нет, он верил ей, старался, как мог, не скучать на вечерах, куда шёл, подчиняясь её желанию, но это было пустым провождением времени и отвлечением от более важных встреч и разговоров и вызывало неизбежное раздражение и горечь.
В Пятигорске после довольно долгого перерыва он вновь начинает писать стихи.
Но я не сплю, и в поздней ночи
Моё окно
Растворено.
Мне тихо месяц светит в очи,
И звёзды в трепетных огнях
Горят на ярких небесах.
Долина дремлет под туманом,
И величаво возлегла
Гора над нею великаном
И тень далеко навела.
И в час величия ночного
Как много дум
Рождает ум.
И чувство ясное святого
Душе так живо предстоит,
И как свободно мысль летит
В пределы мира неземного!..
И человеку есть призванье:
Всё, всё, что только есть,
Всё в область ясную сознанья
Из жизни внешней перенесть.
Но всё-таки его более занимают мысли о справедливом устройстве общества. Он встречается с декабристами, этими легендарными, пусть и постаревшими и уставшими «первенцами свободы», пытаясь постичь их силу духа, понять идеи, укрепляющие этот дух.
Так пролетают день за днём, обогащая его знанием чужого опыта, без которого невозможно выстроить жизнеспособную философию, это он теперь хорошо понимал, хотя ещё совсем недавно, перед поездкой, воображал, что уже всё ему очевидно: и справедливое устройство государства, и счастливые принципы его свободных граждан… Оставаясь верным своей клятве с Герценом отдать все силы служению людям, он, тем не менее, теперь многое переосмыслил, находя в прошлых поступках немало романтичного, но не полезного…
Неожиданно для себя он узнал, что после ссылки большинство декабристов стало набожным.
Но особенно его поразил князь Одоевский. Будучи корнетом конногвардейского полка, в девятнадцать лет он вышел на площадь 14 декабря 1825 года, готовый умереть за идею. О н выделялся среди всех декабристов спокойствием и удивительными суждениями. Огарёв определил его христоподобным и не скрывал своей любви, любви ученика к мудрому учителю. И в то же время не мог до конца постичь смирения князя, его покорность страданиям…
Наконец он пришёл к выводу, что эта жертвенность в князе именно от безмерной Христовой любви к людям, даже если они этого и не достойны. И чем дальше узнавал, тем больше постигал высоту, которой тот достиг, напрочь отказавшись от самолюбования, которое порой так мешало Огарёву…
В Одоевском всё было удивительно.
И внешний облик, в котором сочетались красота и светлый ум, и суждения, показывающие образованность и пылкое воображение.
И то, что он не записывал свои стихи, как все остальные. Он их сочинял в голове, потом читал наизусть и не очень-то желал, чтобы их записывали другие.
Разница в возрасте (более десяти лет) и в жизненном опыте, в котором был и самоотверженный декабрь, суд, каторга в Сибири, ссылка там же, а затем по ходатайству перевод рядовым на Кавказ, довольно скоро определила их отношения. И ученик старался ежедневно видеть учителя, не обращая внимания на то, что Марии это не нравится и что они всё более отдаляются друг от друга…
К концу южного лета Огарёвы переехали в Железноводск. Следом туда же приехали Сатин и Одоевский.
Железноводск из всех окрестных мест более всего понравился Огарёву. Дикая прелесть и тенистая свежесть этой лесной долины после палимого солнцем Пятигорска давала отдохновение, склоняла к философским беседам.
…В этот вечер они втроём решили прогуляться.
Звёзды уже вовсю горели в небесах, деревья по сторонам тропинки нависали над ней и создавали иллюзию закрытой от окружающего мира аллеи, свет месяца мягко пробивался сквозь густую листву. Они прошли к источнику, присели на скамейку. Попросили Одоевского прочесть свои стихи. Тот не стал отказываться, мелодичным голосом начал читать. И слушатели поддались очарованию и этой теплой августовской ночи, напоенной ароматом созревших южных плодов и знойной степи, и тайне чарующих звуков, и магии рифмованных строк.
Взгляни, утешь меня усладой мирных дум,
Степных небес заманчивая Пери!
Во мне грусть тихая сменила бурный шум,
Остался дым от пламенных поверий.
Теперь, томлю ли грусть в волнении людей,
Меня смешит их суетная радость;
Ищу я думою подёрнутых очей;
Люблю речей задумчивую сладость.
Меня тревожит смех дряхлеющих детей,
С усмешкою гляжу на них угрюмой.
Но жизнь моя цветёт улыбкою твоей,
Твой ясный взор с моей сроднился думой.
О Пери! улети со мною в небеса,
В твою отчизну, где всё негой веет,
Где тихо и светло, и времени коса
Пред цветом жизни цепенеет.
Как облако плывёт в иной, прекрасный мир
И тает, просияв вечернею зарёю,
Так полечу и я, растаю весь в эфир
И обовью тебя воздушной пеленою.
– Вам обязательно надо записывать всё, что вы сочиняете, – прервал молчание Сатин.
– Зачем? – произнёс Одоевский.
– Чтобы другие могли насладиться… – горячо поддержал товарища Огарёв. – И надобно издать отдельный том…
– Всё это лишнее, – не согласился Одоевский. – Я вам прочёл, и этого достаточно… И эти звуки останутся в этой ночи, под этим небом…
– Разве вам не хочется, чтобы их гармония доставляла удовольствие как можно большему числу людей? – спросил Сатин.
– Нет, мой друг, это совсем не нужно, – покачал головой князь. – Слово изречённое есть мысль, а разве мы можем заковать в кандалы мысль?.. В Сибири в остроге держали наши тела, но не мысли. Наши мысли были свободны тогда даже, может быть, более, чем сейчас… А все наши мысли приходят от Бога, от Всевышнего, и они принадлежат Ему… И только Ему. От Него приходят и к Нему возвращаются… И Он позволяет слушать изречённое тому, кому это нужно, необходимо для исполнения предназначения… Вот отчего их бессмысленно приковывать к листу бумаги.