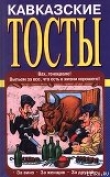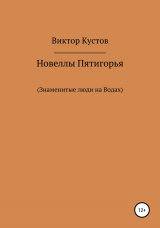
Текст книги "Новеллы Пятигорья. Знаменитые люди на Водах"
Автор книги: Виктор Кустов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
– Я об этом думал.
– Что же, за чем дело стало?
– Да видите ли, один способ выманить у Ротшильда сто тысяч; это было бы так странно и забавно: надобно бы написать эту просьбу, чтоб ему было весело, потом рассказать анекдот, который стоил бы ста тысяч. Но сколько трудностей!..
Так до конца совместной дороги сарапульский городничий и не придумал, каким способом заиметь вожделенные сто тысяч. И пока его мысли были заняты этой проблемой, Пушкин под покачивание экипажа думал, что край этот кавказский, несомненно, достоин внимания и поездки сюда принесли ему немало славных и памятных дней.
И тогда, девять лет назад, и сейчас… Даст Бог, он вернётся ещё сюда.
«Занятно увидеть эти воды…»
Обратная дорога не казалась интересной, и более не впечатляли ни горные вершины, теперь уже основательно покрытые снегами, ни прозрачность осеннего воздуха, ни напоённые теплом степные просторы предгорья.
Когда Денис Васильевич Давыдов ехал сюда, всё было внове и на удивление, как бывает всё незнаемое – теперь же тяготило. А ему ещё надо было завернуть в ущелье к знаменитым Водам, куда он ехал подлечиться, по этой причине получив отпуск. Правда, отсюда возвращаться обратно в армию он не намеревался, собирался уйти в отставку и вернуться домой, где его ждала жена и его сыновья…
То ли баталии притомили, то ли действительно соскучился по Софье Николаевне и по домашнему уюту. А может, всё же из-за предчувствия, в котором он никому не признавался, но пугался, что как бы не напророчествовал себе самому, как костромский монах Авель императору, им так нелюбимому, напророчествовал тридцать лет жизни… Отчего-то ведь пришли в голову эти строки, после того как Николай I отправил его вдруг на войну с персами.
Мы несём едино бремя,
Только жребий наш иной:
Вы оставлены на племя,
Я назначен на убой.
И назвал это четверостишие он со смыслом: «Генералам, танцующим на бале при отъезде моём на войну 1826 года».
Отчего он так не любил императора Николая, объяснить не мог. Может быть, потому, что ему не нравилось с детства, когда кто-то, пользуясь своим положением, безнаказанно унижает другого. Иногда он относил это обострённое чувство справедливости на свой маленький рост: с детских лет приходилось доказывать всем вокруг, что он не хуже, а в чём-то и лучше высоких красавцев.
Теперь, правда, доказывать не было необходимости – ему сорок два года, он – генерал, у него – трое сыновей и беременная жена. И он уже понимал, что азартные игры со смертью остались в прошлом; всё-таки не мальчик и не тот азартный двадцативосьмилетний партизан Давыдов, который гонялся за французами по неприятельским тылам, прежде родным исхоженным изъезженным местам – в окрестностях того же Бородино, где была их усадьба… И даже уже не тот вольнодумец, что лишь случайно не примкнул к вышедшим на Сенатскую площадь в 1825 году против узурпации власти одним человеком. Хотя его стихи были не менее крамольны, чем речи на собраниях тайных обществ, а список басни «Река и зеркало» разошёлся в большом количестве и дошёл до императора. Правда, в нём нет призывов к мятежу, но если вчитаться…
За правду колкую, за истину святую,
За сих врагов царей, – деспот
Вельможу осудил: главу его седую
Велел снести на эшафот.
Но сей успел добиться
Пред грозного царя предстать -
Не с тем, чтоб плакать иль крушиться,
Но, если правды не боится,
То чтобы басню рассказать.
Царь жаждет слов его; философ не страшится
И твёрдым гласом говорит:
«Ребёнок некогда сердился,
Увидев в зеркале свой безобразный вид;
Ну, в зеркало стучать, и в сердце веселился,
Что может зеркало разбить.
Наутро же, гуляя в поле,
Свой гнусный вид в реке увидел он опять.
Как реку истребить? – Нельзя, и поневоле
Он должен был и стыд и срам питать.
Монарх, стыдись! Ужели это сходство
Прилично для тебя?..
Я – зеркало: разбей меня,
Река – твоё потомство:
Ты в ней найдёшь ещё себя».
Монарха речь сия так сильно убедила,
Что он велел ему и жизнь и волю дать…
Постойте, виноват! – велел в Сибирь сослать.
А то бы эта быль на басню походила.
Может, по этой причине и последовало повеление генералу от кавалерии Давыдову, находящемуся в отставке, отправиться на Кавказский военный театр, где наследник персидского престола Аббас-Мирза, подстрекаемый англичанами, внезапно перешёл пограничную линию, вторгся в Карабах во главе стотысячного войска и обложил крепость Шушу, в которой запёрся немногочисленный русский отряд. А ещё часть своих сил он дивнул в сторону Тифлиса. Ермолов же персам смог противопоставить не более десяти тысяч.
Из чего исходил император, отправляя его, сорокашестилетнего ветерана, знатока партизанской войны на Кавказе, понять было трудно, если, конечно, не считать это ссылкой.
И вот в середине августа 1826 года Денис Васильевич отправился в дальнюю дорогу. По пути остановился в мирных, далёких от нынешней войны Ельце и Воронеже. Затем больше в военном, чем в гражданском, Ставрополе, и, предупреждённый о недружественных горцах, отсюда ехал уже с осторожностью и с казачьим конвоем.
Под Владикавказом нагнали караван, с которым возвращался в Тифлис, арестованный несколько месяцев назад за участие в декабрьском заговоре, но сумевший доказать свою непричастность, Грибоедов. Эта неожиданная встреча обрадовала обоих, и, так как от Владикавказа дорога была более безопасной – здесь немирных горцев было меньше – они отправились дальше вдвоём на двухместных дрожках… И добрались до Тифлиса без приключений. А там уже разъехались каждый по своему предписанию.
Давыдов получил под командование войска на Эриванской границе. И разбил неприятельский корпус под командованием Гассан-хана.
Это заняло немного времени, и, не видя своей необходимости в затяжном противостоянии, спустя пару месяцев он просился в отпуск, сославшись на нездоровье, мол, не подошёл «губительный грузинский климат». Просьба была удовлетворена – и вот теперь он подъезжает к Кисловодску.
Остановился Давыдов в только что выстроенном доме Рубцова.
Процедуры принимал не столько по нужде, сколько по принуждению эскулапов, всё больше добивался отставки в отправляемых депешах. Болезнь была лишь поводом: Кавказ отчего-то ему не приглянулся, а кавказцы, которых ему пришлось наблюдать, привели его к мысли, что это люди, «привыкшие в течение веков к разбою».
И отчего-то часто вспоминалось его собственное ироническое обращение к «Генералам… »
Нет, на убой идти он более не хотел…
…Зимний Кисловодск не впечатлил его; отдыхающих было мало, в основном лечившие раны военные. И разговоры были всё больше о сражениях. Да о воинственных горцах, которые никак не хотели перейти к мирной жизни. И погода не радовала его, привыкшего к русской зиме со снегами, бодрящим морозцем. Здесь же она скорее напоминала московскую позднюю осень. Что касается лечения, то ему, привыкшему жить по собственному распорядку и командовать другими, подчиняться врачам и лечебному распорядку совсем не нравилось. Да и скучно было. Единственное, что радовало – это общение с казачьими атаманами, которые с горцами умели и воевать, и договариваться, и хорошо знали их обычаи. Одним словом, удалой народ, казаки. Отчего не мог не вспомнить молодость и не сочинить тост на обеде с донцами:
Брызни искрами из плена,
Радость, жизнь донских холмов!
Окропи, моя любовь,
Чёрный ус мой белой пеной!
Друг народа удалого,
Я стакан с широким дном
Осушу одним глотком
В славу воинства донского!
Здравствуйте, братцы атаманы-молодцы!
Но желания возвращаться в эти места у него не было.
По привычке отражать в стихах всё, что с ним происходит, пусть не столь прямо и откровенно, как в дневниках, но всё же приоткрывая собственные переживания, он пишет автобиографическое стихотворение «Партизан», объединив себя молодого и нынешнего, восторгаясь и гордясь прошлым…
Умолкнул бой. Ночная тень
Москвы окрестность покрывает
Вдали Кутузова курень
Один, как звёздочка, сверкает.
Громада войск во тьме кипит,
И над пылающей Москвою
Багрово зарево лежит Необозримой полосою.
И мчится тайною тропой
Воспрянувший с долины битвы
Наездников весёлый рой
На отдалённые ловитвы.
Как стая алчущих волков,
Они долинами витают:
То внемлют шороху, то вновь
Безмолвно рыскать продолжают.
…И всё же признаваясь в симпатиях к этому малознакомому ему Кавказу.
Начальник, в бурке на плечах,
В косматой шапке кабардинской,
Горит в передовых рядах
Особой яростью воинской.
Сын белокаменной Москвы,
Но рано брошенный в тревоги, Он жаждет чести и молвы,
А там что будет – вольны боги!
Давно не знаем им покой,
Привет родни, взор девы нежный;
Его любовь – кровавый бой,
Родня – донцы, друг – конь надежный,
Он чрез стремнины, чрез холмы
Отважно всадника проносит,
То чутко шевелит ушми,
То фыркает, то удил просит.
И, наконец, окончательное прощание… С Кавказом и с воинской службой…
Ещё их скок приметен был
На высях за преградной Нарой,
Златимых отблеском пожара,
Но скоро буйный рой за высь перекатил,
И скоро след его простыл…
Невесть как далеко от него в эти дни находится Вальтер Скотт, с которым он переписывается. Шотландец увидел в нём героя своих сочинений, а ему всегда было интересно общаться с литераторами не менее, чем с военными, к которым он относит и себя. Он дружен с Пушкиным и его братом, с Баратынским, Вяземским, Языковым… И вот для Вальтера Скотта он охотно ищет экспонаты; тот коллекционирует оружие. И в этой поездке на Кавказ он добыл лук и колчан стрел. Правда, в письме поясняет, вдруг шотландец вообразит, что горцы всё ещё воюют этим оружием.
«Лук – это вид оружия, которое стало редкостью на Кавказе. Только некоторые приверженцы старины ещё пользуются им. Вот почему я посылаю вам такой истёртый. Среди этих племён цивилизация распространяется с трудом, но всё же распространяется, и новые поколения усваивают себе то, что находят полезного у более цивилизованных народов, поэтому ныне черкесы (кавказские горцы) воюют также, как и мы: с помощью хороших винтовок или пистолетов, а из своего прежнего оружия сохранили только короткую саблю, называемую шашкой, которой они не решаются придать в помощь копьё, – прекрасный остаток их первобытной храбрости, с негодованием отвергающей применение его в рукопашной схватке из-за его длины».
И делится своими впечатлениями о жителях этих южных неспокойных мест, сравнивая, для понятливости, с героями исторического романа Вальтера Скотта «Сент-Ронанские воды».
«Возвращаясь из Грузии, я провёл некоторое время на знаменитых минеральных водах Кавказа, находящихся в краю, населённом теми самыми воинственными племенами, чьё оружие я вам посылаю. Было бы занятно увидеть эти воды изображёнными в романе, подобно Сент-Ронанским: какие бы тут обнаружились контрасты! Главные черты всё же оказались бы те же, ибо там, как и на всех водах мира, встречаешь женские сплетни, мелкие обиды и зависть среди общества, есть свои леди Пенелопы и леди Бинкс. Был у нас и господин вроде Тачвуда, который во всё вмешивался, но без оригинальной весёлости посетителя Сент-Ронанских вод и без гроша в кармане. Большому празднеству семейства Мобрей у нас соответствовала поездка всего общества во время байрама (мусульманского праздника) в аул, т.е. черкесское селение, находящееся в нескольких милях, где вместо театра и музыки мы развлекались только играми этого воинственного народа, у которых даже танец представлял стычку. Поэтому свобода прогулок в окрестностях была ограничена: всё там на военной ноге, все вооружены, включая пьющих воду, со времени всемирного потопа, как вам известно, самых безвредных и невинных из смертных».
Это письмо он отправил, уже получив отставку и вернувшись в Москву…
Тайный визит
– Юнкер Бестужев… Штабс-капитан Бестужев, вы опоздали… Но если вы поторопитесь… Он открыл глаза.
Окинул взглядом едва различимые в тумане безлесые склоны невысоких гор, мимо которых ехала телега. И снова закрыл их, сожалея, что так не вовремя прервался этот сон, и под монотонный мерный скрип колёс сумел всё же вернуться в зыбкий полусон…
…Кто это напротив в неверном пламени свечи… Не Кондратий ли?..
Да, конечно же он, Рылеев, товарищ и компаньон по задуманной ими «карманной книжки для любительниц и любителей русской словесности» – альманаху «Полярная звезда». Какой номер они сейчас обсуждают, первый или последний?.. Четвёртый получался лучше уже вышедших, но так и не дошёл до читателя. И три первых были тоже неплохи, они сразу определились кого опубликуют, написали письма Жуковскому, Гнедичу, Крылову, Дельвигу, Баратынскому, Батюшкову, Пушкину… всех не перечесть. И все охотно откликнулись, прислали свои сочинения. Пушкин – даже из Одессы.
Рылеев отбирал для публикации стихи, а он составлял и писал в каждый номер о русской словесности. Хвалил и ругал. Спорил с другими критиками. Например, о комедии Грибоедова он, прочтя, сразу, без сомнений написал: «будущее оценит достойно сию комедию и поставит её в число первых творений народных.»
Альманах зачитывают, передают из рук в руки, о прочитанном спорят. Первый номер напечатали в шестьсот экземпляров, а второй – в полторы тысячи, и он также быстро разошёлся, а выручка позволила рассчитаться с долгами…
Преподнесли этот номер и императрице, а из её рук получили с Рылеевым перстни и золотые табакерки.
И ему было лестно, что его статьи о русской словесности и не только о ней, вызвали споры. Он не согласился с утверждением, что нет гениев и мало по-настоящему литературных талантов, потому что нет «ободрения этим талантам», а новые сочинения всё больше критикуют все, кому не лень. Будто талант зависит от «ободрения»…
«Ободрение может оперить только обыкновенные дарования: огонь очага требует хворосту и мехов, чтобы разгореться, – но когда молния просила людской помощи, чтобы вспыхнуть и реять в небе! Гомер, нищенствуя, пел свои бессмертные песни; Шекспир под лубочным навесом возвеличил трагедию; Мольер из платы смешил толпу; Торквато из сумасшедшего дома шагнул в Капитолий; даже Вольтер лучшую свою поэму написал углём на стенах Бастилии. Гении всех веков и народов, я вызываю вас! Я вижу в бледности измождённых гонением или недостатком лиц ваших – рассвет бессмертия!..
Уважение или, по крайней мере, внимание к уму, которое ставило у нас богатство и породу на одну с ним доску, наконец, к радости сих последних исчезло. Богатство и связи безраздельно захватили всё внимание толпы, – но тут в проигрыше, конечно, не таланты! Иногда корыстные ласки меценатов балуют перо автора; иногда не достаёт собственной решимости вырваться из бисерных сетей света, – но теперь свет с презрением отверг его дары или допускает в свой круг не иначе, как с условием носить на себе клеймо подобного, отрадного ему ничтожества; скрывать искру божества, как пятно, стыдиться доблести, как порока!!!»
Когда он писал эти строки, он имел в виду не только состояние русской словесности, но и той среды, которая не даёт талантам подняться над обыденностью, разорвать оковы лжи и лицемерия, поразить правдивым словом…
Вот и несомненно талантливый Пушкин не всё договаривает. А то ещё и обижается, ежели что без его согласия поставит… И Грибоедов в своей пьесе не сказал прямо, что хотел, а упрятал правду за намёки и саркастическое обыгрывание чужих строк…
Но он не сомневается, что его тёзки ещё проявят свой талант в полной мере…
С Пушкиным они единомышленники, хотя тот и не состоит в Северном братстве. Но сразу оценил их с Кондратием труд, всем знакомым расхвалил первый номер альманаха, советовал обязательно прочесть. Не обошёл и своим поэтическим талантом, после наводнения увековечил в стихах:
«На альманах «Полярная звезда»
Напрасно ахнула Европа,
Не унывайте, не беда!
От петербургского потопа
Спаслась «Полярная звезда».
Бестужев, твой ковчег на бреге!
Парнаса блещут высоты:
И в благодетельном ковчеге
Спаслись и люди и скоты.
Как же трепетно было брать в руки эти маленькие книжечки альманаха, он любил их перечитывать. Пока имел такую возможность…
– Теперь послушай, что получилось, – услышал он.
И невесть откуда незнакомо зазвучали строки, которые он помнил и которые теперь не узнавал.
Вдоль Фонтанки-реки
Квартируют полки.
Квартируют полки
Всё гвардейские.
Их и учат, их и мучат,
Ни свет, ни заря,
Для потехи царя!
Разве нет у них рук,
Чтоб избавиться от мук?
Разве нет штыков
На князьков-сопляков?
Разве нет свинца
На тирана-подлеца?
Да Семёновский полк
Покажет им толк.
Кому вынется, тому сбудется;
А кому сбудется, не минуется.
Слава!
– Что скажешь, Александр?
– Закончить надо бы яснее, солдатики могут не понять…
– Поймут, Саша, поймут. А если не поймут, мы с тобой разъясним…
И опять расплывается. На Рылеева вроде похож говоривший, а голос не его, не узнаёт он…
Кондратий вдруг стал уходить. Идёт, не оглядываясь, отдаляясь, уменьшаясь во всё густеющем тумане, а он пытается крикнуть, остановить, предупредить, что туда, куда он идёт, никак нельзя… Но отчего-то совсем нет голоса… И нет сил, чтобы бежать следом, догнать…
И уже не милый Рылеев уходит, а проявляется нечто размытое, чем-то похожее на фигуру императора на большом, во весь рост, портрете. И голос, который так часто он слышал потом, да и сейчас ещё порой слышит в снах, отчего обязательно просыпается с сердцебиением и отчаянием, этот голос чётко, с непоколебимостью взведённого дуэльного пистолета, бездушно чеканит: «…умышлял на цареубийство и истребление императорской фамилии, возбуждал к тому других, соглашался также и на лишение свободы императорской фамилии, участвовал в умысле бунта привлечением товарищей и сочинением возмутительных стихов и песен, лично действовал в мятеже и возбуждал к оному нижних чинов».
Он хотел в ответ возразить, напомнить, что он всегда был честен, он предупреждал, что нельзя отмахиваться от свободомыслия. После того как пал несокрушимый Наполеон, русский народ, может быть, впервые ощутил свою силу, захотел независимости. Вернувшиеся домой с победой сравнивали увиденное в Европе с тем, что осталось дома. Сравнивали и всё более понимали необходимость перемен. Он предупреждал об этом в своих статьях. И теперь хотел было напомнить это тому, кто на портрете, но в это время сильно тряхнуло, и нечто смутное, похожее на императора, пропало, и он стал осознавать себя лежащим на жёсткой и скрипящей телеге, куда-то перемещающимся… Но не торопился открывать глаза, вспоминая, кто он и где он…
Ах да, он едет из холодной Сибири, и позади уже много вёрст безлюдного пространства. И много дней пути. В начале календарного лета, так и не дождавшись северного тепла, он отбыл из Якутска. В первых числах июля в Иркутске наконец оттаял. А ещё спустя две недели был в Екатеринбурге. И вот, в начале августа, здесь, на Северном Кавказе, лето настоящее, тепло невиданное. Отсюда уже не так далеко до места его службы. Но теперь уже служить будет не штабс-капитаном, а простым солдатом.
… И рядовой Александр Александрович Бестужев, чудом избежавший смертной казни, познавший заточение в Шлиссельбургской крепости, проживший несколько лет в холодном Якутске и вот теперь очутившийся на Кавказе, наконец открыл глаза. И словно ждал, хотя и не видел этого, казак-возница; громко сказал:
– Вот и Эльбрус завиднелся.
Просто радуясь проявившимся из тумана и парящим над землёй, словно оторванным от неё белоснежным вершинам, то ли обращая на это внимание сонного барина, о котором только и знал, что тот едет из холодной Сибири, куда попал то ли по глупости, то ли по немилости, но говорят оттого, что и в самом деле невзлюбил царя…
Бестужев устроился поудобнее на телеге, так, чтобы видеть этого неземного двуглавого великана, парящего над облаками. Действительно, туман, в котором они долго ехали, теперь, на подъезде к Кисловодску, постепенно растекался по ущелью, опускаясь всё ниже и ниже, и уже видны были внушающие трепет зубцы горного хребта, – этой границы мира, – пугая своей неукротимой дикостью и неоспоримым величием.
Он подумал, что люди, которые каждый день видят эти вершины, должны быть совсем не похожи на петербуржцев, да и прочих равнинных россиян. И уж можно сказать они – антиподы жителей промёрзшего Якутска. Впрочем, о тех местах, прохладных даже летом, сейчас, на знойном юге, вспоминается даже с некоторой грустью.
Но это не убавляет радости от того, что на его просьбы наконец-то государь откликнулся и распорядился послать его в действующую армию воевать с турками на Кавказ. Он знал, что здесь много солдат и офицеров, кто вышел вместе с ним на площадь в декабре четыре года назад, и надеялся встретить старых товарищей. А ещё обязательно отличиться по службе, вернуть себе офицерский чин и всё прочее, что когда-то имел… И ничего, что не штабс-капитаном и не в приличном экипаже, а рядовым он лежит на этой телеге, ровней с этим гордо восседающим впереди казаком-извозчиком. Ему ещё только тридцать два года, он ещё добудет наград, дослужится до генеральских эполет… Милостью Божьей он теперь не будет маяться в вечных снегах двадцать лет, отмеренных ему царской милостью взамен смертной казни. Хорошо, если бы и братьям так же повезло: Михаил и Николай всё ещё на Нерчинских рудниках, но тоже послали прошение с просьбой перевести на Кавказ. А третий брат, Пётр, также разжалованный после неудавшегося переворота, сразу попал в эти места и, прослужив рядовым и отличившись, дослужившись до унтер-офицера, не так давно вернулся домой…
Тучи над горной цепью, послушные налетевшему ветру, заклубились, заторопились вдоль горных зубцов, закатное солнце окрасило вершины в розовый цвет, придавая им теперь не только грозный, но и манящий вид. Бестужев даже задохнулся от восторга, так на него подействовало увиденное.
– Горы – вот что есть поэзия природы, – голосом, не допускающим никакого возражения, произнёс он.
– Чего? – переспросил казак.
– Я так, братец, про себя, – не стал разъяснять он, понимая, что пережитый им восторг – это его сокровенное, о чём он ещё успеет подумать… Но уже знал: здесь, у подножия величественных гор всё чувствуется чище и думается яснее…
Там горести, там страсти яд немеет,
Там юностью невянущею веет,
Забвение целительной рукой
На сердце льёт усладу и покой;
Душа слита с возвышенной природой,
И дышит грудь бессмертною свободой!
Но вот темнота стала накрывать вершины. Какое-то время ещё закатно рдел Эльбрус, паря над миром, но скоро и его снежные шапки поглотила ночь. В лёгших на ущелье сумерках начали падать невидимые, но ощутимо крупные капли дождя. Порывы ветра подымали пока ещё не прибитую пыль, и телега то нагоняла, то отставала от взвихренных её столбов.
– Далеко ли ещё? – спросил он.
– Полверсты будет, – ответил казак и поторопил лошадь. Бестужев закрыл глаза, погрузившись в свои мысли…
Эти вечер, ночь и утро – вот и всё, что ему дано, чтобы удовлетворить любопытство, увидеть это местечко среди гор, о котором он немало наслышан. Место, где не только поправляют здоровье.
Вот Пушкин поехал сюда подающим надежду талантом и вернулся поэтом, привёз кавказскую поэму. И говорят, теперь снова где-то в этих местах, возможно, они встретятся совсем скоро… А ещё здесь должны быть единомышленники, сосланные сюда прежде. Может доведётся найти знакомого, хотя большинство из тех, кого он знал и кто остался в живых нынче в Сибири… Но немало и здесь воюет, правда, больше рядовые, подчинившиеся в декабре офицерам, невинные по сути, но император в испуге и их сослал…
Скоро он всё увидит и узнает. А потом ему ещё ехать за горный хребет, за которым другая совсем земля и где Особый корпус, куда он теперь направлен, воюет с турками. И там он, конечно же, встретит знакомых…
Он понимал, чем рискует, пускаясь в эту самовольную поездку, но уж так не терпелось увидеть лица товарищей, да и взглянуть на это место с чудодейственными водами…
Сверкнула молния, на миг вырвав из темноты сужающееся ущелье с голыми склонами над речкой, небольшую казачью станицу и ниже, под-над речкой, десятка два-три домиков, где, как он уже знал, жили отставники со своими семьями, которые охотно сдавали угол приезжим. Можно было бы, конечно, нанести визит предводителю дворянства Реброву, но неизвестно как тот отреагирует, а то ещё донесёт, глядишь, обратно в Сибирь отправят. Нет, лучше без огласки у кого-нибудь переночевать… Ему, главное, знакомых найти…
И вдруг Бестужев ясно понял, что обязательно опишет этот тайный визит, в котором если не в реальности, то в своих фантазиях сядет вместе с приятелями за стол, описав их, начиная с «матушкина сынка», «приехавшего из белокаменной лечиться от застоя в карманах» и прочих гвардейцев-романтиков так, что только знакомые смогут догадаться, о ком это он…
Он обязательно опишет их встречу, но не укажет, когда это было, рука тайной полиции длинна и милосердие императора не безгранично…
Нет, он укажет, это придаст большую достоверность. Но укажет так, что заставит гадать читателя, так ли и тогда ли всё было на самом деле…
К примеру, что всё описанное происходило в августе 1824 года и он всё ещё штабс-капитан, а до декабря 1825 года, до Рубикона, который тогда перешли они, ещё целая вечность радужных надежд и планов. И вот он, ещё молодой офицер, не знавший опыта каторжанина, ссыльного, приехал к товарищам, отужинал в приятной компании и остался с теми, кто не слушает предписаний эскулапа и предпочитает вино кавказской воде. И теперь вот предаётся приятной беседе…
И говорят они о всякой безобидной всячине.
О том, что нынче посетил это место персидский принц Хозрев-Мирза – набирался сил, пил напиток богатырей – нарзан.
Что на Эльбрусе побывала русская экспедиция, вернувшаяся с двумя сотнями саженцев сосны, выкопанных в верховьях реки Эшкакон. Их высадят на голых склонах.
И что не он один переведён из Сибири на Кавказ, а к тем, кто уже был сослан сюда прежде, скоро добавятся многие, – император, убедившись в том, что наказанные офицеры отменно воюют, намерен ссыльными из Сибири усилить Особый корпус…
А ещё о чём не могут не поговорить мужчины и что не является государственной тайной и не представляет опасности для власти?
Естественно, о женщинах…
Они в этот вечер обязательно обсудят красавиц, поспорят, какие лучше, московские или петербургские. Или всё же местные, южные…
– Черкешенки совсем иное дело – мы осуждены любоваться ими как недоступными вершинами Кавказа, – скажет уже поживший здесь, видевший лица горянок и знающий горские законы и месть горцев за поруганную честь их женщин.
После этого и обсуждать и сравнивать нечего.
…Так от более лёгких и обыденных тем перейдут к сложным.
О тех же масонах поговорят, об этом можно, это если и возбраняется, то не слишком громко.
Но это довольно скучно, и долго разговор не может держаться. Другое дело – погреть душу рассказами о кладах, которые многим из пока ещё не разжалованных (в его рассказе) офицерам пришлись бы кстати…
И пусть потом гадают, когда он был здесь: в год, вынесенный им в заглавие «Вечер на кавказских водах в 1824 году» или же теперь, спустя пять лет…