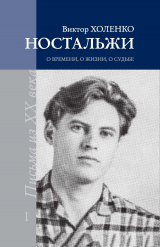
Текст книги "Ностальжи. О времени, о жизни, о судьбе. Том I"
Автор книги: Виктор Холенко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Остальных вилюйцев, которые жили на Зимнике, потом переселили на западный берег бухты Крашенинникова, где в то время находился рыболовецкий колхоз имени Сталина в рыбацком посёлке Советский. Теперь там вырос город Вилючинск – может, в память об исчезнувшем рыбацком посёлке, а может, в честь вулкана Вилючинского, до заснеженного купола которого, кажется, отсюда совсем рукой подать…
В этом же номере газеты «Новости», рядом с упомянутым мною выше очерком «Апокалипсис в половине четвёртого утра», опубликован и редакционный комментарий под заголовком «Тайна 1952 года». В нём утверждается, кстати, что СССР никогда не проводил испытания ядерного оружия на Дальнем Востоке. «Но, – пишет автор комментария, – 1 ноября 1952 года на атолле Eniwetok в Тихом океане американцы взорвали свою первую водородную бомбу „Майк“ мощностью 10,4 мегатонны. А 4 ноября того же года в 16.52 по Гринвичу у берегов Камчатского полуострова произошло сильное землетрясение, зафиксированное всеми региональными сейсмостанциями и вызвавшее гигантское цунами, прокатившееся через весь Тихий океан.
Интересно, что в перечнях крупных катаклизмов цунами 1952 года на Курилах не упоминается…» Однако по сообщениям американских газет того времени «цунами нанесло сильный урон Камчатскому полуострову и затем продолжило свой поход по Тихому океану. Высота наводнения на острове Мидуэй достигла одного метра – дома и улицы были затоплены. На Гавайских островах волны разрушили пирсы, лодки, повалили телеграфные столбы, смыли пляжи, затопили луга…»
Приведя все эти факты, автор комментария всё же задаёт недоумённые вопросы: «Могло ли испытание американской водородной бомбы стать детонатором землетрясения на Камчатке? Мог ли радиоактивный след взрыва достичь Курил и вызвать лучевую болезнь у Галины Луговой? Или всё же это сталинские соколы и бериевские орлы исхитрились рвануть вблизи островов НАШУ БОЛЬШУЮ БОМБУ? Ведь она могла быть и небольшой мощности. Но поднятая взрывом волна, устремившись в горло Курильского пролива, неизбежно должна была многократно вырасти и накрыть несчастные острова…»
Вот такие пироги с эсэсэсэровскими умолчаниями подобных катастроф получаются…
А в заключение прямо скажу: ещё один факт, приведённый в этой газете, меня буквально потряс. Я впервые узнал тогда, что эта гигантская катастрофа произошла полчетвёртого утра 4 ноября 1952 года – точно в день и час моего рождения в Петропавловске-на-Камчатке, но только семнадцать лет спустя. И ровно через четыре года с той поры, как наша семья уехала с Камчатки на материк на грузопассажирском пароходе «Чукотка». Было тоже начало ноября, но 1948 года…
3Семья наша была на первый взгляд небольшая: мама, отец и я с братом Борисом, который родился 24 июня 1943 года. Но мама моя, Олимпиада Даниловна, в девичестве Лобова, родила одиннадцать детей. А выжили только двое – мы с братом: я был пятым ребёнком, а Борис, как говорили тогда, стал поскрёбышем – одиннадцатым. Я не помню имён большинства из умерших моих братьев и сестёр, знаю только, что у мамы дважды рождались двойняшки – в основном они жили не больше года. Но одно имя я буду помнить всю свою жизнь, причём с не проходящим сложным чувством неизбывной вины и глубокой благодарности. Моя семилетняя сестрёнка Валя умерла 7 ноября 1935 года – ровно через три дня после моего рождения. Сразил её неизлечимый в ту пору менингит – воспаление головного мозга. Она долго болела, и родители, естественно, страшно переживали по этой причине. Валя, как всегда вспоминали мои родители, была очень красивой, умной и доброй девочкой, и папа с мамой её очень любили. Но вот случилась эта непонятная болезнь, и её не стало. И любовь родительская, как я чувствовал потом всегда, с удвоенной силой стала сразу же изливаться на мою, крайне тщедушную по рождении особу. Родители рассказывали, что я появился на свет, имея в наличии лишь кожу да кости – этакий сморщенный, обтянутый красноватой кожицей скелетик – трудно дались маме многие недели болезни моей милой сестрёнки, которую я фактически никогда не видел, но со мной она всегда. Отец, когда отошёл немного после похорон Вали, взял меня впервые на руки, и, держа осторожно за подмышки над своими калошами чуть ли не 45-го размера, в каждой из которых я, наверное, мог бы уютно расположиться во весь свой крайне скромный рост, сказал назидательно:
– Ну, Витька, расти, чтобы носить такие же!..
В связи со всеми этими горестными обстоятельствами в моей биографии появились две фактические неточности. Так, только в конце ноября, когда наконец-то установился санный путь по замёрзшим бухтам и заливам вокруг полуострова Крашенинникова – напрямую через Авачинскую губу в Петропавловск в эту пору глубокой осени и начала зимы тогда было просто не попасть, отец смог добраться на собачьей упряжке до городского ЗАГСа. Регистрировать рождение полагалось в течение нескольких дней после этого события, и, чтобы не платить штраф за просрочку, отец, как он рассказывал потом, прибавил к фактической дате моего рождения ещё четыре дня. С того самого времени во всех официальных документах моим днём рождения значится 8 ноября 1935 года. Второй фактической неточностью является место моего рождения. Родился я в посёлке Новая Тарья – это несомненно. Однако или отец забыл сказать об этом служащему ЗАГСа, или сам этот служащий пропустил мимо ушей слова отца о месте его жительства, но местом моего рождения всё-таки был записан город Петропавловск Камчатской области. Можно предположить и другой вариант: возможно, в то время посёлок Новая Тарья ещё входил в административное подчинение этого города? Не знаю, и никогда как-то не придавал этому какого-либо значения. Однако став взрослым, я начал отмечать свой день рождения дважды: фактический, 4 ноября – в семье, а восьмого – отдавая дань официальной дате регистрации…
Да, всё это было в посёлке рыбообработчиков, расположенном на перешейке полуострова Крашенинникова, отделявшем бухту с этим же названием от всей Авачинской губы с городом Петропавловском на противоположном её берегу. Тогда этот посёлок ещё назывался Новая Тарья, а на современных картах он обозначен уже как посёлок Рыбачий. Летом 1947 года, когда мы уже переехали из Вилюя снова в Новую Тарью, мама как-то сводила меня на местное кладбище и показала могилку Вали. Низкий аккуратный бугорок, обложенный окрашенными в голубой цвет дощечками, на котором стоял небольшой деревянный обелиск, увенчанный по обычаям того времени красной звездой. Было видно, что даже когда мы жили в Вилюе, за могилкой постоянно ухаживали хорошие знакомые моих родителей, которые были для нас роднее родственников – на северах раньше такое было в порядке вещей. Это, в первую очередь, семья моего крёстного Данила Горященко, семья брата его жены Марии – лучшего на рыбокомбинате в ту пору икрянщика Ермольцева, а также многодетная семья потомственного камчатского казака Ведерникова, потомки которого, может быть, пришли сюда из Якутска ещё с атаманом Атласовым. Уютное, залитое солнечным светом кладбище сбегало по пологому зелёному, совершенно безлесному склону и обрывалось над бухтой невысоким скалистым берегом. Там, внизу, дремала на рейде всё лето безлюдная одномачтовая парусно-моторная шхуна «Самум», старческий покой которой тревожили только местные мальчишки, подплывавшие по заливу к её невысоким бортам. А дальше, на середине бухты, прямо напротив военно-морского городка с многоэтажными домами на берегу полуострова Крашенинникова, лежали на спокойной водной глади несколько субмарин класса «Л» и «Щ» с большими белыми цифрами на рубках. Вся эта картина стоит у меня перед глазами до сих пор, но там я больше никогда уже не был…
К слову: моя бабушка, Мария Петровна Лобова, мама моей мамы, сибирская крестьянка из казачьего рода (мой дед, Данила Фёдорович Лобов, увёл её убегом из семьи сибирского казака, которая вела своё хозяйство где-то неподалёку от Омска, на берегу Иртыша, – в те годы такая практика сватовства считалась вполне приемлемой), родила тоже одиннадцать детей. Причём так же, как и у моей матери, все роды у бабушки проходили без какой-либо врачебной помощи, и принимались они не в привычных для нас сейчас роддомах, а в обычной крестьянской избе. Вся эта непростая процедура вхождения нового человека на свет Божий была в руках безграмотных бабок-повитух. За что им всем и за все века низкий поклон, потому что о дипломированных акушерках и уютных роддомах многие из россиян, наверное, смогли узнать только к середине XX столетия. Но что удивительно: все дети моей бабушки, два сына и девять дочерей, выжили и продолжили род свой. Несмотря на то, что и на их судьбы вылилось немало невзгод. Дед, например, вернулся с Первой мировой войны в 1916 году обморожённый и травленный газом. А потом ещё была беспощадная Гражданская война, за которой последовала обманчивая расслабуха НЭПа, закончившаяся уничтожением крестьянства через раскулачивание и массовую коллективизацию. Германский газ и советское отлучение от собственного хозяйства свели в конце концов деда в могилу в 1933 году. Бабушка умерла в 1943 году, но уже в Приморье: в самом начале войны она переехала сюда из Омска с двумя младшими детьми – дочерью Дусей и сыном Афанасием. Они обосновались в шахтёрском посёлке Тавричанка. Второй сын, Николай, всю войну прошёл рядом с маршалом Малиновским. А когда тот был назначен командующим Дальневосточным военным округом, Николай какое-то время управлял дачей маршала под Хабаровском. После демобилизации он работал директором мясокомбината в Улан-Удэ. Обо всём этом мне рассказывала старшая сестра моей мамы – Антонина (по мужу Жирова), которая где-то в начале 60-х годов приезжала из-под Омска погостить к брату Афанасию в Тавричанку, а потом они оба приехали к нам в Лесозаводск. Вот с этими двумя мамиными родными мне и посчастливилось встретиться, а других я не видел никогда.
У нашей же мамы выжили только мы двое с братом. Двое из одиннадцати рождённых! Вот какую цену заплатили мои родители за годы сталинских пятилеток – пятилеток индустриализации, но только не социального обустройства страны в целом – на диком ещё в ту пору Дальнем Востоке. Да, эти пятилетки помогли нам одержать победу в войне с гитлеровской Германией и фактически всей фашиствующей Европой. Однако никогда бы не было, наверное, всех этих надрывных, изматывающих людские силы и здоровье пятилеток, не будь в предшествующем им десятилетии прошлого века архибессмысленного Великого Октября, перевернувшего с ног на голову всю огромную Россию. И такой же архибессмысленной Гражданской войны, обескровившей страну и разрушившей до кирпичика её промышленную и аграрную индустрию, сложившуюся к тому времени на самом высоком мировом уровне систему товаро-денежных отношений. У власти встали в основном безграмотные люди и авантюрные политики из недоучек – других истребили или выгнали за границу. И всё пришлось начинать с начала. Слава Богу, что на исходе того расхристанного, взбалмошного, безбашенного по большому счёту десятилетия нашлась одна светлая голова с двумя крепкими руками и с поистине стальной волей. Этого человека будут потом проклинать и боготворить, его станут обвинять чуть ли не в людоедстве и в то же время писать с него иконы, гарантирующие пришествие всенародного счастья. Как было уже не раз в истории России. И как не хочется ещё когда-нибудь наступать всё на те же грабли. Потому что уж очень больно они бьют по всему народу, отбирая у него как у новорождённых детей родителей, затурканных в условиях полурабского социального обустройства, так и десятки миллионов никогда не родившихся по этим же самым причинам…
4Несомненно, корни любого человека уходят далеко в глубь веков. Но, к великому сожалению, не каждому из нас суждено проследить свою родословную хотя бы до пятого колена. Как вот, например, мне. Только по каким-то крохам устных рассказов старших родственников и сведений из некоторых иных информационных источников удалось установить, откуда пошла наша родовая фамилия. Так, можно предположить, заглянув в Толковый словарь Даля, что у неё напрашиваются сразу два смысловых корня. Первый можно перевести на современный русский язык как баловень, неженка, человек, живущий в достатке, в приволье – от древнеславянских слов «холя, холень». Такая кличка, позже превратившаяся в фамилию, издревле была распространена среди восточных славян, поселившихся на землях Поднепровья, от истоков до устья былинного Славутича, со всеми его бесчисленными притоками в лесных и степных краях. Её носили служилые люди и купцы, они могли быть и в княжеских дружинах со времён Ратибора и Святослава, и среди вольницы Запорожской Сечи, и в казачьих полках Богдана Хмельницкого – ведь это наша общая история, из которой все мы вышли к нынешним дням. Доподлинно известно, например, что такую кличку-фамилию носила одна из семей брянских бояр, выходцем из которой был в начале семнадцатого века думный боярин Алексей. В это же время в Пскове жил посадский человек Добрыня с той же фамилией, владевший соляной лавкой. Ближе к нашему времени были довольно известны учёный-лесовод, профессор лесного института в Санкт-Петербурге Иван Семёнович Холенко (1838–1901 годы), который был родом из Чернигова, и московский живописец и преподаватель в художественной школе Пётр Николаевич Холенко (1858–1920 годы). Не могу, конечно, всех их считать выходцами из одного родового корня, хотя и не допустить возможности нашего дальнего родства тоже не берусь. По крайней мере, одно можно сказать с полной уверенностью, что фамилия наша и сегодня достаточно распространённая, а кто кому и в каком колене доводится родственником, наверняка знает только Всевышний.
Обратившись всё к тому же словарю Даля, можно обнаружить ещё один возможный смысловой корень нашей фамилии. Так, в херсонском говоре в середине девятнадцатого века ещё было в ходу слово «хола», которое означало «подводный корч, корчага на Днепре». И если считать, что от этого диалектного слова могла произойти наша фамилия, то по смыслу она оказалась бы идентична русским фамилиям Корчев или Корчагин. Однако твёрдое «л» в слове «хола» всё же заставляет сомневаться в возможности подобного варианта.
Мой прадед по отцовской линии был родом из Черниговской или, может быть, Запорожской губерний Малороссии, где традиционно формировались несколько кавалерийских полков царской армии. Как, собственно, и в южных, пристепных губерниях центральной России. А ещё раньше, во времена вольного украинского казачества, базой и постоянной припиской местных казачьих полков были, кстати, города Чигирин, Черкассы, Чугуев, да и сам Чернигов, не единожды отмеченный в русских летописях как славянский заслон на рубеже Великой степи. Так вот, заговорил я об этом лишь по одной причине: где-то в середине девятнадцатого века в один из этих полков был призван на службу мой прадед Тимофей Холенко. И в том, что он являлся прямым потомком украинских казаков, не приходится сомневаться, поскольку других в эти кавалерийские полки, гусарские, драгунские или уланские, со времён царя Алексея Михайловича, в бытность которого Украина добровольно вошла в состав России, просто не брали.
Так вот, мой прадед прослужил в одном из таких полков двадцать пять лет, воевал с турками в Болгарии и, возможно, ещё и в Туркестане участвовал в Ахалтекинской битве, в результате которой была присоединена к России и эта часть Средней Азии. А предположил я это вот почему. Демобилизовавшись, прадед женился и поселился в Мелитополе, вырастил трёх крепких сыновей – таких же лошадников, каким был он и сам. А потом всей большой семьёй вдруг отправился на волах в эту самую Среднюю Азию, в качестве переселенца в одно из местных казачьих войск – тогда, в конце девятнадцатого – начале двадцатого века царское правительство проводило такую своеобразную акцию по укреплению сравнительно слабо населённых территорий казачьих войск в Сибири и на Дальнем Востоке. Видимо, мои родичи первоначально всё же выбрали Семиреченское казачье войско, поскольку поселились именно в форте Верный, который был переименован в советское время в Алма-Ату. А почему был выбран моим прадедом именно форт Верный, да потому, видимо, что он был ему хорошо знаком ещё по армейской службе. И только позже, накануне Первой мировой войны, перебрались мои предки под Омск и стали жить в пригородном селении на крутом берегу Иртыша. И до конца дней прадеда на самом почётном месте в его избе висел портрет генерала Скобелева. Наверное, у него на это были достаточно веские причины.
Был он, по рассказам, крепким, жилистым человеком и прожил сто пять лет. Даже в глубокой старости он мог запросто приволочь на плече к своей избе срубленный в леске дубок, не обрубив на нём даже крупных ветвей, или прогуляться «до ветру» по заснеженному двору босиком. За ним и другие подвиги водились. В селе этом брали воду из Иртыша и возили её на крутой берег в бочках на лошадях. И вот как-то застряло колесо в канаве, и лошадь, как ни напрягалась, но не смогла сдвинуть телегу с бочкой с места. Тогда прадед Тимофей выпряг её, отвёл в сторонку, и сам взялся за оглобли. И вытянул телегу с тяжёлой поклажей на самый верх иртышского берега.
Характер у прадеда, говорят, был спокойный и довольно доброжелательный, компанейский. Он был терпелив и немногословен, но страшно не любил, когда с ним поступали несправедливо: тогда он мог неожиданно взорваться и натворить даже немалых бед. Когда семья закрепилась на новом месте жительства в форте Верный и немного обжилась, младший сын Григорий ушёл служить в казачий полк, а с двумя другими сыновьями, Федотом и Корнеем, прадед занялся разведением коней. Но на первых порах пришлось всё же поддерживать семейный бюджет за счёт охоты и рыбалки, благо, что для всяческой дичи и прочей живности в тугаях Семиречья и Прибалхашья было настоящее раздолье. В изобилии водились в этих местах разная рыба и птица, в камышах в два человеческих роста бродили несметные стада диких кабанов, и их бережно «пасли» полосатые «пастухи» – среднеазиатские тигры. Так что охотолюбивой душе было где разгуляться. Кстати, мой дед Корней, по отцу, однажды лично встретился одновременно сразу с двумя этими могучими властителями фауны тех камышовых джунглей. Как-то он возвращался с охотничьей тропы в свою землянку, устроенную в глубине тугаев на небольшом островке. И тут его взору предстал полный раззор во временном приюте промысловиков: дверь была сорвана с ременных петель и упала внутрь избушки, а в ней, родимой, всё было разбросано, разрыто, запасы продуктов, одежда, постели охотников и нехитрая походная посуда – всё перемешано с землёй, будто дикий табун прошёлся. По оставленным следам перед дверью и в самой избушке мой будущий дед определил, что побывали здесь кабаны. Один или два как минимум, но поработали основательно. Делать было нечего, пришлось наводить хоть какой-то порядок. Сокрушённо вздыхая, прислонил винтовку-бердану у входа к уцелевшему дверному косяку и принялся за дело. Увлёкся настолько, что не сразу услышал какие-то подозрительные звуки за спиной. Насторожился только тогда, когда в землянке с маленьким оконцем вдруг резко потемнело. Оглянулся и окаменел: в узком дверном проёме, где была прислонена к косяку однозарядная бердана, в землянку пятился зад огромного секача. Кабан злобно похрюкивал и медленно отступал перед каким-то грозным молчаливым противником, уже напрочь перекрыв доступ к оставленной у двери бердане. В наличии оказался только охотничий нож, который всегда был в ножнах на поясе. Им и воспользовался мой дед. Удар был нанесён в единственно уязвимое место в данной ситуации – по яичкам секача, рельефно выступающим в нижней части кабаньего зада. Секач взревел и бешено ринулся вперёд на загонявшего его в землянку противника. Когда дед уже с берданой в руках вышел из землянки, на поляне перед собой он увидел поверженного тигра с развороченным кабаньими клыками боком и самого секача на издыхании с разбитой головой. Так гласит давняя семейная легенда.
Мой прадед Тимофей и его сыновья охотились вместе с одной семьёй из местных жителей, семиреченских казаков. Глава этой семьи, на редкость прижимистый и, видимо, не очень порядочный человек, как раз и верховодил в их промысловой артели. Это обстоятельство и привело, в конце концов, к конфликту, переросшему со временем чуть ли не в кровную месть, держащей обе семьи много лет во взаимной враждебной напряжённости. Мой отец даже мне, когда я стал взрослым, и с тех давних событий, как говорится, утекло уже много воды, назвал фамилию этой семьи и предупредил, чтоб я был всегда настороже, коль встречу человека, носящего такую же. Я помню её до сих пор, но никогда не встречал кого-либо хотя бы с похожей фамилией. Так вот, вначале в артели всё шло вроде бы нормально. Но однажды осенью, когда начали делить доходы от охоты и рыбалки, мой прадед вдруг обнаружил, что глава артели бессовестно обжулил его с сыновьями. Был поздний вечер, праздничное застолье по случаю окончания сезона подходило к концу, когда прадед стал предъявлять свои претензии нечестному хозяину. Слово за слово, страсти накалились, кряжистый хозяин схватил прадеда за грудки. Но лучше бы он этого не делал, потому что старому вояке такое обращение, видно, было непривычно и, вполне естественно, поэтому очень не понравилось: он просто поднял обманщика над своей головой и вышвырнул его в окно. Окно это с вышибленной рамой на беду оказалось на втором этаже особняка, да и во дворе, понятно, было не мягко, поскольку землю уже сковал мороз. Поэтому уличённый в мошенничестве глава артели прожил после того вечера всего только три – четыре дня.
Скандал замяли, поскольку прадед оказался всё-таки прав в своих претензиях, и года два они вообще больше не охотились вместе. Только после сокрушительного землетрясения в 1911 году, порушившего форт Верный основательно, средний сын Тимофея, Корней, снова вступил в ту же артель, видно, нужда заставила. Но с той охоты он уже не вернулся: его нашли мёртвым под опрокинутым возом с мороженой рыбой. Потом выяснили, что это был совсем не несчастный случай: да, он был предварительно застрелен выстрелом в спину, прежде чем оказаться под опрокинутым возом. И хотя все догадывались о том, кто это мог сделать, прямых улик не оказалось, и виновного не нашли. Так моя бабка по отцу, Соломея Кондратьевна, полунемка-полуукраинка из Асканьи-Новы, стала вдовой, получив три рубля в виде компенсации за гибель мужа, а мой отец с сестрёнкой Татьяной и младшим братом Василием – сиротами. Случилось это в 1912 году, и тогда-то вся семья и перебралась под Омск. На новом месте братья погибшего Корнея продолжили заниматься коневодством для нужд уже преимущественно Сибирского казачьего войска.
Мать моего отца вскоре снова вышла замуж и, сменив фамилию, стала с тех пор называться Носовой. Вскоре у моего будущего отца появился ещё один брат, которого нарекли именем Пётр. Но отец мой, оставшись сиротой, не пошёл в новую семью матери, а остался жить у дяди Федота. В семье дяди не было своих детей, и родственники с доброй душой приняли под своё покровительство осиротевшего племянника. Жил с ними и старый дед Тимофей. Всё лето вся мужская часть семейства, в том числе и подросток Федос, как по-домашнему прозывали здесь с детства моего отца, проводила в прииртышских степях с конскими табунами. Так и вырос он среди лошадей, находясь под постоянным приглядом достаточно строгого деда и довольно флегматичного дяди, с его добродушной супружницей.








