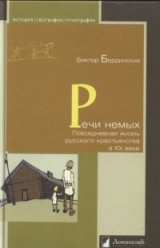
Текст книги "Речи немых. Повседневная жизнь русского крестьянства в XX веке"
Автор книги: Виктор Бердинских
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Новоселова Анна Андреевна, 1914 год, с. Калинино, директор совхоза
Сталина я никогда не любила. Любила и очень уважаю до сих пор Кирова, Молотова (простой мужик). А Сталина не любила за внешность очень суровую, категоричную. Для него остальные люди – плюнуть на них… А он – вот это да! При мне начались аресты. Как это можно было столько людей уничтожить! А потом, когда он умер, я была в Москве, просила трактор для совхоза, сидела целый день, ждала министра. Мне секретарша сказала: «Вы сходите, посмотрите подарки Сталину!» Я так и не пошла.
У нас в бухгалтерии работал старичок. Однажды я из Москвы привезла снимки Политбюро (их дали в нагрузку), все фотографии правительства. И – сразу в бухгалтерию. А он прямой такой был, посмотрел и сказал: «Да, видать, что не четыреста грамм едят». А нам тогда по 400 грамм хлеба давали. Тогда в НКВД были завербованные в коллективах люди, которые следили за сослуживцами и доносили на них. И вот одна такая у нас передала куда надо эти слова. Старичка забрали, куда-то отправили и только после войны в 1946 или 1947 году он пришел. Но до дома не добрался. Вместо Горок вылез в Бурце. Ехал на пароходе. Он поднялся в гору и от переживаний умер. Разрыв сердца! Там вид открывался на наше село. Очень уж хороший был мужик.
Меня тоже вызывали в НКВД. Ногин сказал: «Вы часто бываете в коллективе. Может, будете передавать, кто что сказал?» Я ответила: «Нет, я часто бываю в коллективе, но разговоров не слушаю, только заставляю делать, что нужно». А потом они, видимо, пригласили эту работницу. Платили ли за это, не знаю.
Буркова Валентина Михайловна, 1915 год, учитель
Мой одноклассник был взят за разговоры, он не вернулся. Взрослые боялись говорить в 1937–1938 годах, предупреждали детей. Ссыльных было много, больше женщин легкого поведения, из-за них в городе появились венерические заболевания.
Двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцатые годы – это было тогда. Я помню, как шли колонны по этапу кулаков-выселенцев. Сначала лошади с людьми, детьми, потом люди с котомками, палками. В Кировской области ссылали в Кай и поселок Лесной. Их собирали на опорных пунктах. Колонны пеших шли по Вятскому тракту.
К Сталину и раньше, и сейчас хорошо отношусь. Он ведь не один в ЦК был. Все цари были душегубами, он тоже был.
За 34 года не нажил ничего – порядочный человек.
Была дисциплина: на пятнадцать минут опоздал – под суд. Все были на работе, не прогуливали. В магазинах колбасы было по двенадцать сортов. Брали 200–300 грамм. В рассрочку давали всяких товаров, материи. Все было дешевое.
Чарушина Зоя Ивановна, 1928 год, медсестра
Раньше, конечно, Сталин для каждого человека – это как отец родной. С таким уважением, трепетом относились и некоторые вместо иконы вешали, боготворили. Вот какое отношение было. И боялись… А как боялись? За пять минут опоздания судили. Тридцатые годы – это смутное время было. От родителей помню, боялись даже слово сказать, боялись где-то собираться, лишнего говорить. В тридцатые перед самой войной хватали на ходу. Я была свидетелем, как отца у меня чуть не упекли за частушку. Все продал, приехал голый. Ни сесть, ни лечь – ничего нет, а спел частушку злую. Спел, и все, а ведь частушка-то к Сталину и не относилась. Его бы расстреляли…
Маму тоже, если кто ночует из деревни, вызывали – кто да что. Вверху жил над нами из «серого дома», так вот как мы ему смерти просили! Скольких он упек! Когда уж война кончилась, все на реку ездили на лодках кататься.
И он, видимо, со своей организацией из «серого дома» ездил по реке на лодке, лодка перевернулась, и он на реке тонул. Все видели, а никто его не спас. И после войны не поймешь, что было. Почему в плену был? Да ведь он, может, раненый был, может, оглушило его. Виноват разве? Вспоминаешь, и волосы дыбом встают, вот какое время было!
Раздел II Крестьянское счастье
«Жилось весело»Платунова Елизавета Ивановна, 1900 год, дер. Ерусалим, крестьянка
Деревня наша была на баском месте. Нашу речку пошто-то звали Крутец. Наверно, из-за того, что шибко было круто. Сбегали в нее малые речки: Водяниха, Борисовка. А вода-то в них была! Каждый камешек по цвету увидишь. А мель-ниц-то сколь на них было! Ерменская, Скоковская, Борисовская, Боровлянская, Ботяниха. Мельницы мололи на три сорта. Страсть хорошо жить, коли мельницы-то близко.
Леса около деревни были вот уж сколь хороши. А берег-ли-то как! В среднем поле лес был строевой. Идешь по нему, сосны стоят одна к одной, только в вершинах пошумливает, ровнехонькие. Разделен был на полосы, кажный и ухаживал за ним. На дрова рубили в верхнем поле, и там был у каждого заполосник. Вырубишь сколь на дрова, весь сук подберешь. Мелочь всю осень сжигали. Бурелом весь сразу подбирали.
По заполоснику как по избе ходили, перешагивать нечего было – вот какой был порядок. А хлебушек-то рос, ой господи! У каждой семьи в деревне было три полосы земли в поле. Полосы по пятеро гон. Долги же они были! Скота держали помногу. На поля вывозили назем все соседи вместе – были наземные помочи. А вот была у нас вдова, мужик-то умер, звали ее Ваниха-Якуниха. Ей-то уж обязательно назьму возили. Было трое ребят у нее, все малы.
Назьму возили много. Весной солнышко подогреет, ступишь ногой, так и теплая земля-то, подогревалась быстро. Зерно-то и кладешь в тепленькую землицу. А колос-то потом положишь на ладошку, так и вес чуешь.
Соседи жили скромно, нигде никакой ругани, бранного слова не услышишь. Мужики к бабам всяко относились. Но ведь, надо сказать, мы – мужиков-то уважали. Да терпеливые были. Робили не хуже их. А вот с каким почестям к старикам относились! Идет старик по деревне – лучше бы куда с дороги отвернуть. Поди не так поклонишься или чё не так оболочено. Всем еще из ребят строго наказывают и учат, как надо им кланяться, здороваться. Одним словом, почитали стариков и слушались. Уж слова не переставишь.
Единолично жили, а друг другу ох как помогали. Все было поесть, попить. Семья у нас была семнадцать человек. Сами управлялись. А в пост разве поесть было нечего? Ох и вкусна была овсяная каша – мочиха, саламат, тяпня с суслом, щи постные. Мяса хватало на круглый год. В погребную яму снега наложишь, дак лучше холодильника. Все свое было. А солонины всякой: огурцы, капуста – спускали в ключи, нисколько не мозгли. А летом когда жнут – топлено молоко уносили в бураках берестяных. Оно и не грелось и не мозгло. А делали варено молоко корчагами. Ох, только вспомнишь! Сметана стояла в горшках всяка: тут топлена, тут кисла. Какую надо! А бьешь – комок останется, сдыбник. На нем потом стряпню сделаешь, лучше нонешнего печенья. Овсяные сочни подсушат, да и с молоком холодным – оттепленным ели. Посудка-то – глиняны горшки. Их прожаришь в печке, да еще с вересом ошпаришь. Потом наливаешь молоко, а запах-то какой приятный по всей избе.
А вспомнишь как работали? Все успевали. А ночью молодые девки на себя работали. Деньги-то надо на одежку. Кустари у нас ездили, к домам подъедут со шкурками беличьими. Вот я и брала хребтовые пластины. Сшивала бунты. По пять сотен, бывало, сшивала. Надо сшить 26 рядов. А потом из них, этих бунтов, манто богатым шили. У меня манта не было: шибко дорого. А за работу платили копейки: 25 копеек с сотни. Родители знать не знали, как девок одевать, – заробишь и купишь.
А наряжаться любили! Плясать ходили в шерстяных юбках. Каких только расцветок не было! Да еще с атласными полосами… Таллин ой как хорош был! Батист на кофты покупали. К праздникам шили белые нижние юбки, вышивали – мере-жили. Красота-то какая! Была еще муравая матерья. Глядишь на нее, никаких цветов не видно, а пойдешь – всякими цветами так и переливает. На головах носили разноцветные полушалки. Каким цветом только не было! И не смывались. Вот плат, ему больше 100 лет. Черный, розочки мелкие, невысказанной яркости, крупные по полям. Зимой носили пуховые платки. Привозили издалека. В кольцо проденешь. Всю жизнь носила один плат.
А тут и в колхоз вступили. Я не знаю, как записывали, потому что на собрания ходил мужик. Бабы-то ведь не ходили. Придет мужик и говорит, всех в колхоз зовут, а я, говорит, не пойду. А я говорю: а я пойду! Он и согласился. Вступили в колхоз. Лошадь увели, а другую скотину оставили.
А што? В колхозе мне глянулось. До этого мы жили дружно, в колхозе стали эдак жо. Пока у нас было три деревни, все было хорошо. А как укрупнили, все пошло-поехало. Всякий сброд отколь-то наехал. И где это видано? Мужики пить стали, бабы – матерщина пошла. Хлеб куда-то увозили. А тут и война. Радива у нас не было, газеты не читали, о правительстве ничего не знали.
А вот еще интересно. Жили раньше – бога боялись, стариков почитали, работали с утра до вечера, а жилось весело. Злости ни на кого не было. Вот я всегда думаю, сколько у прежних людей было терпения. Умели все переносить. Я даже стихотворение запомнила, оно мне и сейчас как-то помогает все переносить:
Боже милостив, владыка,
Научи нас в мире жить,
Обновите дух, владыка,
Научи врагов любить.
Научи меня смирению,
Все обиды забывать,
Дай мне, господи, терпения
Крест нести и не роптать.
Я не богомольная. Пускай мне скоро 90 лет. Но чего-то все равно есть. Вот раньше ходили исповедоваться. Так после исповеди и помазания где и сила бралась. Домой придешь, дак горы ворочаешь. А вот у нашей соседки сын был, он по морю плавал. Прибегает она однажды и ревет. Видела во сне Ванюру, стучит в окно и говорит: «Тонем». Молилась всю ночь. Потом он рассказывал, что взаправду в ту ночь едва не утонул. Неученые мы были, а хорошо жили.
«Каждая семья имела ремесло»N. N., 1917 год, дер. Ваньшины, крестьянин, столяр
Земли у крестьян нашей деревни было немного, но деревня по крестьянским меркам того времени жила неплохо. Каждая семья имела какое-нибудь ремесло. Прадед, дед и мой отец Иван Дмитриевич были столяры. Долгие зимние вечера при свете керосиновых ламп строгали, пилили, клеили, шлифовали, долбили, точили…
В семье было восемь человек: отец, мать, я, брат старший и четыре сестры. Дом был большой, двухэтажный, полукаменный. Внизу была большая русская печь, в углу – котел, где грелась вода для скота, стоял столярный большой верстак с массой инструментов. По стенам и на различных полках лежало множество заготовленной древесины, которая годами сохла, чтобы потом пойти в дело. Отец и мать всегда вставали в четыре утра и начинали работу. А мы, ребятишки, спали наверху, на втором этаже на полу, на соломенных матрасах, которые затем выносили в сени на мороз. Работал отец вручную, станков не было. Приходилось торопиться с работой, поэтому нас, ребятишек, начиная с восьми-де-вяти лет, заставляли уже что-нибудь делать, помогать отцу. Да, пожалуй, даже и раньше. Нужно было шкурить дерево, полировать, варить клей, выносить щепки из мастерской – так называлась большая комната на первом этаже.
Пилить и строгать стали уже позже – в двенадцать – четырнадцать лет, моложе не доверяли, могли испортить доску или брус которые стоили дорого. Подрастая, все дети втягивались в работу. Получалось своеобразное состязание – кто лучше. Оценивала работу обычно мать, Афанасья Федоровна тоже выросшая в семье столяра в соседней деревне. Отец был скуп на похвалу. К пятнадцати-шестнадцати годам я уже самостоятельно мог сделать красивый стул, диван, стол, письменный стол, простой платяной шкаф и другое. Об этом быстро узнала вся деревня и округа, и мужики, встречаясь на улице, уже снимали картуз при встрече и тепло здоровались со мной, называя по имени-отчеству.
Отцы и родные обычно этим гордились. Но такую почесть надо было заслужить, не каждый этого добивался. Так я стал столяром. Конечно, летом столярничали мало. Крестьянская работа в поле, на лугу, на скотном дворе отнимала все время. Ребенок в десять-одиннадцать лет даже в лес уже ходил редко за ягодами и грибами, которых кругом было множество, – нужно было помогать родителям. Ходили в лес почти только в дождливую погоду.
Люди по характеру были доброжелательны и трудолюбивы. Образцом для деревни обычно был дом, где все работали, работали весело, много, где в доме были шугки, смех, где весело отмечали сельские праздники. Был в нашей деревне этакий. Эта семья была не богаче других, не наряднее одевались, не лучше других кушали. Но из этого дома почти всегда слышались песни, вечерами игры на гармошке или балалайке, двери были всегда раскрыты для всех. Около забора у этого любимого дома росла большая черемуха. Когда поспевали ягоды, хозяин дома ставил лестницу на черемуху, и мы, ребятишки всей деревни, с удовольствием ели ягоды. Они были крупнее и слаще, чем на других черемухах. Хозяин просто ежегодно удобрял дерево навозом, и, кроме того, доброта и улыбка его делали ягоды еще вкуснее. Потом он за свое добро расплатился жестоко в годы раскулачивания.
Люди по праздникам в деревне веселились, но пьянства не было. В деревнях были отдельные пьянчужки – один-два на деревню. Это были лодыри, которые не хотели работать. В деревенскую страду их можно было видеть с удочкой на реке или с поклажей за спиной, несущих что-нибудь в город, осенью – с ружьем, спешащих на охоту.
Один раз мне пришлось видеть страшную мужицкую драку в одном большом селе, где две деревни что-то не поделили. Были убитые и раненые. Но дрались мужики трезвые.
В двадцатые – тридцатые годы с одеждой было плохо. Носили больше холщовую домотканую одежду. Зимой верхняя одежда была меховая: азямы, тулупы, борчатки, шушуны, шубы… В каждом хозяйстве было много овец, поэтому меховая одежда стоила дешево. Зимой носили валенки. Редко кто знал слово «ревматизм». Летом крестьяне ходили в лаптях или босиком. Лапти очень удобная обувь. А вот в грязь, особенно весной или осенью, крестьянину было плохо.
В семье к приметам в прошлые годы относились очень внимательно, запоминали их, сами наблюдали. Но со временем они перестали совпадать, и серьезно верить в них не стали. Однако их помнили, и считалось особым шиком, особенно у стариков, вставлять их в разговор.
К Масленице ставили ледяную горку, большую, пять-шесть метров высоты, и украшали елками, бумажными цветами, иногда веселым чучелом. Начинали кататься с горки ребятишки, потом молодежь, дальше пожилые люди. Парни ездили из деревни в деревню, высматривали себе невест. К вечеру подходили ряженые в различных масках, старой одежде, около горки зажигали факелы. Все это сопровождалось нехитрой музыкой: гармонь, балалайки, ложки, различные трещотки. Ребята приходили домой веселые, усталые, в мокрой одежде. Развешивали ее у печки, чтобы на другой день снова идти кататься.
«Нельзя людям без красоты»Новоселова Анна Прохоровна, 1917 год, дер. Шустово, рабочая
Сейчас ведь все в ученые люди идут, а от земли людей отучили. А ведь землю – ее сердцем чувствовать надо, ее живать. В деревнях раньше жили мирно и дружно. Сосед с соседом встретятся – «доброе утро» говорят. Были и злые, и жадные, но их как-то и незаметно было. В основном добрые, дружные, открытые люди были. Мужики свои дела решали, бабы – свои. Песни, частушки пели чуть не каждый день. Помню, еще малехонькой девчушкой была, а у нас в деревне два мужика было. До чего задиристые да ругачливые, да все назло соседям… Так крупно поссорились из-за чего-то, но люди их пристыдили. Мол, нельзя же задирать постоянно, устали уже от ваших выкрутасов. Так один из них на примирение пошел – частушки забавные сочинил и под окном своего соседа и спел под гармошку. Тому потом пришлось таким же макаром сделать. Так вот и помирились. У нас в деревне гармонист был дядя Тима, весельчак такой, особенно подопьет когда, так его и не остановить было. А весной река разольется, девки с парнями на лодках катались. А раздавались песни как, аж душа радовалась!
Женщина раньше у мужа под каблуком была. Ее дело было работать, детей рожать да помалкивать побольше. Раньше-то ребенки с малолетства за материн подол держались. Она и наставит, и поможет где надо. Мать и уважали тогда, а сейчас вот и забывают родителей-то, не почитают.
По приметам, милый, люди и раньше жили. А ныне ведь все изменилось – весна с зимой перепутались, лето с осенью – и не поймешь ничего. А погоду почти всю по приметам и определяли: когда весне прийти, когда зиме наступить, когда сеять, когда пахать, когда урожай собирать. И в колдовство верили, не все, конечно, но гадали и ворожили кто как мог. Вот башмачок за ворота бросали. Куда носочек-то у него укажет, значит, собирайся, дева, замуж из дома отцова в ту сторону. Стол накрывали на двоих, нужно было приговаривать: «Ряженый, суженый, приходи ко мне ужинать».
Девки еще старались узнать, не пьяница ли муж будет. Так они кринку в чашку с водой опрокидывали. Если вода туда забегала, значит, муж такой же охотливый до вина будет, если нет – живи, девка, спокойно. Еще в ночь перед Рождеством, перед тем, как спать ложиться, так волосы гребнем надо было расчесать и в зеркало поглядеться. Да потом под подушку же и положить, да и приговорить, чтоб суженый во сне приснился. Потом еще на дорогу выходили и спрашивали у первого встречного имя мужское, что перво-наперво в голову придет, – так вот и жди суженого с таким именем.
«С песнями легче»Злобина Анна Григорьевна, 1913 год, дер. Злобины, крестьянка
Какие люди? Всех людей на одно лыко не свешаешь. Нонче есть дурные, и раньше всякие были. Раньше люди поспокойнее были. Сейчас вон они на производстве нервничают. А тем более побегаешь по магазинам – есть-то нечего. Сейчас женщине полегче стало. А раньше работы было много. Хлеб сама пеки. Через день квашня. Вставай пораньше да пеки. Мололи на мельницах. Раньше хлеб по трудодням давали. Сперва государству, потом колхознику. Армия-то тоже была, кормить ведь ее надобно. Вот и жили. Женщина – по дому, мужику хозяйства хватало. С детьми-то больно некогда было возиться. Раньше дети махенькие-то волочились на печи или еще где. Бежишь, бывало, на полосу, ребенка тащишь под сосну, а сама за работу принимаешься. Жнешь свою полосу, неохота отставать-то. Землю начисляли по числу едоков. Родится ребенок – земли прибавят. Корми, воспитывай! Все с собой.
Раньше радива не было, свету не было. Что могли знать? Книги не читала, я – человек бестолшный. Работали усердно. Досуг ли читать газеты, проводить собрания? Усадьбы были по 50 соток. Огородцы садили, сеяли клевер, картошку, хлеб. Соток 20 – картошкой, остальные хлебом засеешь. Жили-то мы бедно. Одна без мужа трех дочерей растила: Тамарку, Гальку и Полинку.
Раньше носили все портяное, ткали сами. Пальто сошьют девке, так до смерти хватало. Девки носили юбку, кофту под юбку, ремешком подпояшут. Сказки-то я все из половины знаю, а частушки есть, певали девками.
Вышивала я платочек
Лебедями, утками.
Дожидала милого
Часами, минутками.
* * *
Полюбила я такого,
Он молчит – и я ни слова.
Дивовалися на нас,
Вот так пара собралась.
* * *
Ко мне милый подойдет,
На лице улыбочка.
Мое сердце встрепенется,
Как на речке рыбочка.
* * *
Ты зачем сюда приехал,
Незнакомый паренек?
Иссушил мое сердечко,
Как на печке сухарек.
* * *
Мой миленок, как теленок, —
Только веники вязать.
Проводил меня до дому,
Не сумел поцеловать.
Или вот про Семеновну частушку певали.
Семеновна! Да больно бойкая!
Наверное, выпила,
Да рюмку горького!
* * *
А Семен, Семен!
Да наколи-ка дров!
А не наколешь дров,
Так не поешь блинов.
* * *
Семен, Семен!
Да не подсвистывай.
А потерял штаны,
Иди разыскивай!
* * *
Мене милый изменил,
Я сказала – наплевать!
Я такого лягушонка
Решетом могу поймать.
* * *
Говорят, я боевая,
Боевая не совсем.
Боевая десять сушит,
А по мне страдает семь.
* * *
Говорят, что я горда.
Это верно, это да!
Гордость девушку молоденьку
Не портит никогда.
Раньше-то я много всего знала. Жизнь нелегка, а с песнями – все легче.
«Какие люди были вежливые!»Стремоусова Нина Федоровна, 1922 год, дер. Кривошеи
Ведь в деревне тогда были все неграмотные, не могли сами расписаться, да и, собственно, где было и расписываться-то. А если надо было расписаться, то кого-нибудь просили. Мои родители тоже были неграмотные, но вот запомнилось, люди были необразованные, а какие вежливые, культура от природы, видимо, всегда ужо поздороваются друг с другом, поклонятся, шапку снимут. И не ругались матом, как сейчас, это был и грех большой и осуждалось, ведь на деревне все всё друг про друга знали, всё известно будет, живо осудят за такое.
Мать у меня умерла рано, я осталась от матере на четырнадцатом году, был еще брат моложе. Вся работа по дому на мне стала, скотина ведь была: корова, телка, овец три-четы-ре штуки, курицы. Да и у каждого была скотина, питание все свое было, и жито сеяли, и огород садили. Кто не ленился, работал, дак сыт и был.
Работать я начала в колхозе. Был у нас бригадир, который назначал на работу, утром часов в пять стукнет в окно, скажет: «Сегодня туда-то иди». Куда пошлет, туда и идем: навоз возили на лошадях на поле, машин не было никаких. Слыхали про них как про сказку какую. Возили весной на телегах со своих хозяйств и с фермы на колхозные поля, удобреньев ведь тогда и в помине не было. Люди нагребали, а мы возили или разваливали по всему полю. Лошадей было много, некоторые держали и лошадей. Сама умела запрячь лошадь: одевала хомут, дугу, седёлко, подбрюшник, чересседельник, сани с оглоблями. Потом боронила, сеяли. Все приходилось делать. А бригадир-от скажет в пять часов, а встаешь-то часа в три, а то и раньше, надо ведь и печь истопить, сварить и для скотины и для себя, корову подоить, накормить. И бежишь ранехонько на работу. И вроде все успевалось и не уставалось – и насмеешься и напоешься. Хорошо было, воздух вольный какой. Потом, когда сенокос поспевал, это был как праздник, конечно, молодые были, все нипочем. Косили вручную, все луга выкашивали, сено потом загребали и метали в стога. Это самая веселая работа была, одевали самое нарядное и яркое, как на праздник: розовое, голубое, красное. Эти цвета считали самыми нарядными у нас. А вот самое главное, всегда работа с песней, по всей округе, кажется, разносится. Ведь не пили, а как пели песни красиво. Кто-нибудь запевает, а остальные подтягивают, песни длинные, протяжные. Сядут поесть, отдохнут маленько – и песня. Есть с собой брали в платок, яйца вкрутую, лук зеленый, бурак квасу, хлеба ржаного. Какой хлеб ароматный был, пекли ведь сами его, от посеву до печки все сами делали, своими руками.








