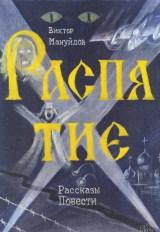
Текст книги "Распятие"
Автор книги: Виктор Мануйлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
10. Январь 1943 года. Земля
Вечером сержанта Иванникова вызвали к командиру роты. Иванников в это время писал домой письмо. Он закончил передавать поклоны своим многочисленным родственникам и, перевернув лист трофейной бумаги, сосредоточенно слюнил огрызок химического карандаша, думал, о чем бы ему таком написать, но не находил ничего заслуживающего внимания. Было, правда, одно, так он об этом уже писал две недели назад: тогда его поставили командиром взвода вместо убывшего по ранению младшего лейтенанта Константинова. Но командовал он взводом недолго: прислали нового комвзвода, и тоже младшего лейтенанта, но с чудной такой фамилией, что он ее до сих пор не может никак запомнить. Не русский взводный-то, и фамилия у него не русская: какая-то Амир-трамтарарам-баев. Вот эту середку Иванников ну никак запомнить не может. Хоть тресни. А так этот Амирбаев, как его про себя стал называть Иванников, парень вроде ничего, даром что из казахов и молоденький. Только под пули зря голову подставляет: хочет, видать, показать, какой он смелый. Эдак скоро опять без взводного останемся. Иванников же, когда был взводным, или, как сейчас, отделенным, лишний раз поклониться пуле или осколку не стеснялся. Поклонишься – живым останешься, а не поклонишься – тут как повезет. Амирбаеву пока везло. Но не писать же обо всем этом в деревню…
И Иванников выводит крупными буквами неровные строчки: «А я, слава богу, здоров, не ранетый и не контуженый. Питание у нас справное и обмундировка тоже: полушубки, валенки, телогрейки на вате и штаны тоже ватные. А еще сверху одеваем все белое – масхалаты называется, чтобы на снегу видно не было. Еще нам раздавали подарки, и мне достался подарок от трудящейся гражданки из деревни Терки, что на Ярославщине, – шерстяные носки и тонкие перчатки. Перчатки я отдал взводному: ему для пистолета сподручнее, а носки на мне. Правда, прохудились на пятках, но я зашил…»
Тут как раз Иванникова и позвали к ротному.
Сержант влез в полушубок, привычно закинул за спину автомат и, перешагивая через спящих бойцов своего отделения, вышел из хаты.
Возле крыльца приплясывал часовой.
– Ну как? – спросил Иванников. – Тихо?
– Тихо, товарищ сержант, – ответил часовой и, перестав притопывать, прислушался. – У соседей только постреливают из минометов, а так ничего: немец нынче смирный.
Иванников вышел за калитку и пошел по улице. Снег под его ногами от мороза не то что скрипел, а прямо-таки визжал, и визг этот, казалось, слышен был и у немцев. На правом фланге, километрах в трех от станицы, которую они освободили сегодня утром, чего-то расходились минометчики.
Там лениво взлетали ракеты, иногда татакали пулеметы. Но боя, похоже, там не велось – одна стрельба. И Иванникову, человеку хозяйственному и по-крестьянски прижимистому, стало жалко понапрасну выкидываемых мин. Он вспомнил, как в сорок первом считали каждый патрон, каждый снаряд, а теперь вот – разбогатели, получается – не жалко.
В хате, в которой квартировал командир роты старший лейтенант Поплечный, уже находился взводный Амирбаев, два других отделенных – младшие сержанты, политрук роты и кто-то в черном – не то летчик, не то танкист. На столе горела керосиновая лампа, стоял самовар, алюминиевые кружки, в плетеной тарелке лежали куски хлеба, на газете – колотый сахар. Но чай никто не пил, и Иванников пожалел об этом: чаю бы он попил с удовольствием.
Оказалось, что ждали только его, Иванникова, и едва он переступил порог и прислонил к стене автомат, как ротный встал и жестом пригласил всех к тому краю стола, где сидел под образами человек в черном.
– Вот что, товарищи, – начал старший лейтенант Поплечный, – вашему взводу выпала большая честь в братском взаимодействии с нашими славными танкистами…
– Извини, старшой, – перебил Поплечного человек в черном и выдвинулся из полумрака на свет. – Времени у нас мало. В обрез. Так что разреши мне.
– Да, да, пожалуйста, – с готовностью согласился ротный, и Иванников чутьем полтора года провоевавшего человека понял, что ему сегодня спать не придется.
– Честь не честь, а задача у нас простая: прорваться сегодня ночью через хутор Горелый к высоте сто девяносто шесть, – заговорил Поплечный уверенным голосом. – Прорваться с ходу, в бой не ввязываться. Такая вот задача. Мои танки будут на северной окраине станицы через час. К тому времени вам, младший лейтенант, – обратился он к взводному Амирбаеву, – доставить туда шестеро конных саней-розвальней. Или что найдете. В станице есть сани. Лошадей нет, а сани имеются. Сам видел… Дальше. Людей одеть в масхалаты, взять побольше патронов и гранат. Пару пулеметов. Хорошо бы «максим».
– «Максим» будет, – заверил ротный.
– Полушубки снять и положить на дно саней: неизвестно, сколько нам на этой высоте загорать придется. Сухой паек на два дня… Кажется все.
– Так, значит, высоту брать будем, – ни к кому не обращаясь, произнес Иванников, как бы закрепляя в своем сознании кем-то принятое решение.
– Будем, – жестко обрубил танкист. – Немцы на ночь с высоты спускаются в хутор. На высоте остается только усиленное сторожевое охранение. Да и то рылом в другую сторону. Вот мы и должны воспользоваться этим.
– А откуда известно, что они уходят? – спросил кто-то из отделенных. – Сами они, что ли, доложили нам?
– Оттуда! – танкист нервно сплел пальцы, хрустнул суставами, но заводиться не стал. – Не знаю я, откуда известно. Начальство мне не доложило, откуда ему известно. Мерзнет немец, вот и лезет в хаты, – зло закончил он.
– Но ведь хутор… – нерешительно произнес взводный Амирбаев. – Наш батальон сегодня два раза атака ходил…
– Потому и не взяли хутор, что высота – ключ ко всей обороне немцев на участке дивизии. Возьмем этот ключ, и вся их оборона рассыплется. А в хутор мы прорвемся: ночной атаки танков они не ожидают. Сейчас минометчики приучают фрицев к шуму. Вот под этот шум нам и нужно как можно ближе подойти к их обороне. А сани – это чтобы вас раньше времени не прихлопнули: танк на скорости прикроет десантников снежным буруном. Еще вопросы будут? – танкист обвел взглядом всех присутствующих, и Иванников заметил, что одна сторона лица у него красная и бугристая, а глаз на этой стороне слезится, неподвижен и больше другого.
«Видать, горел парень, – подумал сержант о танкисте. – Этот прорвется, этот чего хошь достигнет».
Вопросов не было.
11. Май 1960 года, суббота
– А вин тут блызько живэ, – говорит мне Дмитро Сэмэныч, как он мне представился, и берется за свою косу. – Вместях и пидэмо: я у його тютюном разживусь. Гарний у його тютюн. – И пояснил: – Табак по-нашему, по-хохлацки.
– Да ничего, я понимаю.
– То так: ученого чоловика зараз видно. Ученому чоловику шо як ни гутарь, вин усэ скризь понимае.
Я не стал разочаровывать моего нового знакомого на счет моей учености: до диплома мне еще два года. Но главное – точит меня червь сомнения: не ту дорожку я себе выбрал, не туда иду, не выйдет из меня инженера-радиста, и не смогу я на этой стезе доказать Галке, что, оттолкнув меня, она оттолкнула… Но на этом лучше остановиться, потому что стоит мне решить, что я – не просто я, как все пойдет через пень-колоду. Так что сначала инженер, а потом… А потом видно будет…
Я так задумался, что не заметил крапиву и влез в нее своими голыми ногами. И поделом: не отвлекайся.
Мы идем по тропинке вдоль лесопосадки. Впереди Дмитро Сэмэныч с косою на плече, я чуть сзади качу свой велосипед и на ходу тру ладонями то одну, то другую окрапивленную ногу. Мы идем к какому-то деду Осипу, который должен знать все. Признаться, я иду к этому деду без всякого энтузиазма и единственно потому, чтобы не обидеть Дмитро Сэмэныча, который почему-то решил, что я только за тем сюда и прикатил, чтобы разузнавать о взрыве батайских складов.
И все-таки я иду, хотя решительно не знаю, что мне потом делать с моими новыми знаниями об этих складах. В газеты я уже не пишу и журналистом быть не собираюсь, потому что не умею… ну, не врать, а что-то в этом роде, без чего журналисту никак нельзя. Но даже если бы и умел, и писал, и собирался, вряд ли кого-нибудь смогла бы заинтересовать история, скорее похожая на легенду, чем на действительный факт.
Но дело не только в этом. Всего пятнадцать лет прошло после войны, и если мальчишки все еще играли в «наших» и «немцев», то взрослые, прошедшие через войну и сквозь войну, вспоминали о ней неохотно: она еще ныла по ночам к непогоде невынутыми осколками и будто бы залеченными ранами, памятью о невернувшихся. Еще бывшим фронтовикам не положено было никаких льгот, еще на толкучке безногие или безрукие калеки со слезой в голосе рекламировали всякую рухлядь и краденое барахло, еще в каких-то дальних далях, в стороне от людского глаза зрели проекты помпезных памятников, еще только добывали руду и золотишко для орденов и медалей, которые дождем прольются на всех, кто воевал или околачивался около войны, еще поденщики от литературы только складывали первые главы мемуаров для власть предержащих…
А пока те, кто остался жив, и теперь, через пятнадцать лет, все не переставали удивляться тому, что они двигаются, дышат, едят, работают, обнимают женщин, растят детей… «Пропади она пропадом! – говорили бабы. – Хорошее что вспоминать, а войну…» – и кто вздохнет, кто перекрестится, кто вытрет концом косынки повлажневшие глаза…
Да и сам я был мальчишкой этой войны, и на мою пацанячью долю хватило и бомбежек, и артобстрелов, и смертей, и человеческого горя. Через станицу, приютившую нас летом сорок второго, война прокатилась дважды: сперва в одну сторону – на восток, потом в другую – на запад, и каждый раз за саманные хаты нашей станицы обе стороны дрались так, словно здесь, посреди Сальских степей, решался исход войны: и хаты горели, и гибли в погребах бабы и детишки, а когда бой затихал, соседи торопливо хоронили соседей.
Потом война ушла на запад… Но для нас, пацанов, она, можно сказать, только началась: некого стало бояться и все поля бывших сражений стали нашими. То гранату нашли и давай ее разбирать – двумя пацанами стало в станице меньше, одним калекой больше; то нашли ящик с патронами и бросили его в костер – вот уж салют будет! – и салют был, и еще одним пацаном стало на свете меньше, а несколько попало в больницу. И я в том числе. У меня и сейчас на бедре шрам от немецкой автоматной пули. Видел я, как подрывались на минах мои сверстники – так погиб мой сосед, мой тезка и закадычный друг Сережка Осипов.
Видел я и наших пленных, бредущих на запад. До сих пор в моих глазах стоят их спекшиеся от жары губы, осунувшиеся лица, затравленные, полные смертной тоски глаза; до сих пор в моих ушах звучит слитный шорох их шагов по пыльной дороге, сперва нарастающий до жуткого предела, за которым, наверное, начинается глухота, а потом медленно растворяющийся в оседающей пыли.
Видел я и пленных немцев. И тоже хорошо помню их угрюмые исподлобья взгляды и дружный топот их коротких сапог. Немцы работали в Ростове на восстановлении порушенных заводов, и я вместе с другими пацанами кидал в них камни под незлобивые окрики солдат-конвоиров с раскосыми глазами и полное равнодушие сторожевых овчарок.
Помню я и так называемых интернированных немцев – безусых мальчишек в коротких штанах и девчонок в длинных, как у цыган, платьях. Девчонок почему-то сплошь беременными – таких не держали и отправляли нах фатерлянд. Помню их голодные глаза и скорбные глаза моей матери, когда она совала мне в руки вареные початки кукурузы: «Поди, дай: тоже ведь люди».
Видел я даже пленных японцев, но камни в них не бросал: японцы были в диковинку и лично мне никакого зла не сделали.
Лазали мы в раскиданные по степи немецкие танки и откручивали в них все, что можно было открутить. Шныряли наши пацанячьи ватаги по подвалам и блиндажам, окопам, дотам и дзотам, и всегда возвращались с какими-нибудь трофеями. Был у меня немецкий «шмайсер» с заклинившим затвором, и если бы его у меня не отобрали ребята постарше, я привел бы его в норму, а уж патроны раздобыть в сорок третьем не представляло никакого труда. И даже еще в сорок шестом.
Да, была война, совсем недавно была, и рассказы бывалых людей меня не удивляли. А что такого удивительного мог рассказать мне какой-то там дед Осип? Да ничего. Все эти рассказы похожи один на другой: бах-бах-тарарах – и мы победили! Победить-то победили, а отца-то мне кто вернет?.. И крутить бы мне педали до самого Азовского моря, если бы не Дмитро Сэмэныч.
Дед Осип проживал при бахче. Сторожить бахчу еще рано: воровать нечего, но дед уж так привык: как только арбузные плети расползутся по земле, так перебирается он из станицы в низенькую халабуду с камышовой крышей. В халабуде прохладно, пахнет травами и медом, ветер шебаршит сухим камышом, в темном углу тоненько верещит сверчок. Хорошо.
– Туточки тихо, – словно угадав мои мысли, пояснил дед Осип. – А у хати усё колготятся, усё колготятся… Бох с имя.
Дед еще крепок и остроглаз, без работы не сидит: рядом с халабудой сиротливо торчат четыре улья, кустится на грядках табак в окружении частокола из зеленых метелок проса.
– Без штанив, вишь, мода пишла, – ворчал поначалу дед Осип, неодобрительно поглядывая на мои голые ноги.
Я молчу.
Про моду ездить на велосипеде «без штанив» ему долго и красочно объясняет Дмитро Сэмэныч, связывая это с конструкцией моего велосипеда и тем, что штанами можно растереть себе коленки до крови, если ехать аж от самого Ростова.
Мы пили чай, заваренный какими-то травами, макали пшеничные лепешки в алюминиевую миску с медом, в котором плавали крошки воска и захлебнувшиеся медом жадные осы. Взгляд деда Осипа несколько помягчал.
– Шо касаемо до взрыву у Батайски, – говорил он, степенно прихлебывая из тяжелой глиняной кружки, – так цэ дило звистное: кажну ничь наши еропланты летали до Таганрогу и беспримерно скинули десанту – казакив-пластунив. Те пидпилзлы до самого складу, часовых посымали кинжалами, сунули бонбу под это самое… под брезенту, а сами тикать… А склад был агромадный – вот как отседова вон аж дотедова, – показал дед на столб линии электропередачи, которая рассекала его бахчу напополам. – Зимой, як снигу нанэсэ, усих зараз туды – сниг чистить. Як звидняется, так и стукотят: баба е – бабу, старик немощный чи старуха – старика та старуху, хлопчик чи дивчина – и тих туды ж. А там ще пленные булы, наши, червоноармийцы. Мы худы, а вони – кожа та кости…
Я слушал деда и смотрел в светлый треугольник шалаша, в котором виднелись крыши станицы меж тонких, высоких, равных, как на подбор, пирамидальных тополей. От нагретой земли поднимались вверх теплые пласты воздуха, и тополя струились в них и словно истекали зеленью в белесое небо. Картина эта никак не вязалась с морозными и буранными ночами, со скрипом снега под ногами часовых, со смертью и унижением, болью и страхом, надеждой и отчаяньем. Все окружавшее меня в эти минуты: и мерный надтреснутый голос деда Осипа, и гудение пчел, и запах трав и меда, и струящееся марево – все было покойно и величаво и словно вопрошало меня: «Зачем ворошить прошлое? Кому это надо? Любовь, любовь, любовь – другого нет и не может быть в этом мире!»
12. Июль 1974 года, среда, вечер воспоминаний
Мы с Дятловым проговорили почти всю ночь – и это было тем более удивительно, что, казалось, нас связывало столь немногое, на что хватило бы и получаса вздохов и восклицаний. Но дорожка в прошлое пролегла незаметно для нас через дни сегодняшние, и мы, с трудом продираясь сквозь какие-то рогатки в нас самих, заговорили вдруг раскованно и азартно, как бывало говаривали и спорили в пятьдесят шестом и седьмом годах, пытаясь осмыслить, как мы жили и как оно повернется и потечет завтра.
В курилке поодаль от стоянки эскадрильи не только травили анекдоты, но и спорили до хрипоты о всякой всячине. Курилка была одна, в ней собирались и солдаты-механики, и офицеры-технари, в большинстве своем училищ не кончавшие, а оставшиеся когда-то на сверхсрочную, чтобы не возвращаться в колхоз на пустые хлеба, и дослужившиеся до офицерских погон. Были среди них и такие, кто хлебнул войны на фронтовых аэродромах, но в заслугу себе они это не ставили и ничем среди других не выделялись: ну, воевали и воевали, тем более, что в атаки не ходили и от фронта располагались на значительном расстоянии, так что и хвастаться нечем. Довелось бы вам – и вы бы не хуже.
Треп и споры всегда начинались среди солдат, офицеры чаще всего лишь прислушивались да усмехались, потому что солдатский треп шел вокруг жизни на гражданке, откуда они пришли и куда, отслужив положенное, уйдут, а для технарей гражданка была чем-то далеким и непонятным, забытым и полузабытым, как раннее детство. На гражданку они смотрели, как смотрит турист на чужую жизнь сквозь стекло автобуса: интересно, спору нет, но лучше жить своей жизнью, к которой привык.
В те поры как раз Хрущев с Жуковым начали сокращать армию, офицерский корпус в том числе, и все они с ужасом ждали, что вот-вот турнут их из армии на эту самую непонятную гражданку, особенно тех, кто без училищного диплома, и поэтому к солдатскому трепу прислушивались поневоле. Тем более что солдаты никогда не трепались о самой армии, где все – по их офицерским понятиям – шло так, как и должно идти, где все было не только вне критики, но и вне обсуждений, как нечто неприкасаемое, святое даже, что надо принимать таким, какое оно есть… или не принимать вовсе.
А время тогда веселое было, надо сказать. Веселое и ошеломляющее. Тут тебе и развенчание культа личности Сталина и ниспровержение кое-каких других понятий, о которых раньше и думать-то было страшно; тут тебе и целина и всякие грандиозные стройки; тут тебе и Суэцкий кризис и венгерские события; тут тебе и новая техника в войсках, да такая, что бывалые летчики и технари только покачивали головами. А еще мы, солдаты в особенности, чувствовали какое-то подспудное бурление и кипение в стране, которое выходило за рамки обычных официальных сообщений и которое долетало до нас с письмами из дому, – и это-то чаще всего и становилось предметом нашего трепа, наивного, как я теперь понимаю, но хоть что-то в наших душах да откладывающего.
Изредка заглядывал в курилку и майор Смирнов. Он справлялся о самочувствии, о настроении, о том, что пишут из дому. Треп в таких случаях стихал, и мы отделывались от замполита общими фразами, из которых становилось ясно, что у нас все в порядке и со здоровьем, и со службой, и с письмами из дому. А когда майор отходил, кто-нибудь обязательно произносил со значением: «Вот Антипов был – это да-а, это свой человек. А Смирнов… тоже мужик, конечно, ничего, но – не то».
Подполковника Антипова я застал. Мы в полк пришли из школы авиамехаников в октябре пятьдесят пятого, а подполковник ушел в отставку весной пятьдесят шестого. Тогда же, по весне, и Смирнов пришел к нам в полк: свято место пусто не бывает.
Подполковник Антипов рост имел высокий, голос громкий, как у старшины на полковом плацу. Казалось, что вполголоса он говорить не умел – слышно его было по всему аэродрому… если самолеты не мешали. При этом на одно нормальное слово у подполковника Антипова приходилось два-три таких, какие ни одна бумага не выдержит, а разве что забор на какой-нибудь отдаленной стройке коммунизма. Но странно: при нем почему-то никто бранное слово произнести не смел. Это была его исключительная привилегия. Вместе с тем он считался прекрасным рассказчиком. Самую банальную историю мог подать так, что мы покатывались со смеху. Тягаться с ним мог разве что механик Правдин, хотя обходился вполне подцензурной речью.
Но как-то мне довелось оказаться с подполковником Антиповым в невоенном обществе, и я с изумлением наблюдал, как он мямлит и путается в трех словах, не умея выразить самой простейшей мысли, а с языка его слетают одни только «значит» да «так сказать», «как говорится», «вот», «ну» и прочее. И еще я заметил, что если очистить речь подполковника от мата, если ее профильтровать, она теряет всякий смысл.
Нет, что ни говорите, а действительно, велик и могуч русский язык, если на этом языке можно выразить любую мысль, обладая лексиконом из десятка общенеупотребительных слов.
Антипов попал в наш авиационный полк по ранению еще во время войны из пехоты и красные петлицы и красные канты на погонах менять на голубые не стал. А Смирнов к армии вообще никакого отношения не имел: читал историю партии в каком-то институте, был призван в связи то ли с нехваткой политработников, то ли с необходимостью замены полуграмотных горлопанов на людей, искушенных в политических и прочих тонкостях, и поэтому речь его от антиповской отличалась как небо от земли, но была сухой, казенной, скучной, словно он произносил слова против собственной воли или совсем не те, которые ему хотелось бы произносить. Зато когда он выступал перед строем полка или поднимался на трибуну в полковом клубе, то все сразу видели, что это как раз самое его место, тут что откуда в нем бралось: и страсть, и юмор, и меткое словцо. Правда, при этом он иногда заглядывал в бумажки, маленькие такие листочки, которые тасовал, словно карты, но на это никто внимания не обращал.
Да, Антипов и Смирнов были разными людьми. И не только внешне. Они как бы были из разных эпох. Антипов матом поднимал солдат в атаку, а Смирнов в атаку не ходил, отирался при райкомах-горкомах партии, воодушевлял тружеников тыла на героические свершения, хотя жили они в одно и то же время, и разница в годах была не такая уж большая – лет десять-пятнадцать всего.
Вот мы стоим в новеньких шинелях, с едва отросшими волосами, которые непослушно выбиваются из-под пилоток. Нас одиннадцать человек, мы только что прибыли в полк. Выстроившись в шеренгу, мы замерли и лишь провожаем глазами вышагивающего перед нашим строем высокого и жилистого подполковника с общевойсковыми погонами. Шинель на нем длинная, чуть ли ни до самой земли, кавалерийская, фуражка с красным околышем надвинута на глаза. Он вышагивает журавлем и говорит:
– Ну что, так вашу мать и разэдак? Или растак-перетак? Знаю я вас, так вас и этак! Опять же: так-так и перерастак!
За спиной подполковника в живописных позах стоят сержанты и старшины и покатываются со смеху. Обстановка настолько непривычная, что юмор ее до нас никак не доходит, и мы, едва начав смеяться, тут же смыкаем рты, не зная, как все это воспринимать – в шутку или всерьез. Поэтому на лицах у нас растерянно-тупое выражение, и оно еще больше веселит зрителей.
Это продолжается долго, очень долго. А подполковник все ходит и говорит, и лицо у него серьезно, и глаза смотрят на нас колюче, и говорит он вроде бы о вполне серьезных вещах: о том, что мы прибыли в авиационный полк, который считается одним из лучших в округе, а для нас он должен быть лучшим, потому что это наш дом; что мы должны быстрее освоить матчасть, чтобы вот эти молодцы, сержанты и старшины, которые отслужили по пять и более лет, могли наконец демобилизоваться и уехать домой; что мы должны…
Много чего оказались мы должны в этом полку, но это не было для нас новостью, мы к этому были готовы. Мы не были готовы к встрече с таким вот подполковником и к его манере выражать свои мысли.
– Вам все ясно, салаги зеленопупые, так вас и растак?
– Так точно, това-арщ-подпо-оник!
– То-то же, хвостоносы недоношенные, так-растак и разэдак!
В это время дверь штаба отворилась и в ней показался, тоже высокий, полковник. Смех разом стих, лихо щелкнули каблуки хромачей и кирзачей, дернулись, вытягиваясь в струнку, тела, и наши глаза остеклянели на статной фигуре.
Перед нами предстал сам командир полка полковник Ситников, «батя».
Первыми его словами после приветствия и нашего «Здраия-ежлам-това-а-пол-ни-ии-ик!» были:
– Спортсмены есть?
Мы переглянулись: спортом в школе занимались все, но спортсменами мы себя не считали.
– Да они – бабы беременные, так-так-так и растак-так-так, а не спортсмены, – высказался подполковник под общий смех.
Батя лишь усмехнулся.
– У кого есть спортивный разряд, два шага вперед… марш! – скомандовал полковник. Шагнуло восемь человек.
Раздался одобрительный гул зрителей. Глубокие морщины на лице полковника чуть разгладились, взгляд потеплел. Он пошел вдоль строя, спрашивая, кто каким спортом занимался, какой имеет разряд.
– Ну, а рисовать из вас кто-нибудь умеет?
Мои соседи по строю чуть шевельнули плечами, выталкивая меня вперед. Я неохотно сделал еще два шага: в школе механиков, когда у всех личное время и даже когда все идут в кино, мне приходилось писать лозунги, оформлять стенгазету, «Боевые листки», потея в душной каптерке, и совсем не хотелось, чтобы и в полку все это повторилось вновь.
– Ну что ж, – произнес «батя», окинув меня оценивающим взглядом. – Значит, и спортсмен, и художник… – Похоже, он не очень верил в такое совмещение.
И тут кто-то за моей спиной добавил:
– А он еще… это… в окружную газету статьи писал…
– И в роте был запевалой.
– Так это ж, так-так и растак, – не удержался Антипов, – мой, так ска-ать, кадр! Но каков вундеркинд, так его и туды! Может, ты, так-так-так, и рожать умеешь? – под общий хохот воскликнул он, откидывая фуражку на затылок и обнажая голый череп.
– Если его хорошенько горохом накормить! – вставил кто-то из сержантов, и даже «батя» засмеялся, обнаружив в углу рта шеренгу металлических зубов.
И хотя смеялись вроде бы надо мной, я не чувствовал в этих грубоватых шутках ничего для себя обидного и хохотал вместе со всеми. На душе сразу стало легко и просторно, словно я знал этих людей давным-давно и только позабыл, как кого зовут. За моей спиной хохотали мои товарищи, и все страхи, которыми нас пугали в авиашколе, исчезли и забылись, а новая жизнь, ожидающая нас, на какое-то время окрасилась в легкомысленные тона, словно на монотонный подмалевок бросили первые живые краски, заставляющие поверить, что картина непременно получится.







