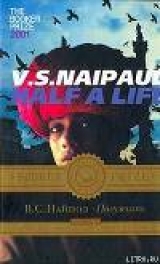
Текст книги "Полужизнь"
Автор книги: Видиадхар Найпол
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)
Видиадхар Найпол
Полужизнь
I
ВИЗИТ СОМЕРСЕТА МОЭМА
Однажды Вилли Чандран спросил отца:
– Почему мое второе имя – Сомерсет? Ребята в школе только что узнали об этом и теперь смеются надо мной.
Отец ответил ему без улыбки: – Тебе дали это имя в честь великого английского писателя. Ты наверняка видел у нас в доме его книги.
– Видел, но не читал. Ты что, так им восхищался?
– Не сказал бы. Вот послушай и суди сам.
И отец Вилли Чандрана начал рассказывать. Это заняло много времени. По мере того как Вилли подрастал, история менялась. К ней постоянно добавлялось что-то новое, и когда Вилли собрался уезжать из Индии в Англию, она приняла следующий вид.
* * *
Знаменитый писатель, о котором идет речь (рассказывал отец Вилли Чандрана), приехал в Индию за материалом для своего нового романа о духовном совершенствовании. Случилось это в 1930-х. Ко мне его привел директор колледжа махараджи. Я тогда наложил на себя покаяние за то, что сделал, и жил как нищий во дворе перед большим храмом. Место там было очень оживленное, поэтому я его и выбрал. Меня преследовали мои враги из числа приближенных махараджи, и во дворе храма, на глазах у людей, которые все время ходили туда-сюда, мне было спокойнее, чем на работе. Из-за этих преследований у меня совсем расстроились нервы, и чтобы восстановить душевное равновесие, я принял обет молчания. Этим я заслужил среди местных некоторое уважение, даже известность. Они приходили посмотреть, как я молчу, и иногда приносили мне подарки. Власти волей-неволей терпели это, и, едва завидев директора с маленьким светлокожим стариком, я сразу подумал, что это заговор с целью вынудить меня нарушить обет. Тогда я разозлился. Люди почувствовали что-то необычное и собрались рядом, чтобы на нас поглазеть. Я знал: они на моей стороне. И не сказал ни слова. Говорили только директор с писателем. Они обсуждали меня, глядя мне в лицо, а я сидел и смотрел сквозь них, точно был слепым и глухим, а народ вокруг смотрел на всю нашу троицу.
С этого все и началось. Я ничего не сказал великому человеку. Сейчас в это трудно поверить, но, по-моему, до нашей встречи я ничего о нем даже не слышал. Из всей английской литературы я знал только Браунинга, Шелли и им подобных, тех, кого успел пройти за год своей учебы в университете, потому что я по глупости отказался от английского образования, послушавшись призыва махатмы, и сразу испортил себе всю жизнь – дальше мне оставалось только смотреть, как мои друзья и враги делают карьеру и богатеют. Но это уже другая история. Ее я расскажу как-нибудь потом.
А теперь вернемся к писателю. Пожалуйста, не забудь, что я не сказал ему ни одного слова. Но потом – года через полтора – он опубликовал свои путевые заметки, в которых были две-три страницы и обо мне. Там было еще много чего о храме, о толпах людей, и о том, как они были одеты, и о рисе, муке и кокосах, которые они приносили в дар богам, и о вечерних лучах солнца на старых камнях двора. Там было все, что сообщил ему чиновник махараджи, и даже кое-что сверх того. Очевидно, директор хотел заинтриговать писателя красочным рассказом о жертвах, на которые я пошел. Еще там было несколько строк, а то и целый абзац, где описывались – примерно в том же духе, что камни и вечерний свет, – гладкость и чистота моей кожи.
Вот как я прославился. Не в Индии, где очень много зависти, а за границей. А во время войны, когда вышел знаменитый роман "Острие бритвы" и иностранные критики увидели во мне его духовный источник, эта зависть превратилась в ярость.
Но преследовать меня перестали. В своей первой индийской книжке, путевом дневнике, писатель – оказавшийся, ко всеобщему удивлению, антиимпериалистом, – в лестных тонах изобразил махараджу, его государственный аппарат и чиновников, включая директора колледжа. Так что отношение ко мне изменилось. На меня стали смотреть как бы глазами писателя, видя во мне человека из высшей касты, потомка знатных священнослужителей, который отказался от высокого поста в налоговой службе, пренебрег блестящей карьерой и живет на скудные подаяния как последний нищий.
Оказалось, что выйти из этой роли нелегко. Как-то раз сам махараджа передал мне добрые пожелания через одного из своих секретарей. Это меня сильно встревожило. Раньше я надеялся, что через некоторое время в городе вспыхнет другое религиозное увлечение, меня оставят в покое и я смогу жить по-своему. Но когда в день большого религиозного праздника к храму явился сам махараджа в облике кающегося грешника – солнце пекло его обнаженную спину – и своей рукой преподнес мне кокосы и ткань, заранее приготовленные для этой цели придворным в ливрее, которого я знал как отпетого мошенника, мне стало ясно, что освобождение уже невозможно, и я покорился судьбе, уготовившей мне такой странный жребий.
Меня стали посещать гости из-за границы. В основном это были друзья знаменитого писателя. Они приезжали из Англии в расчете найти то же, что нашел он. Нередко они привозили с собой его письма. Иногда приходили с письмами от крупных чиновников махараджи. Иногда-с письмами от людей, побывавших у меня раньше. Некоторые из них тоже были писателями, и через недели или месяцы после их посещении в лондонских журналах появлялись статейки об этих визитах. Благодаря заграничным гостям я так часто входил в отведенную мне роль, что совсем свыкся с этой новой версией своей жизни. Иногда мы беседовали о тех, кто уже побывал у меня, и очередной гость с удовлетворением говорил что-нибудь вроде: "Я его знаю. Он очень хороший друг". Так что в течение пяти месяцев, с ноября по март – то есть зимой, или "в холодный период", как говорят англичане, чтобы отличать этот сезон в Индии от английской зимы, – я чувствовал себя заметной общественной фигурой на периферии небольшой иностранной паутины из сплетен и знакомств.
Иногда бывает, что оговоришься, а поправляться не хочешь. Ты делаешь вид, будто сказал именно то, что хотел. А потом вдруг обнаруживаешь в своей ошибке какой-то правильный смысл. Например, замечаешь, что вместо "подмочить репутацию" вполне можно сказать и "подкосить репутацию". Примерно таким образом размышляя о странной жизни, навязанной мне в результате встречи с великим английским писателем, я стал убеждаться, что это и есть спасение, о котором я мечтал не один год: мне ведь давно хотелось отречься, спрятаться, сбежать от того, во что я превратил свою жизнь.
Тут надо вернуться назад. Наши предки были жрецами. Мы жили при храме. Я не знаю, когда этот храм построили, какой правитель велел построить его и долго ли мы при нем жили: это не те сведения, которые нам полагалось знать. Мы были служителями храма, и наши семьи объединялись в клан. Мне думается, что когда-то мы были очень богатым и процветающим кланом и пользовались многочисленными услугами людей, которым служили сами. Но потом нашу землю завоевали мусульмане, и мы все обеднели. Люди, которым мы служили, больше не могли нас обеспечивать. Когда появились англичане, дела пошли еще хуже. Закон соблюдался, но население выросло. Нас, служителей храма, стало слишком много. Так мне рассказывал мой дед. Внутри нашего сообщества по-прежнему действовали те же мудреные правила, что и раньше, но есть было почти нечего. Люди худели, слабели и стали часто болеть. Какая печальная судьба для жреческого клана! Я не любил слушать истории, которые дед рассказывал о том времени, о 1890-x годах. Когда от деда остались кожа да кости, он решил покинуть наш храм и тех, кто при нем жил. У него был план – поехать в большой город, где находились дворец махараджи и знаменитый храм. Он готовился к этому как мог, потихоньку запасая рис, муку и масло и откладывая одну мелкую монетку за другой. Никто ничего не знал. В намеченный день он встал пораньше, еще до рассвета, и отправился на железнодорожную станцию. До нее было много миль. Он шел три дня. Шел по местам, где жили очень бедные люди. Большинство из них были такими же нищими, как он, но некоторые, увидев исхудавшего молодого жреца, предлагали ему подаяние и крышу над головой. Наконец он добрался до станции. Он говорил мне, что к тому времени у него почти не осталось сил и мужества. Он был так растерян и напуган, что не замечал ничего вокруг. Под вечер пришел поезд. Дед запомнил только шум и толпу, а потом наступила ночь. Раньше он никогда не путешествовал поездом и всю дорогу провел, погрузившись в себя.
Утром они прибыли в большой город. Он спросил, как пройти к главному храму, и остался перед ним, перебираясь по двору вслед за тенью. Вечером, после службы, священники стали раздавать еду из приношений. Его тоже не обошли. Ему досталось не так уж много, но больше того, к чему он привык. Он притворился паломником. Никто не задавал ему вопросов, и он прожил так первые несколько дней. Но потом его заметили. Расспросили. Он все рассказал. Служители храма не стали его прогонять. Именно один из этих служителей, добрый человек, предложил деду сделаться писцом. Он снабдил его всем, что было для этого нужно, – ручкой, перьями, чернилами и бумагой, – и дед пошел и сел вместе с другими писцами на мостовой перед дворцом махараджи.
Большинство тех, кто сидел рядом с дедом, писали на английском. Они составляли для людей разные прошения и помогали им заполнять официальные бумаги. Мой дед не знал английского. Он знал хинди и язык своего родного края. В городе было много людей, которые приехали оттуда же, откуда и он, спасаясь от голода, и теперь хотели связаться с родственниками, так что работы деду хватало и у других писцов он ее не отнимал. Кроме того, людей привлекала одежда жреца, которую он носил. Вскоре он стал неплохо зарабатывать и уже не ютился по ночам во дворе перед храмом. Он снял хорошую комнату и вызвал к себе семью. Благодаря своей работе и знакомствам среди служителей храма он узнавал все больше и больше новых людей и вскоре получил выгодное место писца во дворце махараджи.
Эта работа была надежной. Платили за нее не очень много, зато можно было не бояться, что тебя уволят, да и народ относился к писцам махараджи с почтением. Мой отец легко перенял этот образ жизни. Он выучил английский, закончил школу и вскоре поднялся по служебной лестнице гораздо выше своего отца. Он стал одним из секретарей махараджи. Таких чиновников было много. Они носили красивые ливреи, и в городе к ним относились как к маленьким божкам. Думаю, отец хотел, чтобы я тоже выбрал этот путь и продолжил начатое им восхождение. Ведь он как будто вернулся к той спокойной жизни, какую вели при храме наши предки до тех пор, пока деду не пришлось бежать из родных мест.
Но во мне была какая-то бунтарская жилка. Может быть, я слишком часто слушал, как дед рассказывал о своем побеге и о своем страхе перед неизвестным, о тех ужасных днях, когда он погрузился в себя и не видел, что происходит вокруг. С возрастом мой дед стал чаще сердиться. Тогда он говорил, что члены нашего древнего клана вели себя очень глупо. Они видели приближение беды, но не сделали ничего, чтобы спастись. Он и сам, говорил дед, откладывал свой побег до последнего момента; вот почему, приехав в большой город, он был вынужден прятаться во дворе храма, как подыхающее с голоду животное. Для него это было очень сильное выражение. Слушая его, я забеспокоился. У меня появилось смутное подозрение, что жизнь, которую все мы ведем в большом городе, при дворе махараджи, не продлится долго, что эта безопасность тоже кажущаяся. Такие мысли нагоняли на меня ужас, потому что я не знал, как мне защитить себя от грозящего краха.
Видимо, я созрел для политической деятельности. Тогда вся Индия кишела политиками. Но в штате махараджи не существовало движения за независимость. Оно находилось под запретом. И хотя нам были известны громкие имена и громкие события, мы наблюдали за всем этим как бы со стороны.
Я поступил в университет. Предполагалось, что я получу степень бакалавра гуманитарных наук, а потом, если повезет, стипендию махараджи, которая позволит мне заниматься дальше техникой или медициной. Потом я должен был жениться на дочери директора колледжа. Все распланировали за меня. Я плыл по течению, и мне было все равно. В университете я ленился все больше и больше. Я не понимал курса гуманитарных наук. Я не понимал "Мэра Кастербриджа" – ни поведения персонажей, ни того, в какое время происходит действие романа. С Шекспиром было лучше, но я не знал, что делать с Шелли, Китсом и Ворд-свортом. Когда я читал этих поэтов, мне хотелось сказать: "Но это же просто ложь. Никто так не чувствует". Профессор заставлял нас записывать свои лекции. Он диктовал их, страницу за страницей, и поскольку он старался сделать их покороче, а от нас требовал, чтобы мы записывали все слово в слово, мы никогда не слышали от него фамилии «Вордсворт» целиком. Это почти все, что я запомнил из его лекций, – он всегда говорил только первую букву, «В» вместо «Вордсворт». «В» сделал то-то, «В» написал то-то.
В общем, я очутился в тупике: чувствовал, что надежность нашего положения обманчива, не хотел ничего делать, ненавидел учебу и знал, что в стране происходят большие события. Я обожал великие имена борцов за независимость. Мне было стыдно за свое бездействие и за то, что меня готовят к такой рабской жизни. И году в 1931-м или в 1932-м, когда махатма призвал студентов бойкотировать высшие учебные заведения, я решил последовать этому призыву. И сделал даже больше. Я устроил во дворе перед университетом маленький костер из "Мэра Кастербриджа", Шелли, Китса и профессорских лекций и ушел домой ждать бури, которая должна была обрушиться на мою голову.
Но ничего не случилось. Похоже, моему отцу никто ничего не сообщил. Даже декан – и тот смолчал.
Наверное, мой костер потух раньше времени. Книги ведь не так легко сжечь: для этого надо, чтобы огонь как следует разгорелся. Кроме того, перед университетом была вечная толкотня, а рядом проходила шумная улица, так что моей возне в дальнем углу могли попросту не придать значения.
Я стал чувствовать свою бесполезность острее, чем когда бы то ни было. В других областях Индии действовали великие люди. Последовать за этими великими людьми, даже увидеть их хотя бы мельком было бы для меня блаженством. Ради того, чтобы приобщиться к их величию, я отдал бы все что угодно. А здесь была только рабская жизнь при дворе махараджи. Ночь за ночью я размышлял о том, что мне следует сделать. Я знал, что всего годом-двумя раньше сам махатма в своем ашраме прошел через подобный кризис. Очевидно, живя там спокойной, будничной жизнью, окруженный всеобщим восхищением, он на самом деле испытывал глубокую тревогу и гадал, как поднять страну в едином порыве. И его осенило: ему в голову пришла чудесная идея "соляного похода", долгого марша от его ашрама к морю за даровой солью.
Так, оставаясь в безопасности у себя дома, при отце – придворном в ливрее, и ради спокойствия делая вид, что моя учеба в университете продолжается, я наконец почувствовал прилив вдохновения. Я абсолютно не сомневался в том, что найденное мною решение правильно, и готов был выполнить его любой ценой. А решил я ни больше ни меньше как принести себя в жертву. Причем это должна была быть не бессмысленная жертва под влиянием момента – любой дурак может прыгнуть с моста или броситься под поезд, – а нечто более продолжительное, жертва, которую одобрил бы сам махатма. Он часто говорил о том, что деление на касты – это зло. Никто не возражал ему, но очень немногие сделали из его слов практические выводы.
Мое решение было простым. Я решил повернуться спиной ко всем своим предкам, этим оголодавшим под чужеземным гнетом глупцам-священникам, о которых мне рассказывал дед, опровергнуть все глупые надежды моего отца на то, что я дослужусь до высокого чина при дворе махараджи, все глупые надежды директора колледжа на то, что он выдаст за меня свою дочь. Я решил повернуться спиной ко всем этим видам смерти, растоптать их и совершить единственный благородный поступок, который был в моей власти, – а именно найти девушку как можно более низкого происхождения и взять ее в жены.
Одна такая уже была у меня на примете. Она училась там, откуда я ушел, но кто она, я не знал. Раньше я никогда с ней не разговаривал. Я едва замечал ее. Она была маленькая, с грубыми чертами лица – почти дикарка на вид, совсем черная, а два ее больших верхних зуба выделялись своей белизной. Иногда она носила что-то очень яркое, а иногда – очень темное и некрасивое, почти сливающееся по цвету с ее черной кожей. Она наверняка принадлежала к самой низшей касте. Махараджа выделил людям из этой касты – их называли «неполноценными» – несколько стипендий. Он славился своей набожностью, и назначение этих стипендий было одним из его благочестивых поступков. Об этом я, собственно, и подумал, когда впервые увидел эту девушку в лекционном зале с ее книгами и тетрадями. На нее смотрели многие. Она не смотрела ни на кого. Потом я видел ее часто. Она держала ручку как-то неумело и по-детски старательно записывала лекции профессора о Шелли и о том самом «В», о Браунинге, Арнольде и значении монолога в "Гамлете".
Это слово – монолог – вообще доставило нам много неприятностей. Профессор произносил его тремя или четырьмя разными способами, в зависимости от настроения, и когда он проверял, хорошо ли мы знаем его лекции, каждый из нас употреблял тот вариант, который ему казался правильным, – получалось, как говорится, "кто в лес, кто по дрова". Для многих из нас литература была полна трудностей такого рода. Я почему-то думал, что девушка, которая учится на стипендию (она ведь училась на стипендию), должна понимать больше других. Но однажды профессор задал ей вопрос – обычно он не обращал на нее особенного внимания, – и я убедился, что она понимает намного меньше. Она практически не знала, в чем состоит сюжет «Гамлета». Все, что она оттуда помнила, – это слова. Она считала, что действие пьесы происходит в Индии. Профессор с легкостью высмеял ее, и те, кто был в зале, тоже стали смеяться, точно сами понимали гораздо больше.
После того случая на лекции я начал внимательнее присматриваться к этой девушке. Она и притягивала меня, и отталкивала. Безусловно, она происходила из самых низов. Разбираться в том, кто ее близкие, ее родня и чем они занимаются, было бы невыносимо. Когда подобные люди являлись в храм, их не пускали в святилище – во внутреннее помещение со статуей божества. Жрец, отправляющий службу, никогда не подумал бы дотронуться до этих людей. Он бросал им священный пепел, как бросают еду собакам. Разные мысли такого рода приходили мне в голову, когда я размышлял об этой девушке, которая чувствовала на себе чужие взгляды и никогда не отвечала на них своим. Она держалась как могла, но сокрушить ее ничего не стоило. И постепенно мой интерес к ней стал сопровождаться едва заметным сочувствием, желанием посмотреть на мир ее глазами.
Этой девушке я и решил сделать предложение, а потом прожить жизнь в ее обществе и таким образом принести свою жертву.
В нашем городе была чайная, или кафе, которую часто посещали студенты. Мы называли ее гостиницей. Она находилась в переулке неподалеку от главной улицы, и цены там были очень низкие. Если ты просил официанта принести сигареты, он клал на столик открытую пачку, где было пять штук; ты брал сколько хотел и платил только за них. Там я однажды и увидел ту девушку в темной, некрасивой одежде – она сидела одна за столиком, покрытым круглыми пятнами от стаканов, под потолочным вентилятором. Я подошел и сел за ее столик. Я думал, что ей это польстит, но она почему-то испугалась. И тогда я сообразил, что она может и не знать, кто я такой: я ведь ничем не выделялся среди своих сокурсников, и она могла меня не запомнить.
Так что с самого начала я получил своего рода предостережение. Но я ему не внял и сказал ей:
– Я видел тебя в английской группе.
Может быть, мне не стоило говорить именно это. Она могла подумать, что я был свидетелем ее унижения в тот раз, когда профессор пытался заставить се рассказать о «Гамлете». Она ничего не ответила. Худой официант с лоснящимся лицом, в очень грязной белой куртке, которую он носил много дней подряд, подошел к нам, поставил перед девушкой мокрый стакан воды и спросил, чего я хочу. Это помогло справиться со смущением мне, но не ей. Она очутилась в странном положении, да еще при свидетелях. Ее очень темная верхняя губа медленно и влажно – как улитка, подумал я, – скользнула по крупным белым зубам. Впервые я заметил, что эта девушка пользуется пудрой. Ее лоб и щеки были покрыты тонким белым налетом; из-за этого ее черное лицо казалось матовым, и было видно, где кончается пудра и снова начинается блестящая кожа. Я почувствовал отвращение, стыд, жалость.
Я не знал, о чем с ней беседовать. Я не мог сказать: "Где ты живешь? Кто твой отец? Есть ли у тебя братья? А они чем занимаются?" Все эти вопросы породили бы неловкость, и к тому же мне, честно говоря, вовсе не хотелось знать ответы. Эти ответы столкнули бы меня в яму, а я туда не хотел. Так что я сидел, потягивал кофе, курил тонкую дешевую сигарету из пачки, положенной передо мной официантом, и просто молчал. Случайно посмотрев вниз, я наткнулся взглядом на ее худые черные ноги в дешевых тапочках и снова удивился тому, как тронуло меня это зрелище.
Потом я стал ходить в чайную как можно чаще. Всякий раз, увидев там эту девушку, я садился за ее столик. Мы не разговаривали. Однажды она вошла позже меня. Она ко мне не подсела. Я не знал, как быть. Я подумал об остальных посетителях чайной, о том, что впереди у этих людей обычная, спокойная жизнь, и, честно говоря, слегка испугался – минуту-другую я даже размышлял, не отказаться ли мне от идеи пожертвовать своей жизнью. Для этого достаточно было никуда не пересаживаться. Но потом, подстегнутый смутным желанием довести дело до конца и раздраженный равнодушием девушки, я встал и пересел за ее столик. По-видимому, она ждала этого и, кажется, даже чуть подвинулась, точно освобождая мне место.
Так прошел целый семестр. Мы не говорили друг с другом, не встречались за пределами чайной, но между нами возникла какая-то особенная связь. На нас стали косо посматривать в чайной, и я начал ловить на себе эти взгляды, даже когда бывал там один. Девушка отчаянно робела. Я видел, что она не знает, как вести себя под этими осуждающими взглядами. Но то, что нагоняло на нее робость, вызывало у меня какое-то странное удовлетворение. Я воспринимал осуждение со стороны всех этих людей – официантов, студентов, обычных посетителей – как первый сладкий плод своего самоотречения. И это был только первый плод. Я знал, что впереди меня ждут еще более жестокие битвы, еще более суровые испытания и еще более сладостные награды.
Первая серьезная битва не заставила себя ждать. Однажды в чайной девушка сама заговорила со мной. Я привык к молчанию между нами – оно казалось самым безупречным способом общения, – и такая решимость со стороны человека, которого я считал неполноценным, сбила меня с толку. Вдобавок меня неприятно поразил ее голос. Только теперь я понял, что на занятиях – даже в тот раз, когда профессор пытал ее насчет «Гамлета», – я слышал от нее лишь невнятное бормотание. В этой же интимной обстановке, за чайным столиком, ее голос оказался не мягким, тихим и приятным для слуха, как того можно было ожидать от существа столь маленького, хрупкого и застенчивого, а, наоборот, громким, хриплым и резким. Именно такой голос связывался в моем представлении с людьми ее сорта. Но я думал, что она как студентка университета могла бы и избавиться от этого недостатка.
Я возненавидел ее голос сразу же, как только его услышал. Уже не в первый раз я почувствовал, что тону. Но этот страх был непременным спутником жизни, на которую я себя обрек, и мне было ясно, что сдаваться нельзя.
Я был так занят этими мыслями – ее решительностью, ее отталкивающим голосом (он подействовал на меня так же, как вид ее крупных белых зубов и напудренной черной кожи), страхом за себя, – что мне пришлось попросить ее повторить то, что она сказала.
– Кто-то сообщил моему дяде, – повторила она.
Дяде? Я чувствовал, что она не имеет права увлекать меня в эти зловонные глубины. Кто этот ее дядя? В какой дыре он живет? Даже произносить само слово «дядя», которое прочие люди употребляют, говоря о тех, кто, возможно, дорог их сердцу, было с ее стороны бесцеремонностью.
– Кто твой дядя? – спросил я.
– Он в профсоюзе рабочих. Он подстрекатель. Она употребила английское слово, прозвучавшее в ее устах очень странно и как-то язвительно. В нашем штате не велась пропаганда откровенного национализма – махараджа наложил на нее запрет, – однако и у нас были в ходу эти полунационалистические уловки, когда взамен обычных грубых определений пользуются другими словами, более приятными на слух, вроде «рабочих» или «трудящихся». Тогда я сразу понял, кем она может быть. Ее родство с профсоюзным лидером объясняло, почему она получила стипендию от махараджи. В своих собственных глазах она была важной и влиятельной личностью, имела хорошие перспективы.
– Он говорит, что соберет против тебя демонстрацию, – сказала она. Кастовое угнетение.
Это устроило бы меня как нельзя лучше. Таким образом все узнали бы о том, что я отверг старые ценности. Это доказало бы всем мою приверженность идеям махатмы, мою готовность к самопожертвованию.
– Он говорит, что соберет против тебя демонстрацию и сожжет твой дом, продолжала она. – Весь народ видит, как ты садишься со мной в этой чайной уже которую неделю. Что ты собираешься делать?
Я по-настоящему испугался. Я знал, как ведут себя эти подстрекатели. И сказал:
– А что, по-твоему, я должен делать?
– Ты должен где-нибудь меня спрятать, пока все не уляжется.
Я возразил:
– Но это значит похитить тебя.
– Ты должен это сделать.
Она была спокойна. Я походил на утопающего.
Всего каких-нибудь несколько месяцев тому назад я был обыкновенным ленивым студентом университета, сыном придворного, жившим вместе с отцом в государственном доме средней категории, восхищался великими деятелями нашей страны и сам мечтал стать великим, не видя из-за убожества окружающей жизни никакого способа начать свое восхождение к величию; я был способен только на то, чтобы слушать песни из фильмов и поддаваться вызванным ими эмоциям, да вдобавок ослаблен известным стыдным пороком (о нем я больше ничего не скажу, ибо такие вещи распространены повсюду) и вообще угнетен ничтожностью нашего мира и рабским характером нашего существования. Теперь же моя жизнь изменилась практически во всех отношениях. Я был похож на ребенка, после дождя увидевшего отражение неба в луже: чтобы пощекотать нервы, зная при этом, что мне ничего не грозит, я тронул эту лужу ногой, а она вдруг превратилась в бурный поток, который закружил меня и понес прочь. Вот что я почувствовал всего через несколько минут. И за эти же несколько минут преобразилось мое видение мира: он перестал быть скучным, заурядным местом, где ходят и работают заурядные люди, и превратился в место, изобилующее невидимыми потоками, которые в любой момент могут смыть неосторожного. Вот что пришло мне на ум, когда я смотрел на эту девушку. И все в ней стало выглядеть по-другому: худые черные ноги, крупные зубы, очень темная кожа.
Мне нужно было сообразить, где ее спрятать. Это была ее идея. Ни гостиница, ни пансион, конечно, не годились. Я стал думать о знакомых. Друзей семьи и университетских приятелей пришлось отмести сразу. Наконец я вспомнил о владельце одной скульптурной мастерской. Она издавна была связующим звеном между городской фабрикой и храмом моих предков. Я часто посещал эту мастерскую и был знаком с ее владельцем – маленьким пыльным человечком в очках. Он казался слепым, но лишь потому, что и очки его всегда покрывал слой каменной пыли. Во дворе мастерской постоянно трудились десять-двенадцать рабочих – низкорослые, голые до пояса, самые обыкновенные на вид, они долбили молотками по резцам, а резцами по камню, издавая одновременно двадцать или двадцать четыре разных звука. Среди такого шума нелегко было находиться. Но я подумал, что моя девушка вряд ли обратит на это внимание.
Резчики по камню принадлежали к средней касте – они не считались людьми низкого происхождения, но аристократы смотрели на них сверху вниз, – и для моей цели это было как раз то что надо. Многие из них жили в домиках при мастерской вместе со своими семьями.
Когда я пришел, владелец мастерской трудился над сложным чертежом храмовой колонны. Как всегда, он был рад меня видеть. Я посмотрел его чертеж, он показал мне другие, и я, улучив момент, заговорил о девушке из неполноценных, которую родные выгнали из дому с угрозами, так что теперь ей некуда деться. Я старался говорить как можно увереннее. Мастер знал о моем происхождении. Он никогда не заподозрил бы связи между мной и такой девушкой, а я еще намекнул, что действую по поручению одной очень важной персоны. Всем было известно, что махараджа благоволит к неполноценным. И хозяин повел себя как человек, понимающий, что к чему в этом мире.
В задней части его склада, где хранились разные каменные фигуры, статуи и бюсты, была маленькая комнатка. Этот пыльный коротышка в слепых очках был талантливым скульптором. Он делал не только изваяния божеств – сложная работа, требующая большой точности, – но и статуи реальных людей, живых и умерших. Он сделал множество махатм и других героев патриотического движения и изготовил по фотографиям множество бюстов чьих-то отцов и дедов. Некоторые из этих бюстов были в настоящих очках, которые раньше носили усопшие. В окружении всех этих каменных лиц мне всегда становилось не по себе. Правда, меня успокаивало сознание того, что у каждого божества есть какой-нибудь изъян, так что их страшное могущество не может стать реальностью и сокрушить нас всех.
Мне очень хотелось поселить девушку в мастерской насовсем, но я по-прежнему боялся подстрекателя, ее дяди. И чем дольше она там жила, тем труднее мне становилось отослать ее прочь; тем сильнее казалось, что мы связаны на всю жизнь, хотя я и пальцем до нее не дотронулся.
Сам я жил дома. Я ходил в университет и делал вид, что посещаю занятия, а потом иногда отправлялся в мастерскую. Я никогда не задерживался там надолго, иначе ее владелец мог бы что-нибудь заподозрить.
Наверное, моей девушке было нелегко там жить. Однажды, когда я пришел в ее каморку без света, где на всем лежал слой пыли, проникающей сюда со двора, – даже кожа девушки была припорошена ею, точно пудрой, – она показалась мне совсем печальной.






